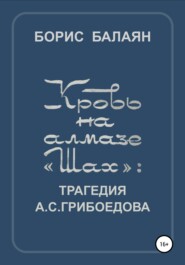 Полная версия
Полная версияКровь на алмазе «Шах»
Шах понимал, что Россия скорее всего не станет воевать на два фронта и из двух зол выберет меньшее – откажется от контрибуции, которую Иран должен был ей выплатить386. С другой стороны, будучи человеком осторожным и нерешительным, Фатх-Али-шах опасался последствий новой войны с Россией. Выжидая пока Турция добьется успеха, он лавировал во внешней политике и закрыл глаза на антирусский заговор среди своего окружения. Материалы архива полковника Коссоговского о беседе, которая произошла 30 января 1829 г. между шахом и главным евнухом Манучехр-ханом, подтверждают участие шаха в заговоре.
Когда муджтехид Мирза-Месих отправился в соборную мечеть, чтобы повести оттуда толпу к русской миссии, Манучехр-хан узнал об этом и в гареме обо всем рассказал шаху. Последний ответил, что он все знает и что уже приказал Зель-эс-Султану, в случае нападения на русскую миссию разогнать народ387. Это означает, что шаху было заранее известно о заговоре и что он создавал только видимость принятия мер для предупреждения разгрома миссии, когда на деле его приказание тегеранскому губернатору было практически невыполнимо, так как предусматривало разгон толпы только после нападения на русскую миссию. «Руководители Ирана, – признает Абдул Рази, – не выполнили своих обязанностей по прекращению бунта»388, а заговорщики делали все, чтобы шах не изменил своего намерения попустительствовать им: с этой целью они задержали в пути (до убийства Грибоедова) предназначенные для шаха подарки царя.
Грибоедову было известно о заговоре за несколько дней до разгрома миссии. Это подтверждается содержанием русской ноты, переданной 29 января иранскому МИД389. Кроме того, о готовящемся заговоре Грибоедов был заблаговременно предупрежден евнухом Манучехр-ханом, отправившем с этой целью к посланнику свою мать Воски Хатун Ениколопову и племянника Сулейман-хана Меликова (старшего), которые были убиты во время разгрома.
Несмотря на то, что А. С. Грибоедов отклонил все предложения о выезде, несовместимые с достоинством российского посла, остался в миссии и мужественно погиб на посту, 15 ноября 1958 г. тегеранская газета «Эттелаат» пыталась навести тень на поведение посланника перед смертью.
Ссылаясь на фиктивного «участника» разгрома русской миссии, старосту иранской деревни Рустамабад Гамбара Али, анонимный корреспондент этой газеты утверждает, будто Грибоедов бежал из миссии и, чтобы скрыться, отвлекал внимание погромщиков тем, что на их глазах «извлекал из мешка и разбрасывал по сторонам массу золотых монет, однако народ арестовал посланника в его же доме» (?), (где посланника уже не было. – Б. Б.), «потом разрушил этот дом и убил Грибоедова»390. Этой версии противоречит заявление иранского историка Абдула Рази: «Грибоедов был жертвой своей чрезмерной гордости и высокомерия»391.
Дезинформация тегеранской «Эттелаат», опубликовавшей ложную версию о Грибоедове, была частично связана и с сенсационными публикациями материалов об иранских старцах. Корреспондент этой газеты, нашедший в Рустама-баде Гамбара Али, не удовлетворился тем, что по паспорту ему было 130 лет. Для того, чтобы придать этому вопросу политический характер, он сфабриковал легенду о «Деревенском старосте, получившем у бога 150 лет жизни», т. к. иначе Гамбар Али не мог бы быть участником разгрома русской миссии в 1829 г. Задача корреспондента облегчилась тем, что совершенно неграмотный старик не помнил своего возраста, а запись даты рождения, сделанная его отцом на обложке корана, бесследно исчезла вместе с священным писанием392. Таким образом, 30 января 1829 г., когда был убит А. С. Грибоедов, Гамбару Али, если даже судить по его паспорту, было только 10 лет, что ставит под сомнение его показания. Изучение источников убеждает нас еще и в том, что вложенные в уста Гамбара Али путаные сведения относятся не к Грибоедову, а к первому секретарю миссии Ивану Сергеевичу Мальцову, который в одном из своих донесений рассказал о том, как он во время разгрома миссии спрятался в комнате тавризского мехмандара Назар-Али-хана и спасся тем, что двумя тысячами рублей подкупил охранявших эту комнату фаррашей, а последние не дали погромщикам проникнуть в комнату хана393, в которой, как установил С. В. Шостакович, кроме И. С. Мальцова находился и курьер русской миссии Гасратов.
Не отличается оригинальностью и концепция современного иранского писателя Мохаммеда Хеджази, отстаивающего распространенную в литературе официальную версию царизма. В книге «Наша родина» Хеджази утверждает: «…Поскольку Мальцов и Макдональд уже доказали, что Грибоедов был виновен в своей смерти, иранским историкам незачем пересматривать этот вопрос»394.
Однако, пытаясь снять вину с иранского правительства, Хеджази противоречит себе, когда пишет, что Хосров-мирза был отправлен в Петербург для принесения извинений после того, как «вина» Грибоедова была установлена Мальцовым и Макдональдом. Непоследовательность этой аргументации очевидна, так как принцу незачем было ехать в Петербург и приносить извинения, если бы Каджары не были виновны в убийстве Грибоедова.
Факты не оставляют сомнений в том, что после разгрома русской миссии Фатх-Али-шах отправил в Тебриз ряд писем Аббас-мирзе и другим принцам с расчетом, что эти письма будут перехвачены и прочитаны русской разведкой и создадут в Петербурге впечатление непричастности шаха к убийству Грибоедова. Русский перевод этих писем опубликован еще в 1910 г. в XXX томе «Кавказского сборника»395 без указания на обстоятельства, при которых они стали достоянием русского командования.
В распоряжении министра Нессельроде, наряду с переводами этих шахских фирманов, имелись десять донесений Мальцова, в которых опровергались легенды шаха и которые неопровержимо свидетельствовали о виновности самого шаха и тегеранских властей. Кроме того Паскевич дважды (23 февраля и 23 марта 1829 г.) писал графу Нессельроде, что нельзя считать достоверными «сведения персиян». Паскевич указывал также, что разгром миссии был подготовлен и осуществлен «партией, желающей войны», что преступление было «обдуманным последствием самого вероломного коварства» с целью вовлечь шаха в новую войну или отдалить от иранского престола Аббас-мирзу в пользу одного из его братьев, возглавлявших вместе с Аллах-Яр-ханом партию войны396.
Николай I и его дипломаты, опасаясь войны на два фронта, в начале весны 1829 г. не хотели ссориться с Ираном, и потому оставили безнаказанным убийство Грибоедова. Изучение документов искупительной миссии Хосров-мирзы в Петербург показывает, что Нессельроде и Паскевич знали о виновности шаха в убийстве Грибоедова, но преднамеренно создавали ложное впечатление непричастности тегеранского двора и английской дипломатии.
Современная иранская историография почти не учитывает русскую и особенно советскую литературу о гибели А. С. Грибоедова, несмотря на то, что в многочисленных работах советских историков397 содержится много новых фактов и доказательств несостоятельности официальной версии царизма, сводившей тегеранское преступление к «опрометчивым порывам усердия покойного Грибоедова».
Между тем публикация новых и старых иранских версий о гибели Грибоедова продолжается с прежней интенсивностью. В работе об иранских авторах, опубликованной в 1975 г. Д. С. Комиссаровым, рассматривается отношение иранской историографии к данному вопросу во второй половине 60-х годов (1966-1969 гг.). Обращают на себя внимание попытки историков X. Навваба и И. Теймури свести все дело об убийстве А. С. Грибоедова к двум вопросам, отвлекающим от политических мотивов преступления. Во-первых, к мести Аллах-Яр-хана Асаф-эд Довле за «отнятых у него двух наложниц», а во-вторых – к действиям религиозных шиитских фанатиков и в первую очередь моджтахеда Хаджи Мирза-Месиха. Все это делается для того, чтобы заговору придать локальный характер и отвести от иранского правительства обвинение в причастности к убийству русского посланника398.
Заслуживает внимания сообщение X. Навваба о том, что накануне и в день разгрома русской миссии Асаф-эд-Довле вел переговоры с врачом и дипломатом английской миссии Макнейлем, и замечание И. Теймури о том, что люди этого шахского зятя выкрикивали у здания миссии: «Господин приказал убить русского посла»399. Д. С. Комиссаров напоминает в связи с этим, что идея «пугнуть русских» была подана шаху министром иностранных дел Аболь-Хасан-ханом, а просьба Мирза-Якуба о возвращении на родину оказалась удобным предлогом для подогревания фанатичным духовенством неграмотных людей против «неверных», т. е. русских400. Представляется объективным и опровержение иранским историком Мехди Бамдадом ложной версии о том, что пленные были причиной убийства Грибоедова. Мехди Бамдад обратил внимание на то, что разгром русской миссии и убийство А. С. Грибоедова произошли после того, как был убит Мирза-Якуб, а наложницы Асаф-эд-Довле были отправлены к Мирзе-Месиху.
Знакомство с иранской историографией 70-х годов показало, что публикации о гибели А. С. Грибоедова иранских авторов продолжаются, с той, однако, разницей, что в этих работах все больше используются исследования советских историков.
В середине 1976 г. в тегеранской полуофициальной газете «Кейхан» было опубликовано свыше 27 отрывков из книги Юрия Тынянова «Смерть Вазир-мухтара».
Известно, что в этой книге (1927-1928) Тынянов поставил перед собой задачу: разгадать и объяснить «загадку» Грибоедова, выявить личные и общественные предпосылки его трагедии.
Судьбу Грибоедова, так и не увидевшего свою комедию ни в печати, ни на сцене (кроме ереванской импровизации), и катастрофу, которой завершилась его жизнь, Тынянов связывал с характером декабристского движения и с последствиями его крушения для общественной жизни России401. Однако иранский переводчик этой книги Мирза Сахаби по-своему прочел и понял книгу Тынянова о Грибоедове и символично озаглавил ее «Грибоедов писал новую трагедию», предоставляя иранским читателям возможность подумать, что речь идет о трагедии Ирана, постигшей его в результате провала фарисейской дипломатии и политики реваншизма Каджаров, приведших ко второй русско-иранской войне и Туркманчайскому миру.
Из новых авторов заслуживают внимание Шафи Джавади, опубликовавший в 1971 г. монографию «Тебриз и его окрестности»402, посвященную, главным образом, истории Иранского Азербайджана, и Хушанг Мехдеви – автор «Истории международных отношений Ирана»403, опубликованной в Тегеране в 1970 г.
Оба считают Грибоедова высокообразованным литератором и дипломатом. Они подчеркивают также, что он был братом жены ген. Паскевича и мужем дочери ереванского хана (начальника Армянской области. – Б. Б.) Чавчавадзе.
Евнуха Мирза-Якуба они считают провокатором за то, что он сознательно создавал конфликтную ситуацию, направляя в богатые дома, тесно связанные с шахским двором, своих людей из числа армян и грузин, выявлял бывших пленных мужчин и женщин и направлял их в русскую миссию для опроса и возвращения на родину, не имея на это никаких прав.
Хушанг Мехдеви упрекает Грибоедова за то, что он в русской миссии укрывал от иранских властей Мирза-Якуба, обокравшего шаха на 40 тыс. туманов, и хотел репатриировать в Закавказье двух грузинок – наложниц своего врага Аллах-Яр-хана Асаф-эд-Довле и других женщин, давно вышедших замуж за иранцев и имевших от них детей. Эти действия, отмечает Шафи Джавади, вызвали возмущение шиитского духовенства, часть которого, по его словам, находилась на службе у англичан или была сторонницей Англии. Это привело к объявлению Мирза-Месихом «священной войны» против Грибоедова, после чего вооруженные фанатики обстреляли русское посольство, убили Грибоедова и его сотрудников.
Погром русской миссии был, несомненно, использован некоторыми иностранными государствами, отмечает далее этот автор. Он вызвал сильнейшее беспокойство у Фатх-Али-шаха и Аббас-Мирзы, которые были не в состоянии начать новую войну против России404.
Таким образом, Шафи Джавади признает не без основания, что русскую миссию обстрелял вооруженный правительственный отряд, что исключает версию «о первом выстреле охранников миссии» и обвиняет иранское правительство в прямом участии в разгроме русской миссии. Вполне объективно ставится вопрос и о провокаторской роли в убийстве Грибоедова Мирза-Якуба и участии шиитского духовенства, находившегося большей частью на службе у англичан.
Хушанг Мехдеви считает, что русско-турецкая война, вызванная балканской проблемой, только на некоторое время утвердила шаха в мысли о необходимости возвращения Ирану потерянных областей в Закавказье, и удивляется в связи с этим осведомленности Паскевича, который быстро смог узнать о планах шаха и через Кудашева пригрозил Аббас-мирзе захватить Тегеран и уничтожить династию Каджаров, после чего искупительная миссия принца Хосров-мирзы доехала до Петербурга 405.
X. Мехдеви отмечает, что Грибоедов доставил шаху подарки царя, в числе которых были и военные трофеи минувшей русско-иранской войны, однако вел себя надменно, как победитель в побежденной стране и не захотел «поле боя заменить дружбой»406. Однако это заявление X. Мехдеви не увязывается с фактами и другим его заявлением о враждебном отношении к русским в Тегеране. Вражда нагнеталась Каджарами. Об этом говорилось и в грибоедовской ноте иранскому МИД накануне разгрома русской миссии.
Шафи Джавади не скрывает своего удовлетворения тем, что третьей русско-иранской войны не произошло. «К счастью, – заявляет он, – секретарь грибоедовской миссии Мальцов остался жив и в Тифлисе рассказал, что Грибоедов сам был виноват в своей гибели, а русское правительство было занято русско-турецкой войной, революционным движением балканских народов и тепло приняло Хосров-мирзу в Петербурге»407.
Это заявление показывает, в частности, что Ш. Джавади был знаком с официальной, опровергнутой наукой версией царизма о виновности Грибоедова в своей гибели. Более того, Ш. Джавади приводит в своей книге официальные тексты писем шаха и Аббас-мирзы к Николаю I и Паскевичу, а также текст речи Хосров-мирзы в Зимнем дворце. Однако при этом Джавади не пытается опровергнуть официальную версию царизма о виновности Грибоедова, построенную на этих письмах.
Расхождения в оценках мотивов убийства А. С. Грибоедова в советской историографии
Накопленные за 150 лет после убийства А. С. Грибоедова архивные и другие разноязычные материалы или подтверждают политические мотивы этого убийства, или указывают на различные обстоятельства, послужившие поводом для прикрытия политических причин. Не исключена поэтому необходимость пересмотреть и преодолеть существующие в отечественной и зарубежной литературе расхождения в оценке основных источников, которые наряду с тенденциозными наслоениями могут быть критически использованы. Нельзя, например, согласиться с Г. М. Петровым, который с недоверием отнесся к показаниям опозоренного своим трусливым поведением секретаря грибоедовской миссии И. С. Мальцова и выдвинул на первый план информацию Манучехр-хана Ениколопова. Нельзя также согласиться и с С. В. Шостаковичем, который, наоборот, ставит под сомнение достоверность информации Манучехр- хана и дает предпочтение донесениям Мальцова.
Оба эти подхода нуждаются в пересмотре ввиду важности обоих источников.
С. В. Шостакович является автором статьи «Происхождение «Реляции» о гибели грибоедовской миссии», в которой характеризует ее как англо-иранскую фальшивку. Однако это не помешало ему сослаться на ту же «Реляцию» и верить ей при оценке армянских источников. Цитируя секретаря тебризского мехмандара, С. В. Шостакович считает, что Манучехр-хан «играл слишком сомнительную роль», а Меликов был «шахским гонцом», который должен был просить Грибоедова отказаться от покровительства беглецам, чтобы избежать разгрома миссии. Шостакович утверждает, будто шах с помощью Меликова пытался запугать посланника, чтобы добиться выдачи Мирза-Якуба, а Манучехр-хан впоследствии выставил это за свою «рискованную попытку спасти посланника и его свиту от грозящей им опасности»408. Вся эта аргументация построена на одних предположениях. Поскольку «Реляция» выставлялась как иранская версия, подлинные авторы этой фальшивки, чтобы не выдать себя, не могли обвинить Манучехр-хана в измене. Никакой заместитель тебризского мехмандара не осмелился бы компрометировать Манучехр-хана при его жизни без риска быть наказанным. Поэтому неудивительно, что главный евнух показан в «Реляции» как преданный шаху соратник. Манучехр-хан и Меликов не угрожали и не запугивали Грибоедова, а лишь предупредили его о заговоре. Об этом говорит тот факт, что мать Манучехр-хана и его родственник, коллежский ассесор Сулейман-хан Меликов остались при Грибоедове и вместе с ним погибли через несколько часов. Как бы Манучехр-хан ни выслуживался перед шахом, он вряд ли ради этого принес бы в жертву свою мать и племянника.
О политической ориентации Манучехр-хана можно судить по отзывам о нем бывшего вице-консула в Иране Ваценко и адъютанта ген. Паскевича капитана Вольховского. Ваценко предлагал ген. Ермолову по всем вопросам обращаться, не к министру иностранных дел Мирза-Аболь-Хасаи-хану, а непосредственно к Манучехр-хану, исполнявшему в то время обязанности первого министра шаха. «Чтобы быть нам полезным, – говорилось в его донесении, – Мапучехр-хан не дает хода иранскому министру иностранных дел ни в чем»409. Капитан Вольховский тоже доносил ген. Паскевичу, что Манучехр-хан не может быть противником русских: «В начале войны его подозревали в приверженности к нам. Он более других имеет случаи видеть шаха, оттого его влияние значительно… Имея родственников на нашей службе, он не может быть равнодушным к благосклонности Вашего Высокопревосходительства»410. Все это говорит о том, что Манучехр-хан Ениколопов был русофилом, единственным иранским государственным деятелем, который дорогой для себя ценой пытался спасти от гибели А. С. Грибоедова и предотвратить разгром русской миссии. Достоверность переданной им Меликову информации о переговорах с шахом не вызывает сомнения. В связи с этим заметим, что исследователи путают двух Сулейман-ханов Меликовых. Например, Г. М. Петров, опубликовавший записки Мартирос-хана, ошибочно указывает, что «Сулейман-хан Меликов, работавший переводчиком в русском посольстве, по поручению своего дяди Манучехр-хана… явился лично к А. С. Грибоедову и предупредил его о грозящей опасности»411. В связи с этим Г. М. Петров столь же ошибочно обвиняет Мальцова в извращении фактов за то, что в рапорте он указал, что видел Меликова в разгар событий, тогда как видел его на рассвете 30 января412. Между тем из текста записок Мартирос-хана видно, что на рассвете 30 января к Грибоедову отправился не сын Давид-хана Меликова, т. е. не переводчик миссии Сулейман-хан, а его дядя (брат Давид-хана). Последний был убит вместе с Грибоедовым, а переводчик Сулейман-хан Меликов остался жив: предупрежденный об опасности, утром 30 января он не вышел на работу или появился в миссии после разгрома. Поэтому не исключено, что Мальцов 30 января видел не одного, а двух Сулейман-ханов Меликовых: старшего из них – рано утром, а младшего, который был переводчиком, – позднее. Выяснение этого вопроса важно еще и в том отношении, что кроме трех уже известных сотрудников русской миссии (Мальцов, Ибрагим-бек и Гасратов), оставшихся в живых после событий 30 января 1829 г., выявлен четвертый сотрудник – переводчик миссии Сулейман-хан Меликов, которого обычно считали убитым во время погрома.
Известно, что Мальцов в течение трех часов штурма миссии укрывался в квартире мехмандара Назар-Али-хана, охраняемой подкупленными фаррашами. По рассказу находившегося в Иране тифлисского купца Егора Бежоева, Мальцов спрятался в сундуке413, а по другой версии, якобы рассказанной самим Мальцевым своему знакомому в Ницце, фарраш «завернул Мальцова в ковер и поставил его в угол комнаты, где стояли другие ковры, свернутые в трубки»414. Из комнаты Назар-Али-хана Мальцов мог видеть немногое и в основном догадывался о происходивших событиях. Большое здание миссии состояло из четырех дворов, и Мальцов мог наблюдать только первый этап штурма или то, что происходило в первом дворе миссии, к которому примыкала квартира тебризского мехмандара и, конечно, не мог видеть динамики событий в четвертом дворе, где находилась квартира Грибоедова. С другой стороны, первый секретарь миссии знал о всех обстоятельствах до окружения миссии, и в этом ценность его донесений, если исключить все то, что он вынужден был писать по принуждению, в духе официальной версии. Переводчик миссии Сулейман-хан Меликов тоже не был очевидцем всех событий. Однако переданные ему Манучехр-ханом сведения о его переговорах с шахом накануне и в ходе разгрома миссии представляют большую ценность, так как разоблачают шаха и его сына, губернатора Тегерана Зель-эс-Султана как главных организаторов преступления.
Нам кажется вероятным, что дополнительные, более подробные сведения о разгроме миссии Мальцов и Меликов получили позднее, несмотря на то, что объективную информацию получить было нелегко, так как каждый из погромщиков, которых трудно было найти, опасался личной ответственности за соучастие в убийстве А. С. Грибоедова и других сотрудников миссии.
Следует учитывать также, что в секретном донесении на имя Паскевича И. Мальцов признался, что лгал иранцам и притворялся их сторонником для того, чтобы его не отправили в «сообщество товарищей…, погибших в Тегеране»415.
В этой связи отметим еще, что для сбора сведений у Меликова было больше возможностей, чем у Мальцова, который после убийства Грибоедова оставался в Тегеране только 17 дней, к тому же жил под наблюдением в шахском дворце и в основном получал информацию в интерпретации пристрастных иранских политических деятелей.
Иначе сложилась судьба С. Меликова, который остался в Тегеране и, поступив в иранскую армию, дослужился до генеральского звания. Впоследствии сведения о разгроме миссии он передал начальнику штаба шахской казачьей бригады армянину Мартирос-хану. Записи последнего, датированные 30 июля 1897 г., хранились в архиве командира этой бригады полковника Коссоговского416.
Мы считаем, что Д. С. Комиссаров с излишним доверием относится к непроверенным и неправдоподобным версиям И. О. Симонича, который, будучи подполковником, командовал в 1826 г. Грузинским гренадерским полком в Тифлисской губернии. Он мечтал о дипломатической карьере и, подделываясь под настроения и мнение Паскевича, рассказывал в корыстных целях о Грибоедове небылицы, свидетелем которых быть никак не мог, и в конце концов добился своей цели (в 1833-1838 годах Симонич был полномочным министром в Иране). Так, не имея достоверных сведений, он считал, что шах после каждой аудиенции, которую давал Грибоедову, уходил столь рассерженный, что даже «легко можно было предвидеть какое-либо несчастье. Часто при своих придворных случалось ему выкрикивать: «Кто меня избавит от этой собаки-христианина!»417.
В другом случае подполковник И. О. Симонич якобы узнал, что иранский министр иностранных дел Мирза Аболь-Хасан-хан Ширази в доме Эмин-эд-Довле (где Симонич никогда не был) предложил заставить народ кричать и возмущаться Грибоедовым, а русскому правительству написать в Петербург: «Вы прислали нам человека, который не умеет вести себя у нас. Смотрите, чего он придерживается. Как бы не случилось великого несчастья. Отзовите его, если желаете сохранить доброе согласие между двумя странами. Поверьте мне, – якобы прибавил министр шаха, – я знаю Европу и особенно Россию: он будет отозван»418.
Другой затянувшийся спор между исследователями связан с оценкой «Реляции» – анонимного рассказа секретаря мехмандара Назар-Али-хана.
Если В. Т. Пашуто и С. В. Шостакович характеризуют эту «Реляцию» как английскую фальшивку419, то О. И. Попова, солидаризируясь со взглядами П. Е. Ефремова, считает эту «Реляцию» одним из ценнейших источников», а себя «обязанной» за этот документ секретарю Назар-Али- хана420.
Не останавливаясь подробно на анонимной личности автора «Реляции» – этого всезнающего, философствующего писаря («мирзы»), который не в пример всем русским дипломатам миссии один остался с Грибоедовым в его комнате, был очевидцем его убийства, а сам остался цел и невредим, заметим: во-первых, что основное назначение «Реляции» (независимо от ее происхождения) состояло в попытке прикрыть политические причины преступления и отвести обвинение от Каджаров и англичан, а во-вторых, установлено, что в день разгрома миссии мехмандара, а следовательно и его заместителя, в миссии не было – их еще накануне вызвал к себе тегеранский губернатор.
О. И. Попова не могла не убедиться в том, что «Реляция» обвиняет Грибоедова в его гибели из-за пленных, несмотря на то, что пленные были предлогом, а не причиной убийства; в неуважении к персоне шаха (дескать, посол утомлял шаха продолжительными беседами; не называл его «царем царей» и вырвал из его гарема евнуха); в безволии Грибоедова и «в чрезмерных продовольственных и денежных поборах» местного населения сотрудниками грибоедовской миссии. «Реляция» даже оправдывает тегеранского губернатора, отказавшегося спасти миссию от погрома, а О. И. Попова приводит в своей книге все эти выдержки из «Реляции» – «ценнейшего», по ее мнению, «источника», хотя и признает при этом, что знание Грибоедовым всех тонкостей иранского придворного этикета бесспорно, а несоблюдение его Грибоедовым в тревожной тегеранской обстановке – невероятно421. Нам остается добавить, что и противоречия в весьма запутанной и совершенно ошибочной концепции Поповой бесспорны.



