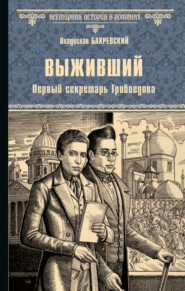
Полная версия:
Выживший. Первый секретарь Грибоедова
Повествователь ищет сочувствия своему негодованию среди знакомых: надо же наказать столь чудовищное равнодушие. А никому дела нет до какого-то чинуши. И было сказано искателю правды о начальнике-соне: «В должности ему не предписано вас спасать». И тогда повествователь зарекается перед всей Россией: «Заеду туда, куда люди не ходят, где не знают, что есть человек, где имя его неизвестно!»
О русском народе речь.
У Грибоедова, отъехавшего в коляске от Чудово, мысль о постыдном безразличии в России не только к судьбам обывателей, но и к людям даровитейшим, устремилась к Николаю Михайловичу Карамзину.
О смерти автора двенадцатитомной «Истории государства Российского» Александр Сергеевич узнал на другой день после освобождения с гауптвахты Главного штаба.
Поселился у Жандра на Мойке, в доме Военно-счетной экспедиции. И уже 3 июня его навестил князь Петр Вяземский. Вяземский собирался сопровождать овдовевшую Екатерину Андреевну Карамзину в Дерпт. Екатерина Андреевна – сестра князя по отцу. Она ехала в Прибалтику со всеми детьми. Их семеро, младшему два года.
Тут и открылась Грибоедову горькая правда о жизни самого известного в России писателя, да к тому же на должности историка государства.
Николая Михайловича любила императрица-мать. Он читал ей свою «Историю». Отрывок из XII тома об осаде поляками Троице-Сергиевой лавры слушал и Николай Павлович, в ту пору великий князь. Чтение это было в середине ноября 1825 года. Через месяц, 14 декабря, Николай Михайлович Карамзин с утра и до позднего вечера был в Зимнем дворце, возле Марии Федоровны. Он явился на присягу Николаю I, а угодил на восстание декабристов.
Императрица-мать несколько раз посылала Николая Михайловича на Дворцовую и на Исаакиевскую площади. Следил за настроением толп народных: прибывает ли опасность быть царям убитыми, или пока все сносно. Мария Федоровна просила историка быть в мундире. Он шел к людям без шубы, в башмаках, в шелковых чулках, и в него, не больно разглядывая, кто это, – вельможа он и есть вельможа, – петербургская чернь бросала камни и поленья.
От хождений историк изнемог. Своими ногами творить историю – тяжкое дело. В конце дня император Николай I расстрелял мятежников из пушек и просил Николая Михайловича написать статью о происшедшем для газеты «Северная пчела».
Господи! У великого историка не то что на писания – на жизнь сил не осталось. Сочинял статью Блудов, почитавший себя учеником Карамзина. В обществе «Арзамас» у него было имя Кассандра. Сразу по восшествии на престол Николай назначил его делопроизводителем следствия над декабристами.
Хождение из Зимнего дворца в народ дорого обошлось Карамзину. Простудился, а последние три года он болел, должно быть, чахоткой. Болезнь обострилась, и врачи советовали немедленно переехать во Флоренцию. Карамзин написал царю письмо. Своих средств на переезд в Италию у него не было. Семья большая, четыре сына и три дочери. Крестьяне – а у его жены тысяча душ в нижегородском имении – оброка не платили. По счастью, посольство во Флоренции покидал дипломат Сверчков.
Вяземский рассказывал Грибоедову о жизни знаменитого историка с горьким изумлением. 23 года Карамзин назывался государственным историографом, но жалованье не получал. Карамзин просил государя определить его на освободившееся место в посольстве.
– Мне Елизавета Николаевна открыла семейную тайну! – говорил Вяземский. – Карамзин сам ходил в лавку покупать чай и сахар. Подешевле искал товар.
Царь, узнавши о нищенстве Карамзина, приказал министру финансов назначить историку и его семейству пенсию: 50 тысяч в год.
Указ этот был дан за 9 дней до смерти Николая Михайловича.
Грибоедов глядел на счастливые березы. Листва ликовала, подставляясь радостному летнему солнцу. Он вдруг догадался: улыбается. А надо было плакать. И чтоб слез хватило на все будущие времена России.
О человеке, столь близком царям, известном всему царству, и во веки веков всегда думалось: какой счастливец, какое благополучие! А оно вон какое…
О, русское писательство!
«Горе от ума» все еще в тетради. Тысячу раз переписано поклонниками, но ведь не издано! А могло бы уже радовать зрителя во всех городах, где театры. И сему быть! Поставят! Поставят во всех театрах России. Когда-то… А вот что оно такое – «когда-то»? Чье? Быть ли этому «когда-то» великой судьбой или до конца мира останется горемыкой?
В коляске с правдолюбом
В Вышнем Волочке Грибоедов ходил смотреть воду в шлюзах.
Радищева шлюзы изумляли истинным изобилием Русской земли. Свидетели тому – суда, наполненные плодами земледелия.
Но на то он и Радищев! Даже изобилие тотчас превратил в жестокий укор. Поведал о земледельце, поставившем свое хозяйство по высшей европейской мере. Земля у него обильно рожала, работники трудились, как муравьи, а он заботился о них. Давал им столько хлеба, чтобы сохранять жизнь крестьянам. Заканчивая главу, Радищев призывал сокрушить орудие труда такого хозяина, сжечь его риги, овины, житницы и развеять пепел по нивам.
Автор «Горя от ума» не видел для народа лучшего времени ни сегодня, ни в будущем. Декабристы, Карамзин, тем более Пугачев – не понимали разницы между сутью русского мужика эпохи царя Алексея Михайловича и имперской России Петра Великого.
У боярина Бориса Ивановича Морозова, воспитателя Алексея Михайловича, в селе Большое Мурашкино – село недалеко от Волги – крепостные держали полторы сотни лавок, две сотни полулавок, а были и четвертные лавки. Мало того, среди этих крестьян, крепостных, дюжина мужиков имела собственные корабли. На этих кораблях с низовья Волги везли в Россию соль, белуг, осетров, товары из Персии, с Кавказа.
При Петре Великом, охотнике до окон в Европу, русский крестьянин – раб. При Екатерине Великой – собственность, часть имения, которую можно продать, разлучая мужа с женой, отца и мать с детьми.
Дворяне, напялившие по приказу Петра парики, чтоб уж совсем быть розными со своею собственностью, отказались от родного языка. Не решились господа довести дело до конца: превратить церковные служебники из церковно-славянских во французские. Дело, может, и сделалось бы, но Господь Наполеона наслал. И лупили мужики всласть и чужих и своих. Мундиры что на французах, что на дворянах одинаковые – петушиные.
Память у Грибоедова была замечательная. Въезжая в Новгород, держал в голове эпиграфом начало главы «Новгород»: «Гордитеся, тщеславные созидатели градов, гордитесь, основатели государств; мечтайте, что слава имени вашего будет вечна; столпите камень на камень до самых облаков; иссекайте изображения ваших подвигов и надписи, дела ваши возвещающие… Время с острым рядом зубов смеется вашему кичению». Автор «Путешествия» помянул Ивана Грозного, разорившего Новгород ради покоя всего царства своего, дал ответ, что оно такое – «право гражданское»: «…кто едет на почте, тот пустяками не занимается и думает, как бы лошадей поскорее промыслить». О вексельном праве пускался в размышления. Дело придумано спасительное для честной торговли, но люди строгое сие право очень скоро превратили в пустую бумажку.
Тут все было жизненной обыкновенностью, а ведь миновало два царствия.
Чуть ли не единственный раз за путешествие Радищев пустился описывать жизнь стоящего на пути города. Этим городом был Валдай. По счету от Петербурга – тринадцатая почтовая станция. Но ведь и от Москвы тринадцатая. Валдай – это Иверский монастырь, построенный патриархом Никоном, добытая на Афоне Иверская икона Божьей Матери. Это чудо о соловье, запевшем свои трели из алтаря на большой праздник.
Радищев поминает и патриарха, и его монастырь на острове среди озера, но свой сказ начинает с деяния царя Алексея Михайловича, заселившего город Валдай пленными поляками. Это как бы присказка, а дальше у Радищева следует загадочная фраза: «Сей городок достопамятен в рассуждении любовного расположения его жителей, а особливо женщин незамужних», и тотчас и отгадка мудрено сказанного: «Кто не бывал в Валдаях, кто не знает валдайских баранок и валдайских разрумяненных девок? Всякого проезжающего наглые валдайские и стыд сотрясшие девки останавливают и стараются возжигать в путешественнике любострастие, воспользоваться его щедростью на счет своего целомудрия».
Далее следует рассказ о бане, где путешественника девицы холят и лелеют, а потом от банной-то жары и сами освобождаются от одежд.
Радищев нотацию не прочел ни девкам Валдая, ни девкам соседней станции Зимнегорье. Разве что поспешно проехал мимо размалеванных красавиц с баранками, да и то потому, что лета молодые прошли.
Торжок
Торжок был милым захолустным городом, но Радищев почему-то именно в Торжке принялся рассуждать о цензуре. Самому Грибоедову было не до цензуры и даже о Радищеве хотелось забыть. Молва приписала Радищеву самоубийство. Настроенный сделать жизнь справедливой, император Александр, юный летами, разрешил взять в комиссию по составлению законов отбывшего шесть лет сибирской ссылки автора книги, напугавшей матушку Екатерину («Этот мятежник хуже Пугачева»). Напугал Радищев толкованиями законов и непосредственного своего начальника, да так, что тот пригрозил еще одной ссылкой.
Грибоедов не верил версии самоубийства Радищева. Автор «Путешествия» умер, хвативши стакан водки. Вот только водка оказалась «царской» – смесь азотной и соляной кислоты. Что-то вытравлять собирались домашние. Не хотелось о таком даже думать… Дорога утомила Александра Сергеевича. Ждал, как некогда ждал Радищев, – Всесвятское.
– Ямщик, погоняй! Москва!
21 июня, в среду, Грибоедов прибыл в Москву. Остановился у матери. Ее дом стоял на Новинском бульваре. Напугал Анастасию Федоровну. Изнемогший, лицо будто снегом припорошено, глаза погасшие. Однако ж в день прибытия в Москву смог встретиться с Александром Алексеевичем Мухановым – адъютантом командующего Второй армией, но и поэтом. Александр Алексеевич в тот же день написал брату Николаю о встрече с человеком для них дорогим. Николай, будучи адъютантом Петербургского генерал-губернатора Голенищева-Кутузова, много помогал сидельцу гауптвахты. Письмо было тревожное: «Грибоедова здесь видел, он бледен, как смерть. И похудел очень».
Одолев болезнь в конце июля, Грибоедов был в гостях у Степана Дмитриевича Нечаева. Ради встречи с автором «Горя от ума» из Рязани приехал поэт Михаил Макаров. Он печатал стихи под именем Юлиана Залыбедского. Знал Грибоедова со студенческих лет. Вместе вольнослушателями посещали лекции университетских профессоров. Восторженный поклонник «Горя от ума», не сдерживая чувства признательности, прямо-таки взмолился:
– Александр Сергеевич! Не отдавайте своего времени на множество важнейших дел. Писаний, в том числе и писем. Создавайте, ради всех нас, любящих ваше слово, ваш светлый ум, нечто равное «Горю от ума».
И увидел, как помрачнело лицо великого человека.
– Душа моя темница. Все эти последние дни я писал трагедию из вашей рязанской истории.
Трагедия «Федор Рязанский» если была рождена, хотя бы сердцем поэта, то, скорее всего, существует в духовном мире.
Нам, земным, оставлены для прочтения стихи июльских, августовских дней 1826 года.
Вернувшись от Нечаева, пораженный искренним чаянием Макарова обрести от друга юности нечто этакое под стать «Горю от ума» – записал стихи:
Не наслажденье – жизни цель.Не утешенье – наша жизнь.О, не обманывайся, сердце!О, призраки, не увлекайте!Рескрипты императора
16 июня вероломным ударом большими силами падишах Персии захватил земли от Грузии до Каспия. Осадил крепости Баку и Кубý.
Рескриптом от 2 августа 1826 года было оглашено высочайшее веление: «Выступить немедленно против персиян».
10 августа генерал-адъютанту Паскевичу, генерал-лейтенанту Денису Давыдову было приказано ехать в Грузию, не дожидаясь коронационных торжеств. Уже по дороге Паскевича догнал еще один приказ императора Николая I: «Присвоить генерал-адъютанту звание генерала от инфантерии и назначить командующим Отдельным Кавказским корпусом. Одну из своих столь важных должностей генерал Ермолов утратил.
Точно не известно о Грибоедове, выезжал ли он из Москвы вместе с Паскевичем.
16 августа Александр Сергеевич на одни сутки останавливался в тульском имении своего друга Бегичева. Паскевич ждал Грибоедова в Воронеже.
Со Степаном Никитичем автору «Горя от ума» было о чем поговорить, тем более после четырехмесячной отсидки на гауптвахте Главного штаба. Важно одно: из мятежников Грибоедов был произведен в надворные советники и отправлен на прежнюю службу, а это Кавказ, куда ссылали декабристов и сослали даже полк. Но Кавказ – призвание Грибоедова.
А Москва ждала великих праздников, посвященных коронации Николая I.
И – война. 2 августа император получил донесения генерала Ермолова о коварном нападении персидских войск на русские границы Прикаспия и Закавказья.
16 июня персидские армии хлынули на маломощные русские посты и в считаные дни заняли большую часть Грузии и все побережье Каспия. Захватили с ходу крепости Елисаветполь, Ленкорань, Салияны. Осадили Баку и Кубý.
Рескриптом от 2 августа 1826 года император повелел «выступить немедленно против персиян». Рескрипт от 10 августа обязал генералов Ивана Паскевича и Дениса Давыдова ехать в Грузию, не дожидаясь коронационных торжеств.
Грибоедова Паскевич брал с собой. Александру Сергеевичу пришлось срочно абонировать для матери и сестры ложу в Большом театре, где ожидали, в связи с царскими торжествами, гастролей итальянской оперы.
Отъезд в Грузию был назначен на 15 августа, пришлось написать письмо директору московских театров Михаилу Николаевичу Загоскину.
Уже 16 августа Грибоедов встретился со Степаном Никитичем Бегичевым в его имении Екатерининское, в Тульской губернии. До Куликова поля, открытого Нечаевым, отсюда 15 верст. Но времени на разъезды не теряли. На другой день Александру Сергеевичу пришлось отправиться в Воронеж, где его ожидал Паскевич. Дорога шла через Ефремов, Елец, Задонск. От Воронежа часть пути Грибоедов ехал вместе с Паскевичем: Павловск, Черкесск, Ставрополь… Паскевич уехал к войскам, а Грибоедов от Мечетского редута до Тифлиса путешествовал с генералом Давыдовым. По дороге обогнали батальон лейб-гвардии Сводного полка. Здесь служили прощенные государем декабристы из Московского и Гренадерского полков.
Во Владикавказе генералу Давыдову предоставили квартиру в крепости. Грибоедов остановился у майора Николая Гавриловича Огарева, командира пионерной роты путей сообщения на Военно-Грузинской дороге. Во Владикавказе оставили коляски, далее на дрожках – на дороге обвалы. Вещи навьючили на лошадей: в конвое было двенадцать казаков. Обедали в Дарьяле, через Казбек направились в Коби. Здесь Грибоедов встретился с Шимановским. Во время ареста, по приказу Ермолова, Шимановский просматривал бумаги Александра Сергеевича. Все сомнительное пошло в печь. В Тифлис генерал Давыдов и надворный советник Грибоедов прибыли 3 сентября. А 8-го – в Москве, в Большом театре, в честь коронации Николая I, состоялся грандиозный бал-маскарад, костюмированное шествие, величание, концерты, и в этот же день была представлена комедия Грибоедова «Молодые супруги».
10 сентября Грибоедов прощался с Денисом Давыдовым. Генерал получил назначение временно возглавить войска на границе Эриванского ханства.
Пошла полоса побед русской армии над персами. В Грузии генерал Мадатов разгромил при Шамхоре армию Мохаммеда, сына Аббаса-мирзы. Аббас-мирза с остатками войск из-под Елисаветполя бежал за Аракс. Победил мирзу Паскевич, а Ермолов освободил от осады Баку и Кубý. Все владения России в Закавказье были очищены от иранского присутствия.
В Грузии шли праздники во славу побед Николая I.
Дотошные следствия, выуживание оговоров, сибирская каторга, увенчанная казнью пятерых, – Господу Богу были неугодны. Государь уготовил для себя царствие неуютное. Для народа голодное, для России – духовно нищенское. Императору Николаю I хотелось явить себя грозным, и грозы было много. Вот только народ русский – он же русский! – Грозным упрямо называл царя Ивана Васильевича. Немчин Николай простолюдьем был наречен Палкиным. Николай Павлович Шапку Мономаха не успел примерить, а у царства – две войны. В захолустье, однако ж, сражения идут с персами, с турками, а где персы и турки – непременно торчит британский нос.
Война требует единоначалия, но Ермолов не был угоден государю.
Паскевич в пути пятый день, в Воронеже где-нибудь. Но уже произведен в полные генералы, заодно удостоен должности командующего Особым Кавказским корпусом.
Возвышение свое фаворит Николая Павловича отработал в считаные недели. Загнал за Аракс Аббаса-мирзу, третьего сына шаха, вот уже как десять лет наследника престола. Еще через полтора месяца Иван Дмитриевич Талызин, капитан, адъютант Ермолова, прибывший по какой-то надобности в Петербург, был приглашен на доверительную беседу к управляющему III отделением фон Фоку. А сведения, добытые в этой беседе, были доведены до генерал-фельдмаршала Дибича, начальника Главного штаба. Дибича очень даже занимали отношения между Грибоедовым и Ермоловым. Талызин сообщил: «Более всех Ермолов любит Грибоедова за его необыкновенный ум, фантастическую честность, разнообразность познаний. И за любезность в обращении». Не утаил Талызин от высокого начальства и откровенного признания Грибоедова: «Сердар Ермул – так зовут азиаты хозяина Кавказа – упрям как камень. Ему невозможно вложить какую-нибудь идею».
О невозможности увлечь Ермолова идеей – слово скрытой защиты своего кумира от подозрительного недоверия высших властей.
Недоверие, ничем не обоснованное, жило само по себе. Для Грибоедова – Чацкого было понятно: Россию Николай превратит в духовное захолустье.
Мудрый Бегичев, радуясь не только освобождению Александра Сергеевича из-под стражи, но прежде всего возвращению на прежнюю должность, да с повышением в чине, – заронил в сердце автора «Горя от ума» простенькую мысль: «Живи как все».
Грибоедов наставления старого друга принял. Спасительная неизбежность.
Война клубила смерчем на Кавказе. От России далеко. Москва интеллектуальная жила великими запросами литературы.
Царь и поэт
Русская литература – родина Духа русских: творение всех земель, всех словесных стихий России. Однако ж всполохи, обновляющие жизнь и слово, – явление истинно московское.
8 сентября 1826 года, в День Рождества Богородицы – зенита коронационных торжеств, – император Николай I полуденный час своего государственного времени отдал Пушкину. Пушкину в тот день было 27 лет, 3 месяца и 2 дня. Поэт для табели о рангах – нуль. К тому же поэт, отбывающий ссылку. Фельдъегерь доставил Александра Сергеевича в Москву, в Кремль, в дворцовую палату Чудова монастыря – резиденцию государя в праздники коронации – из Михайловского, захолустья Псковской губернии. Не Сибирь, не Пустозерск – родовое имение Ганнибалов, деда и прадеда Пушкина.
Под приглядом Богородицы сошлись царь и поэт. Русский эфиоп и русский немец – некоронованный монарх слова и коронованный государь всея России. Говорили о сокровенном: об истине русского народа.
Пушкин с государем, казнившим пятерых декабристов, не хитрил. Еще в апреле Жуковский писал Александру Сергеевичу в Михайловское: «В бумагах каждого из действовавших (речь о мятежниках) находятся стихи твои. Это худой способ подружиться с правительством».
Пушкин истину не застил, сказал царю как есть: «Был бы 14 декабря в Петербурге, стал бы в ряды мятежников».
О Пушкине царь сказал сатрапу Блудову: «Умнейший человек России» и представил Пушкина ближайшему окружению как «своего».
Пушкин – единственный поэт Русской земли, признанный единственным царем в истории России за вершину духа. Царь принял правду Пушкина и удостоил милостей: разрешил жить в Москве, освободил от общей цензуры. В цензоры Пушкину царь определил самого себя.
Литература эпохи Николая I: Карамзин, Крылов, Жуковский, Пушкин, Гоголь, Грибоедов, Лермонтов, Тургенев, Кольцов, Ершов, Даль, Белинский, Хомяков, Бенедиктов, Батюшков, Погорельский… Убиты: Рылеев, Полежаев.
Живопись и скульптура эпохи Николая I: Айвазовский, Карл Брюллов, Антон Бруни, Орест Кипренский, Василий Тропинин, Иван Мартос, Александр Иванов, Генрих Семирадский, Венецианов, Федотов, Клодт.
Музыка эпохи Николая I: Глинка, Алябьев, Даргомыжский, Верстовский.
Кутилы и труженики
По неотступному требованию Дмитрия Веневитинова профессор Погодин обещал быть на ужине Сергея Александровича Соболевского. Пиршество Соболевского для разумного человека, тем более для профессора университета, испытание чрезмерное и чрезвычайное. Где Сергей, там Иван – парочка гремучая, а коли рядом с ними Веневитинов, это уже тройка взбесившихся скифских лошадей. Профессор ехал к Соболевскому вздыхаючи. Уж очень все молоды. Веневитинову семнадцать, Мальцову девятнадцать, Соболевскому 10 сентября отпраздновали 23, но ведь и самому… Четверть века Михаил Петрович Погодин переступил год тому назад. Переступивши, достиг кафедры профессора.
Вознице приказал везти себя на Малую Дмитровку, в хоромы Александра Николаевича Соймонова, отца Соболевского.
Соймоновых Москва почитала благодарно. Александр Николаевич встречает всякий день в церкви. Однако ж и на балах он чуть ли не ежедневно, коли балам не время – застолий в Москве без счета. Венчанная супруга – величавая Мария Александровна – среди «боярынь» Москвы слывет наипервейшей богатством и красотою. Сам Соймонов знаменит не службами, прежде всего родом: предок Петр Александрович Соймонов – статс-секретарь государыни Екатерины Великой, царствования нынешним людям памятного.
Дом на Малой Дмитровке – желанный вельможам, но открыт для людей всяческого чина и разумения, а также нищим.
Законная супруга Соймонова – дочь генерал-лейтенанта Левашова. Но матушка Соболевского, Анна Ивановна, тоже генеральша, вдова бригадира Лобкова, да к тому же внучка обер-коменданта Санкт-Петербурга Степана Лукича Игнатьева. Анна Ивановна очень даже богатый человек, а потому сын ее богат и учен.
Дом на Малой Дмитровке стал своим и для архивных юношей.
Профессор улыбнулся, вспомнив рассказ Соболевского о том, как его учили в детстве. Дворянину надобно знать иноземные языки. Матушка учила сына говорить сразу на трех языках. Учила не для науки – для жизни, и Сергей Александрович говорил, читал, писал по-английски, по-французски, по-немецки, не ведая о существовании грамматик. Язычок у Соболевского не ядовит, как у гадюки, но – змеиный. Вспомнил эпиграмму на Дмитриева – племянника знаменитого поэта:
Михайло Дмитриев помре,Он был чиновник в пятом классе,Он – камер-юнкер при двореИ камердинер на Парнасе.Обиженный уличил Соболевского в неточности: прибавил класс – и получил добавку к эпиграмме:
Так, я в твоем ошибся классеНо, верно, в том не ошибусь,Что ты – болтушка на Парнасе,Плевательница для мух!Однако кто он на самом-то деле, этот Соболевский? Соблазнитель хорошеньких дам, из дарований – стишата и удивительная легкость владения языками. Без учителей, за полгода, освоил испанский, еще за два месяца – португальский. Латынь его – совершенная. Переводит на язык вечности «Историю» Карамзина.
…И тут профессор закричал вознице:
– Мы – не туда! Остановитесь! Нам не на Дмитровку! Соболевский теперь живет на Молчановке!
Извозчик сидел, опустя вожжи.
– Что же вы не трогаете вашу лошадь?
– А куда ехать-то?
– На Молчановку, к дому Рынкевичевой у Собачьей площадки.
– Ну, сие иное дело. Поехали.
И опять мысли потекли о Соболевском. Ведь совсем это не странно, что в ближайших его друзьях Александр Пушкин, Александр Грибоедов. Написавши очередную сцену «Горя от ума», Грибоедов мчался к Соболевскому прочитать только что созданное.
Талантливые люди прямо-таки тянутся к этому странному бездельнику. У Соболевского страсть к розыску редчайших книг, русскую поэзию он знает столь полно и глубоко – сам Раич прибегает к его консультациям. Однако, как сочинитель, Сергей Александрович предпочитает всем жанрам красного слова – эпиграмму. Тотчас вспомнилось:
Идет обоз с Парнаса,Везет навоз Пегаса.Этак Соболевский приветствовал книгу воспоминаний бездарного Сушкова «Обоз к потомству с книгами и рукописями».
И тут Михаил Петрович призадумался: с чего это позвали его на прием в канун Николина дня? Спроста у Сергея с Иваном ничего не делается: архивные юноши, любомудры… Архив Министерства иностранных дел – пристанище дворянских сынков, теплое местечко, где можно избавиться от службы в армии, переходя из класса в класс по чиновной лестнице, отсыпаясь всласть дома после балов, после бесшабашных пиршеств.
Итак, Сергей Александрович Соболевский, герб у него польский, возможно, купленный, – богач. Иван Мальцов о деньгах беспокойств тоже не имеет. Он, разумеется, дворянин, но капиталл имеет купеческий. У него фабрика хрусталя где-то во Владимирской области. Дворянство Мальцовы обрели по милости матушки Екатерины Великой. Дед и прадед Ивана на стекле разжились. Сам Михаил Петрович аристократ в первом колене. Отец – крепостной у Салтыковых, позже у графа Чернышова…



