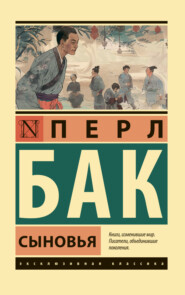
Полная версия:
Сыновья
– Где мои братья?
Кто-то побежал сказать обоим братьям, что младший брат уже здесь, и они вышли навстречу, не зная, как принимать его: с уважением, как почетного гостя, или как младшего брата и беглеца. Но когда они увидели его в этой одежде и четырех солдат позади, неподвижно дожидавшихся его распоряжений, они сразу стали учтивы, – так учтивы, как были бы с посторонним. Они кланялись и тяжело вздыхали, удрученные скорбью. Тогда Ван Младший, как и подобало, низко поклонился своим братьям, оглянулся и спросил:
– Где мой отец?
Тогда братья повели его во внутренний двор, где Ван Лун лежал в гробу под красным, шитым золотом покрывалом, и Ван Младший приказал своим солдатам остаться во дворе и один вошел в комнату. Услышав стук кожаных башмаков по каменным плитам, Цветок Груши быстро взглянула на вошедшего, поспешно повернулась лицом к стене и все время простояла отвернувшись.
Но Ван Младший не подал и виду, что заметил ее или узнал, кто она такая. Он поклонился гробу и потребовал траурные одежды, которые были для него приготовлены, хотя, когда он надел их, они оказались короткими, потому что братья не думали, что он такого высокого роста. Тем не менее он облачился в них, зажег две новые свечи, купленные им, и велел подать свежие кушания, чтобы принести их в жертву перед гробом отца.
Когда все было готово, он трижды поклонился отцу до земли и воскликнул, как подобало: «Отец мой!» Но Цветок Груши упорно отворачивалась к стене и ни разу не посмотрела, что он делает.
Выполнив обряд, Ван Младший встал и сказал по своей привычке отрывисто и резко:
– Нужно начинать, если все готово!
И тогда – странное дело! – там, где было столько сумятицы и шума, где люди бегали взад и вперед и без толку кричали друг на друга, теперь были тишина и готовность повиноваться, ибо в самом присутствии Вана Младшего и его солдат была сила, и хотя носильщики снова начали жаловаться, но уже не грубили, как Вану Старшему, и голоса их звучали мягко и умоляюще, а речи были разумны.
Но и тут Ван Младший сдвинул свои брови и так посмотрел на носильщиков, что голоса их замерли, и когда он оказал: «Делайте свое дело и знайте, что в этом доме с вами поступят справедливо!» – они замолчали и пошли к носилкам, словно у солдат с ружьями была какая-то волшебная власть.
Каждый стал на свое место, и наконец большой гроб вынесли во двор, обвязали веревками, продели под веревки шесты, гибкие, как молодые деревья, и носильщики подставили плечи под эти шесты. Были там и носилки для духа Ван Луна, и на них положили: трубку, которую он курил в течение многих лет, одежду, которую он носил, и портрет, написанный нанятым во время болезни Ван Луна живописцем, потому что до тех пор с него не писали портрета. Правда, портрет не был похож на Ван Луна, а изображал какого-то мудрого старца, но художник сделал все, что мог: намалевал густые усы и брови и бесчисленные морщины, какие бывают у стариков.
Процессия двинулась в путь, и тут женщины подняли плач и стон, и громче всех рыдала Лотос. Она растрепала волосы и, держа в руках новый белый платок, прикладывала его то к одному, то к другому глазу и, громко всхлипывая, кричала:
– Ах, нет больше моей опоры, нет моего господина!
А вдоль улиц густой толпой теснился народ, стараясь разглядеть, как в последний раз понесут Ван Луна, и, видя Лотос, все одобрительно шептали:
– Она достойная женщина и оплакивает хорошего человека!
А некоторые удивлялись, что такая грузная и толстая женщина плачет так усердно и громко, и говорили: «Какой же он был богач, если раскормил ее до таких размеров!» И все завидовали богатству Ван Луна.
Что касается невесток Ван Луна, то каждая из них плакала сообразно своему нраву. Жена Вана Старшего плакала с достоинством и не больше, чем должно, время от времени поднося платок к глазам, – да ей и не подобало плакать так много, как плакала Лотос. Наложница ее мужа, хорошенькая, полная женщина, взятая им в дом не больше года тому назад, следила, когда заплачет ее госпожа, и плакала вместе с ней. А жена Вана Среднего, крестьянка, забывала, что нужно плакать, оттого что в первый раз ее несли по городским улицам носильщики на плечах, глядела по сторонам на сотни мужчин, женщин и детей, теснившихся у стен и толпившихся в дворах домов, и ей вовсе не хотелось плакать, а когда она спохватывалась и закрывала глаза рукой, то смотрела украдкой сквозь пальцы и снова забывала о том, что нужно плакать.
Еще в старое время было сказано, что всех плачущих женщин можно разделить на три рода. Есть такие, которые возвышают голос и льют слезы, и про них можно сказать, что они рыдают; другие громко жалуются, но не проливают слез, и про них можно сказать, что они вопят, и есть такие, у которых слезы льются беззвучно, и это можно назвать плачем. Среди всех женщин, следовавших за гробом Ван Луна, среди его жен и жен его сыновей, и рабынь, и служанок, и наемных плакальщиц была только одна, которая плакала по-настоящему, и это была Цветок Груши. Она сидела в носилках, опустив занавеси, чтобы никто ее не видел, и плакала горько и беззвучно. Даже когда кончились торжественные похороны и Ван Луна опустили в могилу и засыпали землей, когда тростниковые дома и бумажные слуги превратились в пепел, а зажженные благовония дотлели и сыновья Ван Луна проделали установленные поклоны, а плакальщики проплакали, сколько полагается, и получили свою плату, когда все кончилось и земля высоким холмом поднялась над свежей могилой и уже никто не плакал, потому что все кончилось и плакать больше было незачем, – даже и тогда Цветок Груши продолжала молча лить слезы.
Возвращаться в городской дом она не хотела. Она вернулась в старый дом, и когда Ван Старший стал настаивать, чтобы и она жила вместе со всей семьей в городском доме, Цветок Груши покачала головой и ответила:
– Нет, здесь я прожила с ним дольше и была здесь счастлива, и он оставил мне это бедное дитя, чтобы я о ней заботилась. Она будет надоедать Первой Жене, если мы вернемся с вами, и меня Лотос тоже не любит, – лучше мы вдвоем останемся здесь, в старом доме моего господина. Тебе нечего о нас беспокоиться. Если мне что-нибудь понадобится, я попрошу у тебя, но мне нужно очень мало. Нам будет спокойнее жить со старым арендатором и его женой, и я выполню завет моего господина и буду заботиться о твоей сестре.
– Что ж, пусть будет так, если ты хочешь, – отвечал Ван Старший как бы нехотя.
Однако он был доволен, потому что жена его была против дурочки и говорила, что ее не годится держать во дворах, особенно там, где есть беременные женщины, и теперь, когда умер Ван Лун, Лотос и вправду стала бы придираться к ней, чего не смела делать при его жизни, и могли выйти нелады. И Ван Старший позволил Цветку Груши поступить по-своему, и она взяла дурочку за руку и повела ее в тот старый дом, где ходила за Ван Луном в его старости. Она поселилась там, заботилась о дурочке и не выходила никуда, разве только на могилу Ван Луна.
Да, с этого времени только она одна часто ходила к Ван Луну, потому что Лотос приходила на могилу мужа не чаще, чем требовалось приличиями, и старалась выбрать такие часы, чтобы люди могли видеть, как она выполняет свой долг. Но Цветок Груши ходила тайком, когда сердце у нее надрывалось от одиночества, выбирая такое время, чтобы никого не было поблизости, либо по ночам, когда все были дома и спали, или в те часы, когда все работали в поле. В такое время она брала дурочку и шла на могилу Ван Луна. Но она не плакала громко. Нет, она склоняла голову на могилу, и если плакала иногда, то не проронив ни звука, и только изредка шептала:
– О господин и отец мой, не было у меня другого отца, кроме тебя!
III
Хозяин земли умер и лежал в могиле, но забыть о нем было еще нельзя, потому что сыновья обязаны носить траур по отцу в течение трех лет. Старший сын Ван Луна, ставший теперь главой семьи, как нельзя более заботился о том, чтобы все делалось как следует и согласно приличиям, и когда был неуверен, так ли все идет, как нужно, спрашивал у жены. Ван Старший был крестьянским сыном и рос в деревне среди полей до того, как счастливый случай и собственный ум помогли его отцу разбогатеть и приобрести большой городской дом для всей семьи. И теперь, когда он приходил к жене тайно спрашивать совета, она отвечала холодно, словно презирая его за незнание, но все же отвечала ему толково, заботясь о том, чтобы ей не пришлось стыдиться за мужнину семью:
– Если табличка, где временно обитает его душа, повешена в большом зале, то нужно приготовить в чашах жертвенную пищу и поставить ее перед табличкой, а траур для всех нас нужно сделать так…
И она говорила ему, как и что следует делать, и Ван Старший слушал, а потом шел и распоряжался как будто от себя. Так для всех были приготовлены траурные одежды на второй срок траура, куплена материя и наняты портные. В течение ста дней сыновья должны носить белые башмаки, а потом им разрешалось надеть светло-серые или какого-нибудь другого неяркого цвета. Но шелковые одежды нельзя было носить ни сыновьям Ван Луна, ни их женам, пока не пройдут все три года и пока табличка, в которой упокоится на вечные времена душа Ван Луна, не будет надписана и поставлена на свое место между табличками его отца и деда.
Так распорядился Ван Старший, и по слову его были приготовлены траурные одежды для всех сыновей Ван Луна, их жен и детей. Теперь он старался говорить очень громко и властно, потому что стал главой дома и занимал по праву первое место в каждой комнате и везде, где ему приходилось сидеть вместе с братьями. Оба брата слушали его, и средний брат кривил свои тонкие губы, словно улыбаясь исподтишка оттого, что втайне он всегда чувствовал себя умнее старшего брата, – ведь это ему, среднему сыну, еще при жизни Ван Лун доверил управление землями, и он один знал, сколько у них арендаторов и каких доходов нужно ожидать с земли, а такое знание давало ему власть над братьями, по крайней мере, так он думал про себя. А Ван Младший слушался приказаний старшего брата, как человек, который привык повиноваться, когда это нужно, но сердце у него не лежало к тому, что он делал, и видно было, что ему хотелось поскорее уехать отсюда.
Сказать по правде, каждый из трех братьев едва мог дождаться того часа, когда будут делить наследство, – а все они были согласны, что его следует разделить: у каждого была тайная цель, ради которой ему хотелось получить свою часть наследства; ни Ван Средний, ни Ван Младший не согласились бы оставить всю землю в руках старшего брата и быть от него в зависимости.
У каждого из братьев были свои желания: старшему брату хотелось знать, сколько он получит и хватит ли ему на хозяйство, на обеих жен, на множество детей и на тайные удовольствия, в которых он не мог себе отказать. Среднему брату не терпелось, потому что у него были большие хлебные лавки, а деньги он отдал в рост, и ему хотелось получить на руки свою долю наследства, чтобы свободно распоряжаться ей и нажить еще больше. Младший же брат был такой странный и молчаливый, что никто не знал, чего ему хочется, а по его мрачному лицу ни о чем нельзя было догадаться. Но он заметно тревожился, по крайней мере было видно, что ему не терпится уехать, а что он станет делать с наследством, – никто не знал и не осмеливался спросить. Он был младший из трех братьев, но все боялись его, и каждый из слуг вскакивал с места вдвое скорее на его зов, чем для кого-нибудь другого; меньше же всего слуги торопились на зов Вана Старшего, несмотря на его властный и громкий голос.
Ван Лун умирал последним из своего поколения, – так долго и крепко держался он за жизнь, – и из его родственников не осталось в живых никого, кроме двоюродного брата, мошенника из бродячих солдат, который находился неизвестно где: знали только, что он один из вожаков бродячей шайки не то солдат, не то грабителей, служивших то одному генералу, то другому, смотря по тому, кто больше заплатит, а то и никому, если можно было грабить без предводителя. Братья были очень рады тому, что не знали, где находится их родственник, а еще больше обрадовались бы, узнав о его смерти.
Но так как больше не было никого из старших в роде, то в силу обычного права они должны были пригласить какого-нибудь достойного человека из соседей, чтобы он разделил между ними наследство перед собранием почтенных и честных горожан. Как-то вечером, когда они совещались, кому поручить это дело, Ван Средний сказал:
– Всего достойней доверия и ближе к нашей семье, разумеется, хлеботорговец Лиу, у которого я жил в учениках и чья дочь стала твоей женой, старший брат! Попросим его разделить наше наследство, он считается человеком справедливым и достаточно богат, чтобы не завидовать нам.
Ван Старший втайне был недоволен, что эта мысль не ему первому пришла в голову, и ответил с важностью:
– Мне хотелось бы, чтобы ты поменьше торопился, брат мой, – я только что собирался сказать то же самое. Пусть будет так, пригласим отца моей жены, матери моих сыновей. А все-таки я сам хотел это сказать, а ты всегда спешишь и говоришь, не дождавшись своей очереди.
Старший брат с упреком смотрел на среднего, громко сопя и надув толстые губы, а Ван Средний поджал губы, словно сдерживая улыбку. Ван Старший поспешно отвел глаза в сторону и спросил младшего брата:
– А ты как думаешь, младший брат?
Но Ван Младший взглянул на него своим надменным и рассеянным взглядом и ответил:
– Не все ли мне равно? Делайте, как хотите, только поскорей.
Ван Старший поднялся с места, словно спеша как можно скорее приняться за дело, хотя теперь, дожив до зрелых лет, он только терялся от спешки и даже спотыкался на ходу, – стоило ему заторопиться.
Наконец дело было улажено, и купец Лиу дал свое согласие, потому что всегда уважал Ван Луна как человека умного и дальновидного. Из соседей братья пригласили тех, кого считали достаточно знатными для себя, а из горожан тех, кто был побогаче и занимал высокое положение, и в назначенный день все они собрались в большом зале в доме Ван Луна и заняли места соответственно своему званию и старшинству.
Купец Лиу попросил Вана Среднего дать отчет о земле и деньгах, подлежащих разделу, и тот встал и передал Вану Старшему бумагу, на которой все это было написано, а Ван Старший передал ее купцу Лиу. Сначала тот развернул бумагу, оседлал нос большими медными очками и пробормотал все цифры про себя, и все молча ждали, когда он кончит. Потом он снова прочел бумагу, уже вслух, так что все сидящие в большом зале узнали, что Ван Лун перед смертью владел многими акрами земли, а всего было больше восьмисот акров, а в тех местах редко кому приходилось слышать, чтобы столько земли принадлежало одному человеку или даже одной семье, и уж, верно, об этом не слыхивали с тех пор, как семья Хуанов пришла в упадок. Вану Среднему все это было известно, и он не выказал удивления, но остальные не могли скрыть своего изумления, сколько ни старались приличия ради сохранить спокойное и неподвижное выражение лица. Только Вану Младшему, казалось, было все равно, – он сидел, как всегда, словно отсутствуя душой, и нетерпеливо дожидался, когда все это кончится и можно будет уехать туда, куда стремилось его сердце.
Кроме земель, оставались два дома, принадлежавшие Ван Луну: деревенский дом, стоявший среди полей, и большой городской дом, купленный им у престарелого главы дома Хуанов, когда род Хуанов пришел в упадок и сыновья его рассеялись по лицу земли. А кроме домов и земель, были деньги, розданные взаймы, деньги, вложенные в хлебную торговлю, и мешки с деньгами, лежавшие в тайниках, и всех денег было на сумму вдвое меньшую стоимости земель.
Но прежде чем приступать к дележу наследства между братьями, следовало выплатить, что полагалось, арендаторам и торговцам, а главное – двум наложницам, которых взял Ван Лун в течение своей жизни: Лотосу, которая была взята им из чайного дома ради ее красоты и ради его любви к ней уже в зрелые годы, когда ему надоела крестьянка-жена, и Цветку Груши, которая была рабыней в его доме, когда он взял ее, чтобы она утешала его на старости лет. Ни та, ни другая не была настоящей женой, а наложницей, наложницу же нельзя упрекать строго, если она станет искать себе мужа, когда господин ее умер, а она еще не слишком стара. Все же братья знали, что если наложницы не захотят уйти из дому, то имеют право оставаться в нем до самой смерти, и их нужно кормить и одевать. Правда, Лотос не могла уйти к другому мужу; будучи такой толстой и старой, она с радостью осталась бы на своем дворе. И когда купец Лиу вызвал ее, она поднялась с места возле дверей и, опираясь на двух рабынь, вытерла глаза рукавом и сказала самым жалобным голосом:
– Ах, кормилец мой умер, как могу я думать о ком-нибудь другом, и куда мне деваться? Я уже стара, и мне так мало нужно: пища, одежда да немного вина и табаку, чтоб утешить меня в горе, а сыновья моего господина щедры!
Купец Лиу посмотрел на нее ласково: он был такой хороший человек, что и всех других считал хорошими, он забыл, кто она такая и видел ли он ее раньше, – помнил только, что она жена почтенного человека, и сказал с уважением:
– Ты говоришь хорошо, так и следует: покойный был добрый хозяин, и это я слышу ото всех. Что ж, я решу так: тебе будут давать двадцать серебряных монет в месяц, а жить ты можешь по-прежнему на своем дворе; у тебя будут служанки и рабыни, тебя будут кормить, а сверх того давать ежегодно несколько штук материи.
Лотос старалась не пропустить ни слова и, услышав это, начала переводить глаза с одного брата на другого и, умоляюще стиснув руки, пронзительно завопила:
– Только двадцать? Как, только двадцать? Да этого мне не хватит на еду; у меня такой плохой аппетит, я не могу есть простую и грубую пищу!
Старый купец снял очки, посмотрел на нее с изумлением и сказал строго:
– Двадцать монет в месяц имеет далеко не каждая семья, и даже половины было бы довольно для многих семей, вовсе не бедных, когда глава семьи умер!
Тут Лотос заплакала уже непритворно, она плакала о Ван Луне и кричала:
– Зачем ты меня покинул, господин мой! Все меня бросили, а ты далеко и не можешь помочь мне!
Жена Вана Старшего стояла позади занавеса, а теперь отдернула его и знаками старалась показать мужу, как неприлично такое поведение перед лицом всех этих почтенных людей, и была в таком беспокойстве, что Ван Старший вертелся на стуле, делая вид, что не замечает жены, но в конце концов он вынужден был заметить, встал и завопил громко, стараясь перекричать Лотос:
– Господин, прибавь ей еще, только бы она не мешала нам!
Но Ван Средний не мог этого вынести, он встал и крикнул:
– Если давать больше, то пусть старший брат дает из своей доли. Это правильное решение: двадцати монет довольно, и даже больше чем довольно, все равно она их проиграет!
Он потому сказал это, что Лотос на старости лет пристрастилась к игре в кости и играла все время, когда не спала и не ела. Но жена Вана Старшего пришла в негодование и усиленно делала знаки мужу, чтобы он отказался платить, громко шепча:
– Нет, нет, вдовью часть следует выделить до раздела наследства! Почему мы должны больше о ней заботиться, чем другие?!
Поднялась суматоха, и миролюбивый старик-купец в смущении переводил глаза с одного на другого. Лотос ни на минуту не переставала вопить, и все мужчины растерялись от такого воя. Так продолжалось бы без конца, но тут Ван Младший возмутился и, неожиданно поднявшись с места, топнул тяжелым кожаным башмаком по черепичному полу и крикнул:
– Я прибавлю ей! Какая-нибудь горсть серебра ничего не значит. Мне надоело это слушать!
Это был хороший выход из положения, и жена Вана Старшего сказала:
– Ему это можно, он одинокий человек. Ему не нужно думать о сыновьях, как нам.
А Ван Средний улыбнулся, пожав плечами, словно говоря: «Что ж, не мое дело, если человек не умеет постоять за свое добро».
Но старый купец был очень рад и со вздохом достал платок и утерся, потому что дома у него жилось мирно, и он не привык к таким женщинам, как Лотос. Что касается Лотоса, то она, может быть, пошумела бы и еще, если бы не младший сын Ван Луна, который смотрел так грозно, что она решила замолчать. Она сразу замолчала и села на свое место, очень довольная собой, и хотя старалась горестно поджимать губы, но скоро забыла об этом, принялась разглядывать в упор всех мужчин и то и дело брала с подноса, который держала перед ней рабыня, арбузные семечки и грызла их крепкими, белыми и здоровыми, несмотря на старость, зубами. Она нисколько не стеснялась.
Так решена была судьба Лотоса. Тогда старый купец оглянулся и спросил:
– А где же вторая наложница? Я вижу, имя ее стоит здесь.
Он говорил о Цветке Груши, но никто из них не позаботился посмотреть, здесь ли она, и теперь все оглядывали большую залу, потом послали рабынь на женские дворы, но нигде в доме ее не оказалось. Тут Ван Старший вспомнил, что он совсем забыл позвать ее, и спешно послал за ней. Они дожидались ее около часа, пили в ожидании чай, прохаживались по зале, и наконец она пришла вместе со служанкой и остановилась в дверях зала. Но когда она заглянула внутрь и увидела мужчин, она не переступила порог, а, заметив среди них Вана Младшего, снова вышла во двор, и старому купцу пришлось самому идти к ней. Он посмотрел на нее ласково, но не прямо в лицо, чтобы смутить ее, и увидел, что она еще совсем молодая женщина, бледная и красивая, и сказал:
– Ты так еще молода, и никто тебя не осудит за то, что жизнь твоя еще не кончена; найдется и серебро, чтобы дать тебе хорошее приданое, – ты можешь вернуться домой и выйти за хорошего человека, делай, как знаешь.
Но ее такие речи застали врасплох, она не поняла их и, думая, что ее хотят куда-нибудь отослать, заговорила дрожащим и слабым от страха голосом:
– О господин, у меня нет дома, нет никого, кроме дурочки, дочери моего покойного господина, он оставил ее мне, и нам с ней некуда идти! Я думала, что нам можно жить в старом доме, а едим мы очень мало и носим только ситцевые одежды, шелковых я теперь никогда не надену, потому что господин мой умер, не надену до самой смерти, и мы никому в большом доме мешать не станем!
Старый купец вернулся назад и в изумлении спросил старшего брата:
– Кто эта дурочка, о которой она говорит?
И Ван Старший ответил с запинкой:
– Это наша сестра; бедняжка с детства не в своем уме, а отец мой и мать не морили ее голодом и не били, как делают другие с такими детьми, чтобы они поскорее умерли, и она жива и до сего дня. Отец мой приказал этой женщине заботиться о дурочке, и если она не выйдет замуж, дадим ей серебра и пусть живет, как ей хочется; она очень кроткого нрава и в самом деле никому не помешает.
И Лотос отозвалась неожиданно:
– Да, только не нужно давать ей много, потому что она привыкла к самой грубой пище и ситцевой одежде и всегда была рабыней в этом доме, пока мой господин не одурел на старости лет из-за ее белого личика, и уж, конечно, она сама приманила его, а что касается дурочки, то чем скорее она умрет, тем лучше.
Так говорила Лотос, и, услышав ее речь, Ван Младший посмотрел на нее таким яростным взглядом, что она запнулась и отвернулась в сторону, чтобы не видеть его черных глаз, и тогда он крикнул:
– Нужно и этой дать столько же, сколько старухе, – я прибавлю ей!
Но Лотос упрямилась и, не смея говорить громко, бормотала:
– Не годится старшей и младшей давать поровну, и к тому же она была моей рабыней!
Так она бормотала и, казалось, была готова завопить по-прежнему, и, видя это, старый купец поспешил сказать:
– Верно, верно, и я приговариваю двадцать пять серебряных монет старшей женщине и двадцать младшей.
И он вышел к Цветку Груши и сказал ей:
– Возвращайся домой и будь спокойна; ты можешь делать что хочешь, и каждый месяц будешь получать двадцать серебряных монет в свое распоряжение.
Тогда Цветок Груши поблагодарила его вежливо и от всего сердца, и бледные губы ее затрепетали; она вся дрожала, потому что до сих пор не знала, как с ней поступят, и теперь было облегчением узнать, что она может жить, как жила до сих пор, и не тревожиться.
Когда выделили вдовью долю, остальное было уже нетрудно, и старый купец продолжал свое дело, готовясь разделить земли, дома и серебро на четыре равные части и две из них отдать Вану Старшему как главе дома, одну Вану Среднему и одну Вану Младшему, когда младший сын неожиданно заговорил:
– Не нужно мне ни домов, ни земель! Земля опротивела мне еще с детства, когда отец хотел сделать меня пахарем! Я не женат, что мне делать с домом? Отдайте мне мою долю серебром, братья мои, а если я должен получить дом и землю, то купите их у меня и заплатите мне серебром.
Оба старших брата были поражены, услышав такие слова: где же слыхано, чтобы человек хотел получить все наследство серебром, которое так легко уплывает из рук, не оставляя следа, и отказывался от дома и земли, которые навеки останутся у него во владении? Старший брат сказал с важностью:



