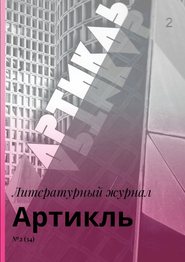
Полная версия:
Артикль. №2 (34)
– Чего ж ты тут выстаивал? Почему не зашёл, не поговорил? – участливым тоном спросила Нина Захаровна.
Он опустил голову и тихо, почти шёпотом, проговорил:
– Стеснялся…
– Стесняться надо не тебе, а твоему отцу-паразиту, – выпуская дым, произнесла Нина Захаровна.
Деликатным плевком она загасила окурок, бросила его в урну и скомандовала:
– Пошли.
Покупателей не было. Две другие продавщицы – тоже с жёлтыми волосами и накрашенными губами – стояли посреди торгового зала и разговаривали.
Нина Захаровна подвела его к ним и пересказала его историю. Продавщицы слушали и глядели на него добрыми материнскими глазами. Потом одна из них – кажется, это была Людмила Петровна – спросила:
– Тебя как звать?
– Шарыгин Володя.
– Идём, Шарыгин Володя, в бытовку, попьёшь чайку с бутербродами.
– Я его в уборную сначала провожу, а то он часов пять не сикал, на улице стоял, – сказала Нина Захаровна.
Она всё и устроила – через сестру, которая была замужем за директором комиссионного. Выпивоху-грузчика уволили, а его взяли на освободившуюся вакансию. Последние два класса он проучился в Школе рабочей молодёжи.
Дел в магазине хватало: он перетаскивал из отдела приёмки в торговый зал скульптуры, картины, вазы, коробки с сервизами, люстры; упаковывал покупки, мыл фарфор и фаянс, смахивал пыль с картин. Кроме того, продавщицы посылали его то в ЦУМ, то в Военторг, то в Детский Мир, где он часами стоял в очередях за английскими туфельками-лодочками, за тёплым мужским бельём, за детскими костюмчиками, плюшевыми медвежатами, жестяными автомобильчиками и другими дефицитами. Если оставалось время, он делал в бытовке домашнее задание, скрючившись над краешком стола, заставленного едой.
Получку он отдавал матери, но не потому, что хотел ей помочь или жалел её. За что жалеть-то? За то, что работает на фабрике? А чего здесь такого? Все бабы трудятся, кроме, конечно, полковничьих жён, таких, как Славкина мать; ну, и генеральши, понятное дело, дома сидят и прислугой командуют. Деньги он ей отдавал, потому что они ему были не нужны. Он не ради денег вкалывал, как папа Карло, а чтобы с работы не уволили, то есть чтобы не разлучили с НЕЙ. Себе он оставлял только на проезд. Поначалу мать собирала ему с собой поесть, но и от этого он вскоре отказался, потому что продавщицы кормили его бутербродами с икрой, бужениной и швейцарским сыром, после которых материн колбасный сыр и дешёвая колбаса под названием «Отдельная» не лезли в горло.
Всё было бы нормально, если б не одно обстоятельство: по вторникам, четвергам и пятницам, когда были занятия в вечерней школе, надо было уходить с работы на час раньше. Каждый раз он переживал: а вдруг, пока его нет, «Купальщицу» купят? Тогда он её больше никогда не увидит. По этой же причине он нервничал, когда продавщицы его куда-нибудь посылали. Если «Купальщицу» купят при нём – он знал, что делать: влезет к покупателю в душу и будет к нему ходить.
Учился он, как Ульянов-гимназист, потому что надо было обязательно поступить в ВУЗ, чтобы не забрили в армию. Нет, армии он не боялся: сил у него в те времена было много, характер, мозги, руки – это всё тоже имелось. Но за два года, пока он будет в армии, «Купальщицу», скорее всего, купят, и он её больше не увидит.
В те дни, когда не надо было идти в школу, он оставался в магазине позже других, якобы, чтоб всё расставить по местам. До прихода уборщицы оставалось примерно полчаса. В это время никто не мешал войти в картину.
…В гроте появился телевизор. Но не тогдашний чёрно-белый с малюсеньким экранчиком и отдельной круглой линзой, а плоский, величиной в полстены. Таких телевизоров в те годы еще не было.
Передача начиналась, как только он садился в кресло, стоявшее напротив стены с телевизором.
Показывали красивые вещи.
…Медленно поворачивался мраморный мальчик. Вот уже появился и гусь, схвативший его клювом за пятку. Мрамор так и светится! А поэтому и на мальчика приятно смотреть, и на гуся.
…Постепенно укрупняясь, приближалась люстра, вся украшенная фарфоровыми розами, лилиями, георгинами, вьюнками, бабочками и даже ангелами.
Однажды, на экране появилось фаянсовое блюдо для фруктов, сделанное в виде трёх переплетённых виноградных листьев. Листья были как настоящие; один даже вроде как засох по краям, другой немножко загнулся, а на третьем сидела улитка. Ему вдруг страшно захотелось увидеть настоящие виноградные листья вместе с ягодами и, вообще, весь виноградник, и всё, что вокруг него: деревья, дома, людей, может горы… Вот бы увидеть и другие места, где он никогда не был! А он нигде не был, кроме Москвы и деревни Беляково Рязанской области, где жила бабушка, материна мать.
Телевизор показывал и картины, в основном, старинные. Он до сих пор помнит ту, где три боярышни в сарафанах, красных сапожках и кокошниках, расшитых самоцветами и золотыми нитками, сидят на расписных лавках и примеряют серьги и бусы. Он с такой радостью смотрел на эту картину, как будто перед ним поставили целую миску пломбира, с изюмом, клубникой и фисташками.
Такой пломбир он ел только один раз. Ему тогда удалили гланды, и врач велел матери купить мороженое и дать сразу после операции. Поликлиника находилась недалеко от Серпуховского универмага, где продавали этот пломбир. Стоил он дороже, чем обыкновенное мороженое, но мать расщедрилась. К сожалению, он не смог как следует распробовать пломбир, потому что в горле ещё не прошла заморозка.
Он знал, что картина с боярышнями называется «В тереме» (К. Е. Маковский. 1896 год), потому что она продавалась у них в комиссионном. И всё остальное, что показывали по телевизору в гроте, было тоже из их комиссионного. Но там он ничего не разглядывал, потому что там это был для него просто товар, вернее, груз, который надо таскать и паковать. Кроме, конечно, «Купальщицы». Когда продавщицы восхищались каким-нибудь «шедевром музейного качества», он поддакивал из подхалимажа, но на самом деле ему было наплевать какого качества – музейного или нет – например, картина неизвестного художника «Леда и лебедь», из-за которой у него всю жизнь побаливает спина, потому что там была литая рама, килограммов на пятьдесят.
Товар в комиссионном не залёживался. Почти всё уходило быстро. Но к «Купальщице» никто даже не приценивался.
А однажды над ней поиздевались.
…Он и сейчас, спустя столько лет, помнит не только сам этот случай, но и ту ненависть – чувство, вообще-то ему не свойственное – которую испытал к ЕЁ обидчику.
Это был артист, притом, знаменитый. Он сразу узнал этого артиста, потому что у матери возле трюмо была пришпилена к обоям открытка с его фото. Явился он не один, а с целой компанией, тоже, наверное, артистов. От них несло водкой и духами. Они громко галдели, хохотали, расхаживали по торговому залу, как у себя дома. Дамочки небрежно вертели в руках фарфоровые и хрустальные вещи. Купить они ничего не купили, но истрепали продавщицам все нервы. Мужики разглядывали картины с обнажёнными женщинами и на весь магазин отпускали похабные шуточки. Когда они добрались до «Купальщицы», артист проблеял своим бабьим голоском:
– Эээнтиресссно, кто сотворил сию уродину?
Старший продавец Ирина Николаевна, которая вся кипела от возмущения, взяла себя в руки и вежливо ответила:
– Эту картину написал художник Пётр Павлович Андриевский. Дата написания – тысяча девятьсот двадцать пятый год.
Но артист продолжал хамить:
– Художник? – он издевательски хихикнул. – Мой шестилетний Николашечка, можно сказать, Репин по сравнению с этим вашим Андрейчуткиным, или как там его… Но уж так и быть: пожертвую вам Николашечкин шэээдэвр, именуемый Точка-точка-два крючочка, ручки-ножки-огуречик вот и вышел чэ-ло-брэчэк. Мой шоффэр привезёт.
Компания разразилась хохотом и аплодисментами.
Продавщицы молчали.
Но он, перетаскивая из одного угла в другой мраморную богиню со здоровенными крыльями, вдруг остановился и на весь магазин, отчеканил:
– Это син-те-ти-ческий кубизм. Если не разбираетесь в искусстве – не выступайте!
И добавил по-французски всплывший в памяти афоризм, из тех, которые заставляла его учить Корделия Вениаминовна:
– «L’ignorance est un crépuscule; le mal y rôde». Viktor Marie Hugo.
Не надеясь, что артист понимает по-французски, он перевёл:
– «Невежество – это сумерки; там рыщет зло». Виктор-Мари Гюго.
Поставив богиню, куда было нужно, он убежал в подсобку. Убегая, слышал, как, хохоча, взвизгивали дамочки, и как вся компания потешается над артистом.
Когда они, наконец, убралась, в подсобку втиснулись все три продавщицы. Они чмокали его, хвалили, восхищались его эрудицией.
…«Купальщица» провисела в комиссионном чуть больше года, а потом директор распорядился, чтобы её вернули владельцу, то есть племяннице Корделии Вениаминовны.
– Как неохота ей звонить… – вздыхала Нина Захаровна, – Начнётся: «Ну, пожалуйста, ну очень вас прошу, ну пусть ещё хоть немножко повисит!» А нас-то что уговаривать? Мы-то что можем сделать, если вещь не хотят покупать?
– Всегда одна и та же история… – вздохнула и Людмила Петровна
Ирина Николаевна, решительным тоном заявила:
– Ничего не поделаешь, девочки. Для нас приказ директора – закон.
Но чувствовалось, что и ей не по себе.
План созрел мгновенно и тут же был осуществлён с полным успехом.
Он предложил:
– Хотите, я позвоню? Она моя знакомая. Я с её тётей занимался французским. Я и картину ей могу отвезти.
Продавщицы обрадовались и, конечно, приняли его предложение. В накладной был адрес, поэтому не пришлось объяснять, почему он не знает, где живёт его знакомая.
Племяннице Корделии Вениаминовны он наплёл, что очень благодарен её тёте за то, что она с ним бесплатно занималась, и в память о ней хочет – тоже бесплатно – помогать по хозяйству её родным, то есть ей. Племянница – её звали не менее заковыристо, чем тётку: Генриетта Леопольдовна – растрогалась, назвала его «юношей с чуткой душой» и заявила, что ещё на похоронах тёти Коры он «произвёл на неё светлое впечатление». Поначалу она категорически отказывалась «эксплуатировать его душевный порыв», но, в конце концов, согласилась, однако при условии, что он будет регулярно у них обедать.
Генриетта Леопольдовна жила с дочерью, которая готовилась поступать в Библиотечный институт, где её мама преподавала зарубежную литературу. Это была та самая – и единственная – её дочь, которую он видел подростком на похоронах Корделии Вениаминовны. За полтора года она, конечно, повзрослела, но как была уродиной, так уродиной и осталась. Звали её тоже по-уродски: Мелисанда. Об её отце никогда не упоминали. Скорее всего, кто-то спьяну заделал Генриетте Леопольдовне дочку, потому что трезвый мужик вряд ли полезет на такую скучную тётку с лягушачьим ртом и здоровенным носом. Пышные золотистые волосы не спасали. Генриетта Леопольдовна надеялась, что дочка унаследует эти волосы, из-за которых, собственно, и назвала её «как золотоволосую героиню изысканной пьесы Метерлинка «Пелеас и Мелисанда». Но фигушки! Дочкины волосёнки получились жиденькие, серенькие и секлись на кончиках. Зато она унаследовала мамин лягушачий рот и здоровенный нос
Саму Генриетту Леопольдовну тоже назвали не просто так, а в честь корабля. Случай по-своему уникальный: обычно корабли называют в честь людей. А здесь – наоборот. К тому же корабль этот был взят не из жизни, а из книги, из «Вокруг света за восемьдесят дней» Жюля Верна. Генриетта Леопольдовна раз десять рассказывала, почему «папочка настоял на том, чтобы её назвали «так и только так». Свой рассказ она подкрепляла цитатой, которая и вдохновила её папочку: «Когда «Генриетта» не могла одолеть волну, она шла сквозь неё и проходила, хотя палубу заливало водой». Но, как и в случае с Мелисандой, родители промахнулись: «проходить сквозь волну» Генриетта Леопольдовна не умела, даже кандидатскую так и не защитила. А вот насчёт Корделии Вениаминовны получилось правильно: старуха всегда лепила, что думает. Помнится, она как-то сделала ему замечание, что он «непочтительно отозвался о своей маме» (кажется, сказал, что его мать – тёмная, как тундра). Он от смущения задал дурацкий, дерзкий вопрос: «А вы, что ль, всегда родителей уважали?» «Уважала – всегда, а любила далеко не всегда, – отрезала она, то есть выступила в том же духе, как ответила отцу её тёзка в «Короле Лире»: «Люблю я вашу милость, как долг велит, не больше и не меньше».
В то лето он окончил вечернюю школу, уволился из комиссионки и поступил в Библиотечный институт: Генриетта Леопольдовна ему «подстелила немножечко соломки». Мелисанда, естественно, поступила туда же, так что они теперь учились вместе.
Когда он увольнялся, ему устроили торжественные проводы с тортом и шампанским. Было сказано много тёплых слов. Директор подарил ему наручные часы «Слава», а продавщицы сбросились и купили югославский пуловер модного мышиного цвета.
Учился он старательно. По привычке. Литература и все остальные предметы его мало интересовали. Лишь однажды учебный процесс задел его за живое, это когда он читал по программе повесть Гоголя «Портрет». Он занервничал: а вдруг он тоже свихнётся, как этот Чартков? Но посидел, подумал и успокоился. Нет, у него не так. Во-первых, сама картина другая: там – портрет старика с живыми страшными глазами; здесь – девушка, у которой глаза вообще не нарисованы, потому что она повёрнута спиной. Во-вторых, Чарткову из-за этого портрета снятся кошмары, а ему Купальщица всегда поднимает настроение. И потом в рассказе за рамой этого портрета оказались деньги. Он усмехнулся. И, благо Мелисанда с матерью пошли в промтоварный магазин купить «кое-что дамское» (скорее всего, трусы или бюстгальтер), взял из буфетного ящика нож, который от долгого употребления так истончился, что стал, как лезвие для безопасной бритвы. Сняв картину со стены, он осторожно просунул нож между рамой и холстом; сначала внизу, потом вверху, потом справа, потом слева.
И вот слева зашуршало!
Он прижал это дело кончиком ножа и вытащил сильно пожелтевшую бумажку, свёрнутую в несколько раз. Развернул. Оказалось, это письмо.
Почерк был ровный, чёткий, но читалось с трудом, потому что чернила выцвели. Он помучился, но прочитал.
Пётр!
Я решила – и решилась – разорвать то немногое, что ещё уцелело от наших отношений. Уцелело, увы, немногое, а именно: привычка двух разнополых особей к телесному присутствию друг друга. Но даже эта привычка обрела формы столь рутинные, что унижает нас и, в особенности, меня как женщину, то бишь объект пассивный. Господь, который вручил мне моё «я», более не позволяет мне топтать Им вручённое. Крепись, Пётр. Сразу после Великого Поста я выхожу замуж. Полагаю более для тебя щадящим, чтобы ты узнал об этом от меня, любящего (о, всё ещё любящего!) тебя человека, а не от посторонних, которые насладились бы садистическим удовольствием от твоей реакции (растерянность и прочее). Жених мой – немец, молодой профессор, почти ровесник тебе, человек, во всех отношениях достойный, чему вполне соответствует его имя Абелард, что означает: благородный, надёжный, то есть тип, полностью противоположный твоему. При этом ему не в меньшей степени, чем тебе, присуще широкомыслие. И вот тому пример.
Вчера утром, когда ты, надо полагать, ещё почивал после обычного для твоего обихода ночного кутежа, Абелард и я посетили «La Rotonde». После чашечки кофе с бриошами мы приступили к осмотру выставки.
Абелард пришёл в восторг от твоей «Купальщицы» (ах, от нашей, нашей с тобой «Купальщицы»! ), хоть я не скрыла от него, что позировала для этой вещи. И вообще он знает ВСЁ. С глубокой серьёзностью глядя мне в глаза, Абелард сказал нижеследующее: «Это есть шедевр. Через твоя земная плоть живописец показал высокий несмертный дух». Я специально оставила его слова без изменений, ибо в их некоторой неправильности, вполне простительной иностранцу, согласись, есть нечто трогательное и, вместе с тем, явственно проявилось широкомыслие.
Однако, речь сейчас о другом. Абелард и я желали бы приобресть «Купальщицу» за разумную цену. Но я вполне отдаю себе отчёт в том, сколь было бы для тебя оскорбительно предложение продать МНЕ «Купальщицу». И потому прошу тебя: подари её! Этот дар стал бы нетленным напоминанием о том периоде любви нашей, что был исполнен высоких чувств и утончённых ощущений.
Ежели ты решишь сделать нам сей дар, то пришли «Купальщицу» на мой столь хорошо известный тебе адрес не позже, нежели через неделю: мы с Абелардом весьма скоро уезжаем в Берлин, где он имеет скромный, но удобный особняк и кафедру в университете.
Прощай, не поминай лихом!
КупальщицаВнизу кривыми буквами было приписано:
«Нате, берите».
…С письмом в руках, забыв снять женские домашние тапки, в которые здесь переобувался, он бросился в картину и закричал:
– Как он мог, сволочь, пропить своё счастье?! Из-за него вы пошли за нелюбимого, за немчуру за этого! Да ещё нагрубил: «Нате, берите»… Гад! Гад!
Купальщица указала в сторону грота, и он прямо в тапках нырнул в залив.
…Телевизора и кресла в гроте теперь не было, но появилась высокая табуретка и стеклянный столик, на котором когда-то лежал калейдоскоп. Только теперь вместо калейдоскопа на столике была хрустальная посудина литра на полтора, доверху наполненная пломбиром с изюмом, клубникой и фисташками, а сверху громоздилась шапка из взбитых сливок, усыпанная тёртым шоколадом и украшенная сверху засахаренной вишенкой. На хрустальной подставке лежала серебряная ложечка.
Никогда – ни до, ни после – он не ел ничего столь вкусного! А ведь в последние годы он мог позволить себе любые деликатесы.
К тому моменту, когда Генриетта Леопольдовна и Мелисанда вернулись домой, он успел съесть весь пломбир, сунуть письмо обратно за раму и повесить картину на место.
– Мама, а Володя без нас лакомился мороженым и перепачкал губы! – сказала Мелисанда и растянула рот в лягушачьей улыбке.
Он облизнулся: да, губы сладкие…
Соврал:
– Захотелось вдруг мороженого. Купил по дороге. Может, сбегать, купить вам?
– Не надо, Володя, спасибо, мы сейчас будем обедать. По-английски. Как раз семь часов, – Генриетта Леопольдовна тоже улыбнулась, и тоже по-лягушачьи…
Из института он обычно возвращался с Мелисандой. Иногда с ними ехала в электричке и Генриетта Леопольдовна. Дома разогревали приготовленную с утра еду и обедали «по-английски», то есть ужинали. Потом они с Мелисандой убирали посуду и занимались за тем же обеденным столом.
Он всегда сидел напротив стены, где висела «Купальщица», делая вид, что читает или думает, и ему ничто не мешало залезать в картину.
– Видишь, Мелисанда, как Володя сосредоточен, несмотря на громогласные разговоры соседей, – сказала как-то Генриетта Леопольдовна. – А ты вечно жалуешься, что этот шум мешает тебе сосредоточиться.
– Мама, он особенный…
Мелисанда улыбнулась, отчего её губы раздвинулись так, что уголками почти наехали на уши.
Дома он теперь только ночевал. Общался с матерью по утрам, пока они ели. Разговоры были всегда одни и те же: он, в основном, молчал, а она жаловалась, что ей чего-то не начислили, не отладили, как надо, станок, или, что начальник цеха с ней неуважительно разговаривал, хотя у неё трудовой стаж в пять раз больше, чем у него. Он быстро съедал кашу или оладьи, или что там она настряпала, и ехал в институт, а если было воскресенье, уходил к себе за шкаф, ложился на кровать, читал что-нибудь по программе или просто ждал завтрашнего вечера, то есть, когда, наконец, получит возможность войти в картину.
К третьему курсу ему так надоело каждый день мотаться из Филей, где жили Генриетта и Мелисанда, к себе на Большую Калужскую, что он женился на Мелисанде и переехал к ним.
Генриетта Леопольдовна не возражала, хотя у них была всего одна комната, правда, большая: двадцать три квадратных метра. И не только не возражала, а была «душевно рада личному счастью дочери». В качестве свадебного подарка она преподнесла молодым старинную ширму восточной работы, которую купила в комиссионном магазине, где раньше работал зять. По ширме, среди ветвей цветущей вишни, а, может, сливы, летали раскосые феи с веерами.
– Правда, дивная вещь? – восхищалась Мелисанда. – Только мама, с её изысканным вкусом, могла заметить это чудо среди нагромождения антикварной пошлости.
Он промолчал, хотя сам никогда бы не купил вещь в таком состоянии: и ветки с цветами, и феи с их веерами сильно облиняли. Это б ещё ничего, но древожорка настолько изрешетила деревянный каркас, что от малейшего движения ширма тряслась, а один раз даже упала, притом – в самый неподходящий момент. Хорошо ещё, что она упала на кровать и накрыла их собой.
…Два с половиной года, что они прожили с Мелисандой, были самыми счастливыми в их жизни. Мелисанда упивалась неземной любовью к своему «королевичу» и не замечала довольно прохладного отношения с его стороны. А он был счастлив, потому что пока был на ней женат, считал картину «Купальщица» своей законной собственностью, поскольку являлся членом семьи её владелицы. В этот период его вхождения в картину были особенно радостными. После случая с письмом ОНА стала с ним здороваться, то есть распрямляла правую руку и махала ему. Когда это случилось в первый раз, на его обычно хмуром лице возникла улыбка, которая сразу исчезла, когда к нему привалилась Мелисанда и громко зашептала прямо в ухо: «Королевич мой ненаглядный! С какой глубокой нежностью ты мне улыбаешься!»
Тем временем умер Сталин. Теперь в их коммуналке каждый вечер шла грызня на политические темы. Крепкая старуха Артемьевна, работавшая в гастрономе уборщицей, истово, с матерной бранью, заступалась за Сталина, а доходяга-алкаш Захарыч – тоже матом – Сталина костерил. Соседи поприличнее возмущались их руганью, но и они нет-нет, да ввязывались в дискуссию. Даже Генриетта Леопольдовна при всей своей интеллигентности однажды высказала перед «этими простыми людьми» своё мнение по данному вопросу. Она словно лекцию им читала, потряхивая хлебным ножом, как указкой, и её преподавательский голос, ровный и громкий, перекрывал даже визгливый мат Артемьевны:
– Достоевский писал: никакая великая идея не стоит слезинки ребёнка, а Сталин заставил народ пролить моря слёз и океаны крови! Василий Захарович абсолютно прав в своём гневе, хотя обсценная, иными словами, нецензурная лексика, которую он употребляет, доказывая свою правоту, недопустима, тем более в местах общего пользования.
Ни Мелисанда, ни сам он в таких дебатах никогда не участвовали: им было не до этого: они писали дипломные работы.
Развелись они сразу после защиты. Но дело было не в защите. И не в их отношениях. Конечно, кое-какие шероховатости случались – не без того – но даже не между ним и Мелисандой, а между ним и тёщей, которая стремилась сделать из него «благородного человека в полном смысле этого слова». Серьёзная стычка произошла между ними из-за похорон Нины Захаровны. Пышная здоровячка, кровь с молоком, Нина Захаровна скоропостижно умерла на работе от разрыва сердца (тогда еще не было в ходу слово «инфаркт»). Зато теперь, в двадцать первом веке, если он умрёт от этого дела, то врачи будут констатировать инфаркт миокарда, хотя «разрыв сердца» звучит человечнее…
А было так.
Позвонила Ирина Николаевна, сообщила о печальном событии и о том, когда состоится кремация. Ни его, ни Мелисанды дома не было. Трубку взяла Генриетта Леопольдовна. Всхлипывая, Ирина Николаевна ей поведала, как много добра сделала покойница для Володи.
В крематорий он не поехал, а на вопрос Генриетты Леопольдовны «Почему?!» ответил, что должен выспаться, чтобы на следующий день пойти к дипломному руководителю со свежей головой.
И вот тогда тёща впервые повысила на него голос. Она выкрикивала упрёки, обзывала его циничным, жестоким, неблагодарным, неблагородным и даже «преступно равнодушным».
Он огрызнулся:
– Вы-то чем лучше? Вы хоть раз сходили к своей тёте на могилу? А она, между прочим, оставила вам всё своё имущество!
Вмешалась Мелисанда. Она расплакалась и уговорила их друг перед другом извиниться. Конфликт был погашен.
Но причиной развода стала отнюдь не критика тёщи, а, напротив, её чересчур большая заботливость.
Эту роковую для брака дочери заботливость Генриетта Леопольдовна проявила во время «торжественной семейной трапезы с шампанским и крабовым салатом».
Трапезу устроили в честь того, что «наш дорогой Володя получил диплом о высшем образовании» (Мелисанда должна была защищаться через неделю). После первого тоста «За успехи на благородном поприще просвещения» Генриетта Леопольдовна заявила, что когда Володя «вступит в должность, ему будет жизненно необходим достойный костюм и, разумеется, достойная обувь». Поскольку таких



