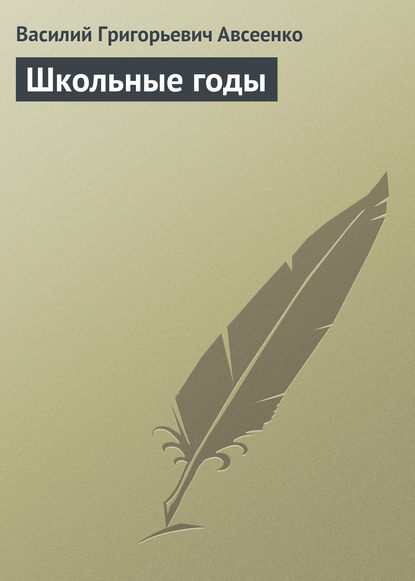 Полная версия
Полная версияШкольные годы
Рядомъ съ почтенными именами Шульгина и П. В. Павлова должно занять свое законное мѣсто не менѣе почтенное имя Н. X. Бунге. Дѣятельный, серьозный, нѣсколько сухой по натурѣ, нѣсколько отзывавшійся нѣмцемъ, онъ никогда не пользовался слишкомъ горячими симпатіями студентовъ, но конечно между нами не было ни одного, который отказалъ бы ему въ безусловномъ уваженіи. И какъ профессоръ, и какъ ректоръ, Николай Христіановичъ былъ неизмѣннымъ представителемъ законности, справедливости, долга, серьознаго отношенія ко всякому серьозному дѣлу. При всемъ томъ, онъ былъ очень живой человѣкъ, безъ всякой примѣси педантизма и нѣмецкой ограниченности, отзывчивый на всѣ общественные и культурные интересы. Но главное – это былъ очень надежный человѣкъ, и знающіе его были увѣрены, что всякое дѣло, зачинающееся при его участіи, непремѣнно будетъ поставлено и сдѣлано хорошо, т. е. умно, дѣльно, справедливо и гуманно, съ нѣмецкою серьозностью и безъ русской страстности и распущенности. На экзаменѣ, гдѣ онъ былъ ассистентомъ, достойный студентъ никогда не могъ срѣзаться; въ коммиссіи, гдѣ онъ былъ членомъ, необдуманное или пристрастное мнѣніе никогда не могло восторжествовать. Однимъ словомъ, натура Николая Христіановича стояла какъ бы посрединѣ между русскою и нѣмецкою, заимствуя лучшее у той и другой. Такіе люди рѣдки и – необыкновенно полезны.
Какъ профессоръ, Николай Христіановичъ очень заботился о томъ чтобъ заставить студентовъ заниматься какъ слѣдуетъ. Его считали требовательнымъ, его экзаменъ на многихъ наводилъ страхъ. Дѣйствительно, плохой студентъ не могъ разсчитывать получить у него кандидатскій баллъ. Но за то, если студентъ занимался серьозно какимъ нибудь другимъ предметомъ, то могъ быть увѣренъ, что Николай Христіановичъ не только не срѣжетъ его самъ, но еще поддержитъ его передъ факультетомъ. Не довольствуясь чтеніемъ лекцій, отличавшихся всегда содержательностью и мастерскимъ изложеніемъ, Н. X. Бунге заставлялъ студентовъ дѣлать извлеченія изъ рекомендованныхъ имъ авторовъ, и самый экзаменъ его заключался не столько въ отвѣтѣ на вопросъ по программѣ, сколько въ отчетѣ о собственной работѣ экзаменующагося надъ литературою предмета.
Не безъ сожалѣнія я долженъ сказать, что этимъ исчерпываются мои воспоминанія о профессорахъ, составлявшихъ дѣйствительное украшеніе историко-филологическаго факультета. Провинціальное положеніе университета было причиною, что пополненіе убыли въ наличномъ составѣ преподавателей совершалось весьма туго. П. В. Павловъ выбылъ когда я былъ еще на первомъ семестрѣ, и затѣмъ до самаго окончанія курса и еще нѣсколько лѣтъ послѣ, каѳедра русской исторіи оставалась вакантною, не смотря на то, что именно въ Кіевѣ, въ виду исключительныхъ условій края и политическихъ событій 1861-63 годовъ, каѳедра эта имѣла большее значеніе, чѣмъ гдѣ либо. Шульгинъ тоже лѣтъ пять оставался незамѣщеннымъ, такъ что Ставровскій пребывалъ единственнымъ представителемъ исторической науки на факультетѣ, имѣющемъ спеціальное историческое отдѣленіе. Университетъ, т. е. совѣтъ, вступалъ, сколько мнѣ извѣстно, въ переговоры и съ Н. И. Костомаровымъ, и съ г. Иловайскимъ, и съ тѣмъ же Шульгинымъ, и еще съ кѣмъ-то, искалъ профессоровъ даже въ нѣдрахъ семинарій и духовныхъ академій, но все это ни къ чему не приводило. Разумѣется, кромѣ провинціальнаго положенія университета и незавиднаго состава факультета, дѣйствовали тутъ еще и другія причины, и главнымъ образомъ интриги въ самомъ совѣтѣ, гдѣ представителями факультетскихъ интересовъ являлись такіе «дѣятели науки», какъ Ставровскій и А. И. Селинъ.
Послѣдній, съ переходомъ Н. X. Бунге на юридическій факультетъ, вошелъ въ большую роль, былъ избранъ деканомъ. Дѣйствительно, никто лучше его не могъ представлять своей особой историко-филологическій факультетъ въ томъ жалкомъ состояніи, въ какомъ онъ очутился съ 1863 года. Александръ Ивановичъ Селинъ преподавалъ исторію русской словесности. Онъ вышелъ изъ московскаго университета, откуда вмѣстѣ съ сомнительнымъ запасомъ учености вынесъ только благоговѣйное поклоненіе Шевыреву и нѣкоторые смутные отголоски славянофильства. Личность совершенно бездарная, онъ хотѣлъ блистать краснорѣчіемъ и стяжать популярность среди студентовъ. Краснобайство его дѣйствительно не знало мѣры. Онъ сидѣлъ совершеннымъ шутомъ на каѳедрѣ, кривлялся, скалилъ зубы, кидалъ нецензурные намеки псевдолиберальнаго свойства, закатывалъ глаза – однимъ словомъ изображалъ актера, срывающаго рукоплесканія съ александринскихъ верховъ. По содержанію, лекціи его были до невѣроятности скудны и жалки. Въ древнемъ періодѣ онъ придерживался буквально Шевырева, и это еще было сносно – по крайней мѣрѣ студенты знали какъ готовиться къ экзамену. Но съ новой русской литературой онъ творилъ нѣчто невѣроятное. Вся фактическая часть отбрасывалась всторону, съ каѳедры лилась разнузданная болтовня о Малороссіи, о Польшѣ, о Мицкевичѣ, о Погодинѣ, декламировались стихи Хомякова, прочитывалась зачѣмъ-то «Небожественная комедія» Красинскаго, переведенная бѣлыми стихами самимъ профессоромъ. Огромное значеніе, придаваемое Селинымъ этому мистическому созданію польскаго поэта, объяснялось впрочемъ желаніемъ привлечь въ свою аудиторію поляковъ, составлявшихъ большинство въ университетѣ. И дѣйствительно, студенты ломились въ огромную аудиторію Александра Ивановича, воображавшаго, что онъ устроиваетъ примиреніе съ поляками. Въ то время, т. е. передъ 1863 годомъ, поляки въ юго-западномъ краѣ дѣйствительно много говорили о примиреніи, о союзѣ польской и русской (т. е. украйнофильской) молодежи. При общемъ настроеніи тогдашняго студенчества, при замѣтномъ развитіи украйнофильскихъ тенденцій, такой союзъ, хотя бы и временный, могъ бы повлечь для университета важныя и прискорбныя послѣдствія. Но предшествовавшая дѣятельность попечителя округа, Н. И. Пирогова, имѣла между прочимъ то значеніе, что студенты-малороссы поняли глубокое различіе между видами польской и украйнофильской партій, и держались чрезвычайно недовѣрчиво.
При всемъ своемъ шутовствѣ и бездарности, Селинъ все таки производилъ впечатлѣніе, какъ будто живого человѣка, искавшаго связи съ молодежью, жившаго въ сферѣ политическихъ и литературныхъ интересовъ. Въ устахъ его эти интересы скорѣе профанировались, чѣмъ освящались, но все таки студенты чувствовали, что этотъ человѣкъ чего то ищетъ, чѣмъ то хочетъ жить. О прочихъ профессорахъ и этого нельзя было сказать. Печать провинціальности, старомоднаго и тупаго гелертерства, а подчасъ и просто невѣжества, лежала на нихъ такимъ толстымъ слоемъ, что изъ подъ него невозможно было что нибудь выкопать. Адьюнктъ Селина, почтенный Андрей Ивановичъ Линниченко, читавшій теорію поэзіи, былъ человѣкъ безконечно добрый и честный, съ хорошо направленными симпатіями, но кажется не особенно любившій свою спеціальность – по крайней мѣрѣ, мало старавшійся побороть равнодушіе, обнаруживаемое студентами къ его лекціямъ; его, если можно такъ выразиться, заѣдала собственная скромность. Философія въ мое время не читалась вовсе, психологію и логику мы слушали у профессора богословія; но существовалъ спеціалистъ по философіи, Сильвестръ Сильвестровичъ Гогоцкій, авторъ неоконченнаго и очень плохого «Философскаго лексикона», читавшій педагогику (послѣ, съ 1863 года, онъ читалъ исторію философіи, и не думаю чтобъ съ успѣхомъ). Я вспоминаю объ этомъ почтенномъ профессорѣ съ нѣкоторымъ даже чувствомъ умиленія, какъ о чемъ то забавно-слабомъ, добродѣтельномъ и невмѣняемомъ. Точно сейчасъ вижу высокую, худощавую фигуру, во фракѣ съ необычайно узкими рукавами и въ сѣренькомъ жилетѣ, съ выраженіемъ какой то благодушной ироніи на старческомъ лицѣ. Для меня не было никакого сомнѣнія, что дома Сильвестръ Сильвестровичъ носитъ колпакъ. Лекцій его я совсѣмъ не помню, вѣрнѣе сказать изъ всего курса помню только одну фразу: говоря о томъ, что личность самого воспитателя имѣетъ большое значеніе въ дѣлѣ воспитанія, почтенный профессоръ выразился между прочимъ такимъ образомъ: «педагогъ долженъ быть одѣтъ не съ роскошествомъ, но съ изяществомъ» – и при этомъ привсталъ на каѳедрѣ и съ благодушной улыбкой оглянулъ свой собственный узенькій фракъ (мнѣ почему то казалось, что въ такихъ фракахъ расчетливые наслѣдники должны класть въ гробъ опочившихъ родственниковъ), свой сѣренькій съ мелкимъ узорчикомъ жилетъ, и свой бисерный шнурокъ къ часамъ… Помню еще, что передъ экзаменомъ Сильвестра Сильвестровича я никакъ не могъ достать его записокъ, и пошелъ совсѣмъ безъ приготовленія. Мнѣ попался первый вопросъ: понятіе о педагогикѣ, какъ наукѣ, и раздѣленіе ея на части. Пришлось излагать свое собственное понятіе… Осиливъ кое-какъ этотъ пунктъ, я началъ импровизировать въ родѣ того, что такъ-какъ воспитаніе обнимаетъ стороны физическую, умственную и нравственную, то сообразно тому и педагогика дѣлится на три части… Тутъ почтеннѣйшій Сильвестръ Сильвестровичъ, слушавшій меня съ обычною благодушно-ироническою улыбкою, прервалъ замѣчаніемъ: «это вы все разсказываете по здравому смыслу, а вы бы разсказали по моимъ запискамъ». Я выразилъ сомнѣніе, можетъ ли существовать разногласіе между здравымъ смысломъ и записками ученаго профессора – и экзаменъ благополучно закончился.
Очень ученые люди были также профессора классической словесности, гг. Дёлленъ и Нейкирхъ. Обоихъ произвела дерптская почва. Дёллена я зналъ раньше, онъ былъ назначенъ Пироговымъ директоромъ первой гимназіи, и этотъ выборъ, какъ всѣ выборы Пирогова, былъ вполнѣ удаченъ. Трудно представить себѣ болѣе добросовѣстнаго, гуманнаго, симпатичнаго педагога. Съ сожалѣнію, онъ оставался нѣмцемъ, и я это испытывалъ не только въ гимназіи, но и въ университетѣ. Оба дерптскіе питомца были отличные филологи, но въ такомъ узкомъ смыслѣ, до такой степени внѣ связи съ русскимъ образованіемъ, съ русской литературой, съ русской молодежью, что произошло очень странное явленіе: въ гимназіи, гдѣ учителя латинскаго языка конечно гораздо меньше знали, гдѣ мы сами конечно меньше сознавали научное значеніе древнихъ языковъ – мы присутствовали на урокахъ латинскаго учителя съ гораздо большимъ интересомъ, чѣмъ на лекціяхъ нѣмецкихъ филологовъ. Помню, что когда уважаемый И. Я. Ростовцевъ (учитель кіевской первой гимназіи) разсказывалъ намъ о жизни Саллюстія, или Ливія, объяснялъ историческое и литературное значеніе «Катилинской войны» или комментаріевъ Цезаря, мы слушали его положительно съ наслажденіемъ, въ насъ загоралось желаніе ближе войти въ этотъ любопытный міръ, полный такихъ яркихъ красокъ; а когда Дёлленъ или Нейкирхъ излагали курсъ литературы, или древностей, стараясь говорить настолько медленно, чтобъ мы могли записать лекцію – весь интересъ къ предмету пропадалъ. И это происходило не потому, чтобъ насъ затрудняла латинская рѣчь профессоровъ – они умѣли говорить очень понятно, – а потому что въ ихъ устахъ древность явилась можетъ быть весьма близкою къ ихъ нѣмецкому фатерланду, но весьма далекою отъ какой бы то ни было, хотя бы лишь литературной, связи съ русской мыслью и жизнью.
* * *Въ эпоху предшествовавшую возстанію, кіевскій университетъ былъ изъ самыхъ многолюдныхъ. Число студентовъ значительно переходило за тысячу, тогда какъ послѣ возстанія сразу сократилось до 400 съ чѣмъ то. Это даетъ понятіе, какъ велико было число поляковъ. Польскій языкъ преобладалъ. Не смотря на русское преподаваніе и русское управленіе, поляки держали себя въ положеніи господствующей національности и, надо прибавить, что такое положеніе опиралось не на одномъ только численномъ преобладаніи. Юго-западный край въ то время былъ чисто польскій край. Польское дворянство, богатое, образованное, сплоченное въ солидарную массу, владѣло двумя третями поземельной собственности, дававшей отличный доходъ, и съ помощью крѣпостного права держало въ безусловной зависимости коренное русское населеніе. Здѣсь, на благодатной почвѣ Украйны, отношенія помѣщиковъ къ крестьянамъ издавна приняли чисто феодальный характеръ. Поляки были завоеватели, утвердившіе свое господство послѣ продолжительной кровавой борьбы. Отъ Хмельницкаго до гайдамачины, край былъ постоянно заливаемъ кровью, и когда наконецъ русская національность, истощенная, истерзанная, извѣрившаяся, отказалась отъ дальнѣйшихъ безплодныхъ попытокъ освобожденія – польское шляхетство налегло на нее съ надругательствомъ, съ мстительнымъ чувствомъ врага, у котораго еще болятъ раны, нанесенныя поверженнымъ нынѣ во прахъ противникомъ. Разность не только племенная и сословная, но и вѣроисповѣдная, кровавые призраки крестьянскихъ и казацкихъ возстаній, необходимость пользоваться евреями, какъ посредствующей связью между шляхтой и народомъ – все это до такой степени обостряло отношенія между помѣщиками и крестьянами, что здѣсь крѣпостное право получило характеръ, какого оно не имѣло нигдѣ болѣе, не только на Руси, но и въ Западной Европѣ. Помѣщики были не только собственниками земли и хлоповъ, они были политической силой, стоявшей военнымъ лагеремъ въ завоеванной странѣ, дѣйствовавшей не только во имя своихъ частныхъ, экономическихъ интересовъ, но и во имя идеи польскаго господства. Понятно, что изъ сферы крѣпостного права эти воззрѣнія и отношенія переносились вообще на все русское населеніе края. На чиновниковъ, изъ которыхъ только и состоялъ русскій городской элементъ, поляки смотрѣли презрительно. Льстя мѣстнымъ административнымъ іерархамъ, они въ то же время считали себя людьми лучшаго общества, представителями аристократическаго начала, европеизма, культуры. Хуже всего при этомъ было то, что многія лица высшей мѣстной администраціи раздѣляли тотъ же взглядъ, и по аристократической тенденціи считали себя ближе къ польскому магнату, чѣмъ къ русскому офицеру, или чиновнику. Эти администраторы, хотя бы ихъ гербы не восходили далѣе минувшаго царствованія, старались всячески показать, что только обязанности службы заставляютъ ихъ дѣйствовать въ такъ называемыхъ «русскихъ видахъ», но что ихъ личныя сочувствія, какъ людей «хорошаго общества», принадлежатъ польской аристократіи. Съ особенною рѣшительностью высказывались въ этомъ смыслѣ административныя дамы, перенесшія съ собою на политическую почву юго-западнаго края кисейныя идеи петербургскаго или московскаго бомонда. Не трудно понять, какъ эти русскіе люди «хорошаго общества» питали польскую заносчивость и брезгливое отношеніе поляковъ ко всему русскому.
Въ сороковыхъ годахъ, Кіевъ сдѣлался главнымъ центромъ украйнофильства. Это была еще очень молодая, неорганизованная сила, выступившая не столько въ отпоръ польской идеѣ, сколько во имя общихъ освободительныхъ началъ, общаго протеста противъ государственной централизаціи. Послѣднее значеніе опредѣлялось тѣмъ яснѣе, что русская власть относилась къ украйнофиламъ очень подозрительно и строго. Въ концѣ пятидесятыхъ годовъ, обѣ идеи, польская и украйнофильская, стояли лицомъ другъ противъ друга, подъ общей опалой власти; послѣдняя считалась даже опальнѣе, потому что была вполнѣ демократическая, и не имѣла за собою сочувствія дамъ хорошаго общества. Въ виду уже сильно обнаруживавшагося политическаго броженія, взаимное отношеніе обѣихъ партій получало существенную важность. Еслибъ украйнофилы дали увлечь себя полякамъ, возстаніе разыгралось бы въ несравненно большихъ размѣрахъ, могло бы имѣть болѣе серьозный, во всякомъ случаѣ болѣе кровавый исходъ. Первый, кто вполнѣ понялъ истинное положеніе дѣлъ въ краѣ, былъ человѣкъ посторонній, пріѣзжій, одинаково мало знавшій какъ поляковъ, такъ и хохломановъ – Николай Ивановичъ Пироговъ.
Я былъ еще въ гимназіи, когда его перевели изъ Одессы въ Кіевъ, попечителемъ учебнаго округа. Дать ходъ человѣку такой глубокой образованности, такихъ свѣжихъ и гуманныхъ взглядовъ, казалось очень серьозной мѣрой. Я думаю, что это была лишь полумѣра. Пироговъ до такой степени не походилъ ни на оффиціальныхъ педагоговъ, ни на іерарховъ учебной и иной администраціи, съ которыхъ крымская война сорвала маски, что его надо было или вовсе не трогать, или дать ему назначеніе въ Петербургѣ, гдѣ его дѣятельностью обозначился бы полный переломъ во взглядахъ на учебное дѣло, гдѣ онъ служилъ бы точкою исхода новаго движенія. Въ провинціи дѣятельность его получила очень ограниченное значеніе. Онъ отличался отъ другихъ попечителей, но именно потому что онъ дѣйствовалъ въ Одессѣ, или въ Кіевѣ, никто изъ этихъ другихъ попечителей не считалъ возможнымъ подражать ему. На него такъ и взглянули – какъ на нѣчто исключительное, и развѣ что любопытное, но не болѣе.
Появленіе Николая Ивановича въ Кіевѣ было сигналомъ борьбы новыхъ идей со старымъ режимомъ, поколебленнымъ, но еще не снесеннымъ крымскою войною. Съ дымящихся развалинъ Севастополя онъ несъ съ собою тотъ новый духъ, который такъ оживилъ русское общество въ концѣ 50-хъ годовъ;– духъ реформы, гуманности, культурности. Мы въ немъ встрѣчали «новаго человѣка», глубоко-образованнаго, ненавидящаго рутину, преданнаго смыслу, а не формѣ, человѣка, который на своемъ важномъ постѣ не хотѣлъ быть сановникомъ, не хотѣлъ обращать вниманія на обязательный ритуалъ, хотѣлъ дѣлать только одно настоящее дѣло, дѣлать его по убѣжденію, отъ сердца, какъ у насъ дѣлаютъ только одни личныя дѣла. Помню, какъ всѣхъ поражала его простота обращенія, его неограниченная доступность, его совсѣмъ не оффиціальная манера держать себя съ генералъ-губернаторомъ, его привычка являться въ университетъ въ пальто съ заложенными въ рукава руками… Мы тотчасъ поняли, что въ Николаѣ Ивановичѣ надо искать человѣка, а не сановника, и какъ горячо полюбили его всѣ у кого въ мысли и въ сердцѣ жило нѣчто порядочное – это высказалось на его проводахъ, обратившихся въ высоко-знаменательное событіе для цѣлаго края…
Въ университетѣ время управленія Пирогова совпало съ началомъ студентскихъ волненій. Я считаю это большимъ благополучіемъ для университетской молодежи, т. е. русской молодежи, потому что Пироговъ, какъ уже упомянуто выше, сразу разгадалъ настоящую подкладку этихъ волненій и разъяснилъ мѣстному обществу политическое положеніе дѣла. Онъ, и притомъ только онъ одинъ, сразу понялъ, что русское государство имѣетъ врага лишь въ польской партіи, что украйнофильство не только не опасно ему, но при исключительныхъ условіяхъ мѣста и времени даже можетъ сослужить ему службу. И вотъ для всѣхъ способныхъ ясно понимать вещи, тотчасъ опредѣлилась система Пирогова: не давить украйнофильскую тенденцію, а взять ее въ руки, сдѣлать изъ нея опору русской идеи въ борьбѣ съ польскою, предупредить возможность союза обѣихъ партій, указать украйнофиламъ общую опасность. Въ этихъ видахъ Пироговъ не только допускалъ студентскія сходки, депутаціи, адресы и т. д., но онъ такъ сказать самъ вошелъ въ движеніе, чтобъ овладѣть имъ и направить въ противоположную отъ польской пропаганды сторону. Высшая мѣстная администрація не понимала плановъ Пирогова, какъ не понимала его манеры держать себя, его сознанія человѣка подъ мундиромъ четвертаго класса; начались неудовольствія, интриги, и величайшій изъ русскихъ педагоговъ былъ отозванъ отъ своей высокой миссіи, въ самое трудное для края время. Но то, что уже было имъ сдѣлано, принесло плоды: союзъ украйнофиловъ съ поляками былъ предупрежденъ, и ни одинъ изъ русскихъ студентовъ кіевскаго университета не ушелъ въ возстаніе. Этимъ результатомъ край былъ обязанъ исключительно Пирогову.
Я былъ очевидцемъ, какъ съ отъѣздомъ Пирогова изъ Кіева оживилась польская пропаганда, и преобладаніе польскаго элемента въ университетѣ сдѣлалось замѣтнѣе чѣмъ прежде. Поляки, вообще очень проницательные въ политикѣ, давно разгадали въ Николаѣ Ивановичѣ самаго опаснаго своего противника; да и кромѣ того, присутствіе въ краѣ такого крупнаго русскаго человѣка, такого блестящаго представителя русской національности, было для нихъ очень стѣснительно. Я увѣренъ, что со временемъ обнаружится очень значительная роль польскаго вліянія въ обширной интригѣ, свергнувшей Пирогова.
Подъемъ польскаго элемента въ университетѣ съ 1861 года сталъ особенно замѣтенъ благодаря тому, что какъ разъ въ это время была отмѣнена студентская форма. Явились тотчасъ національные костюмы, подъ которыми отличать поляка отъ малоросса было гораздо легче, чѣмъ подъ форменными сюртуками. Видъ аудиторій и корридоровъ совершенно измѣнился. Прежде, между студентами, бросались въ глаза молодые люди достаточныхъ семействъ, одѣвавшіеся у лучшаго городского портного, умѣвшіе въ своей форменной одеждѣ обнаружить щегольство и претензіи на свѣтскость. Поляки, сыновья богатыхъ мѣстныхъ помѣщиковъ, особенно старались отличаться аристократическою внѣшностью и манерами. Съ отмѣною формы всѣ эти господа куда-то исчезли. Отчасти ихъ унесли быстро назрѣвавшія въ Варшавѣ событія, такъ какъ большинству изъ нихъ предстояло играть видную роль въ предстоявшей, по существу своему чисто аристократической революціи; отчасти, можетъ быть, они были запуганы преобладающей массой сѣрыхъ и рыжихъ свитокъ, чамарокъ, смазныхъ сапоговъ и лохматыхъ головъ, наполнившихъ аудиторіи вслѣдъ за отмѣной формы. Университетъ демократизировался какъ бы по мановенію волшебнаго жезла – и не по одному только внѣшнему виду. Въ польской партіи, державшейся до сихъ норъ неизмѣнно самыхъ непримиримыхъ шляхетскихъ тенденцій, обнаружилось замѣчательное явленіе: горсть молодежи, сблизившись съ украйнофилами, съумѣла отрѣшиться отъ этихъ тенденцій и выступила съ радикально-демократической программой, оскорбившей самымъ чувствительнымъ образомъ старую польскую партію. Во главѣ отщепенцевъ стоялъ студентъ Рыльскій, очень энергическая и интересная личность, одна изъ тѣхъ личностей, которыя какъ будто нарочно созданы для того, чтобъ вобрать въ себя что-то новое, еще незамѣтное для другихъ, и дать ему форму. Не знаю, какая судьба постигла впослѣдствіи этого замѣчательнаго человѣка – говорили, что онъ принялъ православіе и женился на простой казачкѣ,– но роль его въ кіевскомъ университетѣ въ 1861-63 гг. была очень вліятельная: онъ какъ-бы продолжалъ дѣло, похищенное изъ рукъ Пирогова. Ненависть къ нему поляковъ была безпредѣльная; разсказывали, что его хотѣли убить. Энергія, съ какой онъ изобличалъ шляхетскую подкладку зачинавшагося движенія, безъ сомнѣнія не мало содѣйствовала тому, что съ 1861 года взаимныя отношенія поляковъ и русскихъ въ стѣнахъ университета приняли чрезвычайно острый характеръ. Дѣло доходило до угрозъ вареѳломеевской ночью, и я помню, что мы одно время принимали серьозныя мѣры предосторожности, собирались на ночь большими группами, и баррикадировали двери и окна… Въ аудиторіяхъ, въ сборной и читальной залахъ, поляки и русскіе держались, какъ два враждующіе лагеря; готовилась борьба за обладаніе университетомъ, противники косились другъ на друга, выжидая событій…
Съ конца 1862 года университетъ сталъ быстро пустѣть. Еще раньше, по-одиночкѣ, поляки начали куда-то исчезать; передъ зимними каникулами дезертирство усилилось, а послѣ новаго года большинство поляковъ не возвратилось. Рыльскій и украйнофилы, оставшись на покинутыхъ позиціяхъ, торжествовали.
Близь зданія университета находился большой, извѣстный всему городу манежъ ветерана старыхъ польскихъ войскъ, Ольшанскаго. Если не ошибаюсь, онъ преподавалъ верховую ѣзду казеннокоштнымъ студентамъ-медикамъ, готовившимся на должности военныхъ врачей.
Онъ былъ любимцемъ польской аристократической молодежи, сходившей съ ума отъ его старо-уланскихъ, длинныхъ бѣлыхъ усовъ и восторженныхъ разсказовъ о возстаніи 1830 года. Въ концѣ апрѣля, или въ началѣ мая, въ чудную весеннюю ночь, небольшія группы всадниковъ выѣхали однѣ за другими изъ воротъ манежа и направились мимо университета на житомирское шоссе. За Тріумфальными воротами всадники остановились, поджидая товарищей и строясь въ походную конную колонну. Это были запоздалыя жертвы польской идеи, юноши и мальчики, студенты и гимназисты, сформировавшіе единственную, цѣликомъ выступившую изъ Кіева конную банду.
Въ домѣ моего отца стояли на постоѣ драгуны. На разсвѣтѣ я услышалъ, что они сѣдлаютъ коней. Затѣмъ ихъ сѣрые силуэты, въ походной формѣ, тихо промелькнули мимо моихъ оконъ. Я одѣлся, вышелъ на улицу и узналъ, что ночью выступила изъ города банда, и что эскадронъ драгунъ и казачья сотня пущены вслѣдъ за ней. Я бѣгомъ вернулся домой, велѣлъ закладывать лошадей, и полчаса спустя догналъ нашъ отрядъ.
Въ 14 верстахъ отъ города, у д. Борщаговки, банда была настигнута. Казаки обскакали ее съ двухъ сторонъ, драгуны завязали перестрѣлку. Минутъ двадцать пули свистали, ломая пушистыя вѣтви ивъ; затѣмъ импровизированные польскіе кавалеристы стали поодиночкѣ прорываться сквозь казачью цѣпь. Крестьяне собрались со всѣхъ сторонъ ловить ихъ. Одинъ драгунъ и двое казаковъ были убиты; ихъ потомъ съ печальною торжественностью похоронили въ Кіевѣ.
Я въ эти дни сдавалъ свои послѣдніе университетскіе экзамены. Школьные года кончились…
В. Авсѣенко.«Историческій вѣстник», № 4, 1881
