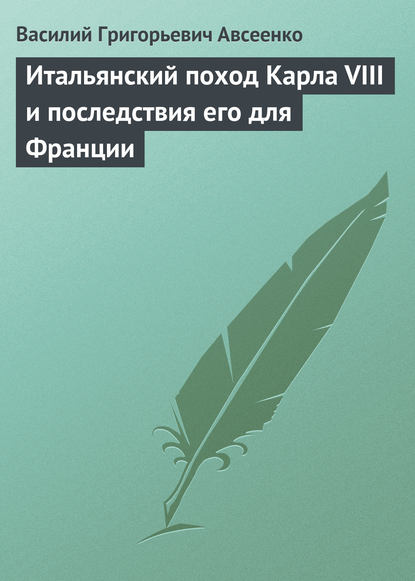 Полная версия
Полная версияИтальянский поход Карла VIII и последствия его для Франции
То же направленіе, тѣ же стремленія встрѣчаемъ мы и въ архитектурѣ временъ возрожденія. Торжеству классическаго идеала въ этой области искусства не мало содѣйствовало то обстоятельство, что готическій стиль никогда не проникалъ въ Италію во всей своей величавой суровости: средневѣковые итальянскіе зодчіе держались смѣшаннаго стиля, въ которомъ античная круглая линія сочеталась съ прямолинейными готическими очертаніями[80]. Въ эпоху возрожденія, греко-римскій стиль окончательно вытѣсняетъ готическій и проникаетъ даже въ церковную архитектуру, такъ точно, какъ языческая живопись проникла въ иконопись.
IV. Намъ остается еще разсмотрѣть, какъ относились итальянскіе гуманисты временъ возрожденія къ государству и свѣтской власти, т. е. какъ отразились идеи древняго міра въ ихъ политическихъ воззрѣніяхъ. Для этого намъ надо обратиться далеко назадъ, къ эпохѣ возвышенія папской власти.
Извѣстно, что въ первыя пять столѣтій, непосредственно слѣдовавшія за паденіемъ западной римской имперіи, папство вовсе не имѣло того универсальнаго, космополитическаго характера, какимъ отличалось оно, начиная съ XI вѣка. Въ этотъ пятисотлѣтній періодъ, папскую власть одушевляли совершенно иныя стремленія хотя, въ то же время, она не разъ громко заявляла тѣ неограниченныя притязанія, поддержаніе которыхъ въ послѣдствіи сдѣлалось ея традиціонной политикой. Источникъ первоначальныхъ тенденцій папства коренится въ событіяхъ, сопровождавшихъ паденіе западной римской имперіи, т. е. въ явленіяхъ той эпохи, когда развѣнчанная Италія должна была съ собственными скудными средствами противостоять наплыву новыхъ народовъ и новыхъ юридическихъ понятій. Въ этой коллизіи, на сторонѣ Италіи были только великія историческія воспоминанія, на сторонѣ враговъ ея была физическая сила; такимъ образомъ, исходъ борьбы можно было предсказать заранѣе. Но мы видимъ, что съ теченіемъ времени классическія воспоминанія Италіи всплыли на верхъ и западный міръ сомкнулся въ двѣ, преемственно следовавшія одна за другою, имперіи – сначала Франкскую, потомъ Германскую. Въ обоихъ этихъ явленіяхъ средневѣковой исторіи, Италія принимала только страдательное участіе: правда, безъ Италіи стала немыслима имперія, но имперія была не въ Италіи. Великая страна, заключавшая когда то весь цивилизованный міръ въ своихъ предѣлахъ, теперь была не болѣе, какъ провинціей Германіи. Если принять въ соображеніе, какъ живучи были у итальянской націи ея великія классическія преданія, какъ самолюбива была эта нація, которая даже въ XVI столѣтіи называла своихъ заальпійскихъ сосѣдей варварами почти въ томъ смыслѣ, въ какомъ употребляли это слово Геродотъ или Тацитъ, то не трудно будетъ понять, до какой степени тяготило Итальянцевъ X вѣка сознаніе ихъ политическаго ничтожества. Они чувствовали потребность возвратить свое прежнее міровое значеніе, а для этой цѣли имъ надо было, централизовавшись сначала у себя дома, сосредоточить потомъ въ этомъ центрѣ интересы всего западнаго міра. И вотъ, обнаруживается въ Италіи патріотическое движеніе, стремившееся стать во враждебное отношеніе къ императорской традиціи, и найдти точку опоры въ другомъ, вполнѣ національномъ учрежденіи, въ папствѣ. Папство было именно тѣмъ вполнѣ итальянскимъ, туземнымъ учрежденіемъ, которое могло сосредоточить въ себѣ разрозненныя силы полуострова и стать въ оппозицію къ другому учрежденію, хотя и выросшему на итальянской почвѣ, но воплотившему въ себѣ интересы другой народности, къ императорской власти. Этимъ значеніемъ, которымъ національное честолюбіе Итальянцевъ окружило папскую власть, въ извѣстной мѣрѣ объясняется, по нашему мнѣнію, то упорное, почти систематическое противодѣйствіе притязаніямъ императоровъ, какое постоянно обнаруживала не только римская курія, а вся итальянская нація. Но такое положеніе дѣлъ не могло быть продолжительнымъ. Папство могло служить національнымъ знаменемъ Италіи только до тѣхъ поръ, пока оно было абсолютнымъ, всѣми признаннымъ авторитетомъ, пока его окружалъ ореолъ величія и славы, пока въ немъ сосредоточивались интересы всего христіанскаго міра. Какъ скоро оно упало съ той высоты, на какую возвели его Григорій VII и Иннокентій III, оно должно было утратить обаяніе, приковывавшее къ нему умы итальянскихъ патріотовъ. Такъ именно и случилось, когда, со временъ Бонифація VIII, началось нисходящее движеніе папства. Папы сдѣлались вассалами французскихъ королей, поносили другъ друга бранью и анаѳемами, подчинились авторитету вселенскихъ соборовъ, тѣхъ соборовъ, на которыхъ національная гордость Итальянцевъ была сильно оскорблена. Всего этого было слишкомъ достаточно, чтобъ лишить папство суевѣрнаго уваженія Европы и въ особенности того великаго національнаго значенія, ка-кое имѣло оно въ глазахъ Итальянцевъ. Уже одинъ тотъ фактъ, что въ Италіи могла образоваться сильная гибеллинская партія, достаточно обнаруживаетъ, какъ не велико было въ то время довѣріе Итальянцевъ къ своему національному учрежденію: гибеллинизмъ на итальянской почвѣ представляетъ, прежде всего, отрицаніе тѣхъ надеждъ и упованій, которыя Италія возлагала на папство во время его величія и блеска.
Въ такомъ фазисѣ своего развитія находилась вѣчно-живая, никогда не умиравшая идея національнаго единства Итальянцевъ, когда и ученіе памятниковъ классической древности открыло передъ ними новый міръ. Чтеніе Ѳукидида, Ксенофонта, Ливія, открыло передъ ними картину государственнаго быта, мало сходнаго съ тѣмъ, среди котораго они жили. Въ особенности римскіе историки должны были оказать сильное вліяніе на воспріимчивое воображеніе Итальянцевъ, Древній Римъ, величественно выступающій изъ разсказовъ Ливія, его республиканскія формы, суровый, гордый патріотизмъ его гражданъ, обаятельно дѣйствовали на такихъ людей, какъ Петрарка и Коло ди Ріенцо. Связанные чувствомъ дружбы, основанномъ на родствѣ стремленій и взаимномъ уваженіи, эти люди шли рука объ руку къ осуществленію классическихъ идей, навѣянныхъ чтеніемъ Ливія; ихъ дѣятельность такъ неразрывно связана, что трудно рѣшить, была ли революція Коло ди Ріенцо осуществленіемъ идей Петрарки, или, напротивъ, республиканскія мечты Петрарки были возбуждены дѣятельностью Ріенцо. Въ ихъ личномъ характерѣ было много общаго, хотя и нельзя сказать, чтобъ они во всемъ походили другъ на друга. Петрарка былъ поэтъ и отчасти идеологъ, которому природа отказала въ большомъ практическомъ смыслѣ и большой энергіи къ дѣлу. Ріенцо былъ по преимуществу человѣкъ дѣла, страстная и безпокойная натура, созданная для заговоровъ и революцій. Вмѣстѣ съ тѣмъ, онъ былъ способенъ увлекаться великими идеалами, былъ проникнуть восторженною любовью къ древности. Живя въ Римѣ, онъ съ увлеченіемъ перечитывалъ Ливія, Саллюстія, Валерія Максима, и скоро воображеніе его воспламенилось ихъ разсказами. Образъ древняго міра въ величественной красотѣ возникъ въ его представленіи. Онъ задумалъ обширный политическій переворотъ, и благодаря анархіи, господствовавшей въ Римѣ, благодаря вліянію, какое доставилъ ему дружественный союзъ съ Петраркою, привелъ его въ исполненіе. Средневѣковой Римъ облекся въ классическія формы; столица папъ преобразовалась въ республику; древній форумъ наполнился народомъ, тѣснившимся передъ трибуной Ріенцо. Но обманъ продолжался не долго: Римъ отрезвился, минутная вспышка погасла, и Ріенцо поплатился жизнью за свою классическую комедію[81]. Впрочемъ, трагическая развязка дѣла, въ которомъ Петрарка принималъ самое непосредственное участіе, не поколебала его гордаго республиканскаго духа: онъ сохранилъ на всю жизнь свои юношескія стремленія, свое благоговѣніе предъ древнимъ государственнымъ бытомъ, его широкою политическою жизнью. Недовѣрчиво и строго относился онъ къ поколѣнію, среди котораго поставила его судьба; онъ весь уносился въ прошлое, онъ жилъ среди Рима временъ Катона и Сціпиона, и сожалѣлъ о ихъ недостойныхъ потомкахъ, для которыхъ слово «свобода» утратило всякій смыслъ, всякое очарованіе. Въ энергическихъ выраженіяхъ призывалъ онъ Римлянъ оглянуться на свое великое прошлое и почерпнуть въ немъ урокъ для настоящаго. «Если хотя капля древней крови течетъ въ вашихъ жилахъ, страшитесь утратить завоеванную свободу», писалъ онъ къ римскимъ гражданамъ, когда Ріенцо успѣлъ на нѣкоторое время утвердить среди нихъ республиканскія формы[82]. Но республика пала, и отъ классическихъ мечтаній Петрарки и Коло ди Ріенцо осталось только продолжительное броженіе въ Римѣ, долгое время бывшее источникомъ смутъ и безпорядковъ.
Несравненно важнѣе по своимъ послѣдствіямъ былъ переворотъ, произведенный въ политическихъ идеяхъ Италіи и всей Европы твореніями Макіавелли. Мы указывали уже на историческое значеніе Макіавелли, какъ дѣятеля возрожденія. Значеніе это заключается въ томъ, что онъ призвалъ къ жизни государственную идею, управлявшую классическимъ міромъ и забытую въ средніе вѣка, что на мѣсто павшаго духовнаго авторитета онъ далъ человѣчеству другой авторитетъ – политическій, національный, государственный. Въ этомъ, по нашему разумѣнію, заключается главная историческая заслуга Макіавелли, и она, а не его парадоксальная теорія свѣтской власти, изложенная въ извѣстной книгѣ его: "Il Principe", должна была по настоящему упрочить его имя въ исторіи. Макіавелли былъ государственный дѣятель, съ головы до ногъ. Его литературные труды, его общественное служеніе, даже его честная, домашняя жизнь, все въ немъ было посвящено государственнымъ цѣлямъ. "Рѣдко, говорить Блунчли, можно встрѣтить человѣка, который бы такъ всецѣло и исключительно былъ преданъ государству, какъ Макіавелли. Какъ вода для рыбъ и воздухъ для птицъ суть единственныя стихіи, среди которыхъ они могутъ существовать, такъ Макіавелли могъ жить только среди государства. Онъ – государственный человѣкъ въ полномъ смыслѣ слова. Онъ чувствуетъ себя призваннымъ играть политическую роль, и не можетъ жить внѣ политики. Его дарованія, его помыслы, его склонности посвящены государству. Онъ страстно любитъ государство, и готовъ пожертвовать ему всѣми своими силами. Онъ жертвуетъ ему своимъ спокойствіемъ, своимъ состояніемъ, своими друзьями, самимъ собою, даже своею честью и совѣстью. Выше политической дѣятельности онъ ничего не знаетъ и ни къ чему такъ не стремится; политическія науки стоять для него на второмъ планѣ. Онъ съ большею охотою пишетъ реляцію о посольствѣ, отъ которой онъ ожидаетъ непосредственнаго дѣйствія, нежели рѣчь о какомъ нибудь политическомъ вопросѣ. Четырнадцать лѣтъ (1498–1512), въ теченіе которыхъ онъ, какъ секретарь флорентинской республики, принималъ непосредственное участіе въ дѣлахъ, были счастливѣйшими въ его жизни, хотя многое шло тогда противно его желаніямъ, и хотя онъ занималъ мѣсто, слишкомъ скромное для его необыкновенныхъ способностей. Ему было въ высшей степени больно, когда онъ, въ самомъ цвѣтущемъ возрастѣ (онъ род. 1469), въ слѣдствіе государственнаго переворота и возвышенія Лоренцо Медичи, былъ отставленъ отъ своей должности и принужденъ жить частнымъ человѣкомъ. Онъ не могъ перенести этой вынужденной праздности. Какъ трогательны его жалобы, которыя онъ обращалъ къ своему другу Веттори. Какъ страдаетъ онъ, оттого что для него закрыта политическая дѣятельность, какъ безплодно и бѣдно кажется ему все, что онъ дѣлаетъ! Онъ едва находить, чѣмъ убить время. Ему опротивѣла ловля птицъ, которой онъ издавна любилъ заниматься; чтеніе поэтовъ, прелести природы развлекаютъ его только на короткое время; печально проводить онъ послѣобѣденные часы за картами и трик-тракомъ, въ обществѣ трактирщика, мясника, мельника и кирпичника. Зато вечеромъ онъ весь сосредоточивается. Онъ снимаетъ свою всегдашнюю нарядную одежду и надѣваетъ платье государственнаго человѣка. Онъ уединяется къ себѣ въ кабинетѣ, ведетъ таинственную бесѣду съ государственными людьми прежнихъ временъ, задаетъ себѣ политическія проблемы и упражняется въ ихъ рѣшеніи. Если онъ не можетъ заниматься дѣйствительными дѣлами, то занимается по крайней мѣрѣ вымышленными. Политическими науками онъ занимается только по нуждѣ; въ нихъ ищетъ онъ только исхода для внутреннихъ стремленій. которыя лучше желалъ бы обнаружить въ политической дѣятельности"[83].
Въ связи съ тѣмъ вліяніемъ, какое необходимо должна была оказать на современниковъ государственная идея, такъ рѣзко высказывавшаяся и въ литературныхъ трудахъ, и въ практической дѣятельности Макіавелли, находятся его патріотическія стремленія, также оказавшіяся не безъ вліянія на западную Европу. Съ этой стороны, политическая дѣятельность Макіавелли является въ самой непосредственной связи съ предшествовавшей исторіей Италіи. Мы старались уже указать, какъ къ концу среднихъ вѣковъ, папская власть, служившая до того времени національнымъ знаменемъ Италіи, потеряла кредитъ въ глазахъ итальянскихъ патріотовъ, и какъ въ слѣдъ за тѣмъ Петрарка и Коло ди Ріенцо пытались найдти выходъ изъ тяготившаго ихъ порядка вещей въ возвращеніи къ государственному и политическому быту классической старины. Теперь, въ лицѣ Макіавелли, патріотическія стремленія Италіи находятъ другой исходъ. Макіавелли точно также, какъ и его предшественники, скорбитъ о политическомъ ничтожествѣ своей родины, о ея національной разрозненности, разорванности, объ отсутствіи между отдѣльными частями ея единой централизующей связи; но онъ указываетъ другой путь къ достиженію политическаго могущества и единства Италіи. Убѣдясь, что папство не въ силахъ выполнить этой великой задачи, онъ обращается къ свѣтской власти, но не къ чужеземной, не къ императорской, какъ это дѣлали гибеллины, a къ такой власти, которая возросла бы на итальянской почвѣ и дѣйствовала бы итальянскими силами, Онъ ищетъ кругомъ себя итальянскаго государя, который, тѣмъ или другимъ путемъ, честно или безчестно, могъ бы настолько возвыситься надъ другими владѣтельными домами Италіи, чтобъ въ его лицѣ осуществилась идея итальянскаго единства. Такого государя находить онъ въ Цезарѣ Борджіа. Сынъ Александра VI, порочный, хитрый, мстительный, жестокій, одержимый безграничнымъ честолюбіемъ и одаренный замѣчательною силою воли. Цезарь Борджіа, при болѣе благопріятныхъ условіяхъ, могъ бы съ успѣхомъ выполнить задачу, которой такъ сочувствовалъ Макіавелли. Этимъ объясняются дружественныя отношенія, въ которыхъ находился великій флорентинець къ Цезарю Борджіа. Онъ видѣлъ въ немъ государя, который могъ силою и коварствомъ сосредоточить въ своихъ рукахъ господство надъ Италіей и вырвать ее изъ рукъ чужеземцевъ[84]. Обстоятельства сложились такимъ образомъ, что планъ, начертанный честолюбіемъ Цезаря Борджіа и патріотизмомъ Макіавелли, не могъ быть приведенъ въ исполненіе; но этотъ планъ все таки имѣетъ великое значеніе, потому что здѣсь смѣло заявленъ принципъ національности, которому, по видимому, предстоитъ высокая роль въ исторіи. Съ другой стороны, патріотическія стремленія Макіавелли имѣютъ для насъ тотъ же смыслъ, какъ и классическія мечты Петрарки, и республиканскіе планы Коло ди Ріенцо: это не болѣе, какъ разнообразныя проявленія все той же живучей патріотической идеи, которая не умирала въ продолженіе столѣтій, и которая служить мотивомъ современнаго итальянскаго движенія.
Въ этихъ краткихъ очеркахъ, мы разсмотрѣли общую картину итальянскаго гуманизма, какъ важнѣйшаго явленія эпохи возрожденія. Въ дальнѣйшемъ мы постараемся съ другихъ сторонъ обозрѣть внутреннее состояніе Италіи конца XV и начала XVI вѣка и указать, въ чемъ и насколько отразилось вліяніе его на Францію. Но для этого намъ надо обратиться къ Карлу VIII, котораго мы оставили на границахъ Италіи.
* * *Грозныя знаменія возвѣстили Италіи нашествіе варваровъ. Говорили, что въ темную ночь, среди страшныхъ ударовъ грома и ослѣпительнаго блеска молніи, взошли надъ Апуліей три солнца, окруженныя черными тучами; что масса вооруженныхъ всадниковъ, появилась въ воздухѣ надъ Ареццо; эти всадники сидѣли на коняхъ колоссальнаго роста, и отъ нихъ долеталъ страшный громъ барабановъ и трубъ; что многіе благочестивые люди видѣли, какъ потъ выступалъ на образахъ и статуяхъ святыхъ[85]. Этимъ сверхъестественнымъ явленіямъ природы какъ нельзя болѣе вторила вдохновенная рѣчь Савонаролы:
"О Италія! о Римъ! восклицалъ проповѣдникъ. Я призову людей, которые сотрутъ васъ съ лица земли. Они придутъ, голодные и ярые, какъ львы. За ними вслѣдъ я призову чуму, отъ которой никто не убѣжитъ. Смерть будетъ повсюду. Дома будутъ полны мертвыми, и могильщики начнутъ ходить по улицамъ съ крикомъ: выносите мертвыхъ! Горы тѣлъ будутъ повсюду, тѣлами завалятъ рвы и рѣки. По улицамъ ничего не будетъ слышно, кромѣ крика; мертвыхъ! У кого есть мертвые, выносите за ворота! Выйдутъ за ворота семьи, и отдавая трупы, скажутъ; вотъ мой сынъ, мой братъ, мой мужъ. Мало останется живыхъ, травою заростутъ улицы, лѣсами покроются дороги, и варвары наводнять Италію… О Римъ, покайся! Покайтесь Венеція, Миланъ!"[86]
Эти страшныя знаменія, эти рѣчи, эти стоны, наполняли ужасомъ сердца Итальянцевъ, и они съ сомнѣніемъ и страхомъ измѣряли силы приближавшагося врага. Численность французскаго войска, осенью 1494 г. вступившаго въ предѣлы Италіи подъ личнымъ предводительствомъ Карла VIII, простиралось, приблизительно, до 60.000 ч[87]. За исключеніемъ Швейцарцевъ, шедшихъ въ авангардѣ, оно состояло исключительно изъ Французовъ, издавна славившихся своею личною храбростью, преданностью королю, патріотизмомъ и честолюбіемъ. Оно не было, подобно итальянскимъ войскамъ, навербовано изъ подданныхъ различныхъ государствъ, раздѣленныхъ между собою взаимными антипатіями; оно повиновалось одному государю, шло подъ однимъ знаменемъ, сражалось за одни интересы[88]. Главную силу его составляла артиллерія, въ которой Франція не имѣла тогда соперниковъ. Карла VIII сопровождали 1000 мортиръ (grosses bombardes), 1200, тяжелыхъ ружей на лафетахъ (тогда еще не были извѣстны ручныя ружья), 200 опытныхъ артиллеристовъ, 600 плотниковъ и саперовъ, 300 литейщиковъ, болѣе 8000 упряжныхъ лошадей[89]. Огромный багажъ, навьюченный на муловъ, слѣдовалъ за арміей[90]. Французскіе артиллеристы славились своимъ искусствомъ и опытностью; громъ французскихъ выстрѣловъ былъ такъ силенъ, что оглушалъ большихъ рыбъ, плававшихъ въ окрестныхъ рѣкахъ[91]. Къ большимъ французскимъ мортирамъ были припряжены лошади, между тѣмъ какъ Итальянцы перевозили свои орудія на волахъ вслѣдствіе чего ихъ артиллерія не всегда могла поспѣвать за арміей. Французы такъ быстро строили батареи, залпы слѣдовали у нихъ за залпами такъ часто, что они, по словамъ Гвиччардини, въ нѣсколько часовъ совершали то, на что Итальянцамъ требовалось нѣсколько дней[92].
Это превосходство французскихъ войскъ надъ итальянскими уравновѣшивалось до нѣкоторой степени недостаткомъ въ денежныхъ средствахъ, который терпѣлъ Карлъ VIII. Нужда въ деньгахъ была такъ настоятельна для молодаго завоевателя, что онъ, прибывъ въ Туринъ, долженъ былъ заложить за 12.000 дукатовъ брильянты герцогини Савойской, и потомъ за такую же сумму денегъ заложилъ драгоцѣнности маркизы Монферратской[93]. «Пріятно видѣть, замѣчаетъ по этому поводу наивный комментаторъ Коммина, какъ государыни закладывали для короля свои драгоцѣнности; но прибѣгая къ займамъ, Карлъ VIII начиналъ тѣмъ, чѣмъ другіе оканчиваютъ, и онъ продолжалъ просить денегъ изъ дому въ домъ – обстоятельство, роковое для его предпріятія»[94]. Въ Асти Людовикъ Сфорца, прибывшій туда на встрѣчу Карлу VIII, еще разъ снабдилъ его деньгами[95]. Эта предупредительная готовность, съ какою владѣтельныя лица полуострова жертвовали своимъ достояніемъ для чужеземнаго завоевателя, указываетъ уже, какою смертельною язвою пораженъ былъ политическій организмъ Италіи. Великая страна заключала въ своихъ нѣдрахъ богатый запасъ политическихъ силъ; но эти силы были убиты, парализованы отсутствіемъ національнаго единства. Разнородныя, большія и малыя, государства Италіи, были разъединены взаимными антипатіями, и для своихъ частныхъ интересовъ жертвовали благомъ цѣлаго полуострова. Если мы взглянемъ на взаимныя отношенія итальянскихъ государей передъ походомъ Карла VIII, то увидимъ путаницу мелкихъ интригъ, личныхъ симпатій и антипатій, частныхъ, разрозненныхъ стремленій, среди которыхъ исчезаетъ идея національнаго единства. Въ семьѣ итальянскихъ государей, всѣ во враждѣ другъ съ другомъ. Людовикъ Сфорца ненавидитъ Фердинанда Неаполитанскаго; Людовика поддерживаетъ въ немъ эту ненависть; оба они, кромѣ того, ненавидятъ Джіованни Галеаццо, и жену его Изабеллу, внуку короля Неаполитанскаго; Неаполитанскій домъ, въ свою очередь, отплачиваетъ Сфорцамъ тою же монетою. Внутри миланскаго герцогства та же вражда, то же разъединеніе: народъ ненавидитъ Сфорцу за его тиранію и любитъ Галеаццо; Галеаццо ненавидитъ Сфорцу и равнодушенъ къ народу; Сфорца ненавидитъ и Галеаццо, и народъ. Во Флоренціи, Петръ Медичи держитъ сторону Неаполя, а народъ, волнуемый проповѣдями Савонаролы, сочувствуетъ Карлу VIII. Флоренція угнетаетъ Пизу; Пиза ненавидитъ Флоренцію и съ упованіемъ смотритъ на французское знамя. Папа находится во враждѣ со всей Италіей, и въ собственномъ семействѣ его братъ ненавидитъ брата, сынъ замышляетъ погибель отца. Подъ стѣнами Рима кипитъ кровавая борьба между Колонна, Орсини и Вителли. Венеція, по видимому, еще въ мирѣ со всѣми; но, не обнажая оружія, она выжидаетъ, пока сосѣди, истощенные взаимной борьбой, сами попадутъ въ лапы льва св. Марка. Подобныя же отношенія существуютъ и между мелкими владѣльцами Италіи. Такимъ образомъ, на пространствѣ всего полуострова, кипитъ междоусобная вражда, открытая и тайная, между государями съ одной, и между государями и подданными съ другой стороны. Подъ радужной оболочкой цивилизаціи, впервые такъ роскошно расцвѣтшей на почвѣ новой Европы, гноятся смертельныя язвы. порожденныя политической разрозненностью и деспотизмомъ. Отсутствіе національнаго единства, недостатокъ гражданскаго чувства и политической честности, какъ неизбѣжное слѣдствіе деспотизма, мертвятъ Италію. Это оборотная сторона медали, которую мы показали въ предшествовавшихъ очеркахъ. Это то больное, истерзанное сердце Италіи, къ которому, по выраженію Муратори, варвары припали сосать кровь[96]. Ему ли было противостоять первымъ, грознымъ ударамъ, обрушившимся на него изъ за Альпъ?
Между тѣмъ Карлъ VIII, оправившись отъ болѣзни, поразившей его въ Асти, продолжалъ свой по-ходъ. Въ какомъ то непонятномъ самозабвеніи, словно торжествуя и радуясь, встрѣчали его Итальянцы. "Весь походъ его, говоритъ анонимный авторъ одной анекдотической хроники Карла VIII, былъ непрерывнымъ тріумфомъ, торжествомъ, отпразднованнымъ со всѣми удовольствіями, какія только вообразить можно. Не нашлось ни одного замка, ни одного города, въ которомъ не былъ бы сдѣланъ ему блистательный пріемъ, точно среди полнаго мира. Всюду были празднества, столы, разставленные по дорогамъ и на улицахъ, концерты, стихи, спектакли и тысячи любезностей, такъ что можно было сказать, что онъ шелъ на завоеваніе королевства при звукахъ флейтъ, ступая по муравѣ и по цвѣтамъ. Дамы особенно выставляли на показъ все, что у нихъ было дорогаго и красиваго, и заявляли ему на тысячу способовъ удовольствіе его видѣть. Въ Quiers самыя красивыя дамы, окруживъ Карла VIII и поя вокругъ Него разныя рондо и баллады, надѣли на него вѣнокъ изъ фіалокъ и цѣловали его"[97]. Войска Карла VIII пользовались вездѣ удобнымъ помѣщеніемъ и довольствомъ, частію благодаря трусливой услужливости Итальянцевъ, частію вслѣдствіе благоразумной распорядительности Луи Вальто, главнаго французскаго квартирмейстера (grand marechal-des-logis)[98]. Въ Піаченцѣ прискакалъ къ Карлу VIII курьеръ съ извѣстіемъ о внезапной кончинѣ герцога Миланскаго[99]. Такимъ образомъ совершилась развязка кровавой драмы, издавна подготовлявшаяся въ семействѣ Сфорцы. Много было причинъ, такъ трагически рѣшившихъ судьбу злополучнаго герцога. Главная вина его заключалась въ томъ, что онъ, какъ наслѣдный владѣтель Милана, служилъ препятствіемъ къ достиженію честолюбивыхъ плановъ Сфорцы. Людовикъ Сфорца, по необыкновенной смуглости лица прозванный Моромъ (черный), съ 1419 года незаконно захватившій власть въ свои руки, не могъ быть спокоенъ, пока живъ былъ его племянникъ, Джіованни Галеаццо, законный герцогъ Миланскій. Къ этому присоединились также и другія личныя отношенія его къ племяннику. Джіованни былъ женатъ на Изабеллѣ, внукѣ Фердинанда Неаполитанскаго. Когда Людовикъ въ первый разъ увидѣлъ невѣсту своего племянника, въ немъ вспыхнула бѣшенная страсть къ ней. Разсказываютъ, что онъ прибѣгнулъ къ чарамъ, которыя должны были сдѣлать для новобрачныхъ недоступнымъ супружеское счастье. Въ это время, онъ старался соблазнить Изабеллу, но гордая внука Фердинанда отвѣчала презрѣніемъ на его мольбы. Тогда неистовая ярость вытѣснила изъ сердца Людовика прежнюю любовь, и онъ поклялся извести весь родъ Фердинанда Неаполитанскаго[100]. Въ этомъ рѣшеніи поддерживала Сфорцу же-на его, женщина честолюбивая и тщеславная, которая желала видѣть на головѣ мужа королевскую корону, и не могла простить Изабеллѣ страстной любви, возбужденной ею когда то въ сердцѣ Людовика[101]. Самъ Людовикъ Моръ, по свидѣтельству современниковъ, былъ человѣкъ хитрый и вѣроломный, не любившій рисковать опасностями, но не разбиравшій средствъ, если предстояла какая нибудь вѣрная пожива[102]. Долго не рѣшался онъ употребить насиліе противъ Джіованни Галеаццо, выжидая минуты, когда можно будетъ отдѣлаться отъ него безъ всякаго риска. Готовясь къ рѣшительному удару, онъ искалъ поддержки у иностранныхъ дворовъ, и заключилъ сдѣлку съ Максимиліаномъ, въ слѣдствіе которой послѣдній призналъ его герцогомъ миланскимъ[103]; Гвиччардини прибавляетъ, что Максимиліанъ, до смерти Галеаццо, считалъ нужнымъ таить отъ всѣхъ этотъ безчестный трактатъ. Изабелла, супруга герцога, женщина необыкновеннаго ума и характера, нѣсколько разъ обращалась къ своему отцу и дѣду, умоляя ихъ поставить ее въ безопасность отъ преступныхъ замысловъ Сфорцы[104]; но это только еще болѣе раздражало миланскаго узурпатора. Всего тягостнѣе было для Людовика видѣть открытое нерасположеніе къ себѣ народа, ненавидѣвшаго его за корыстолюбіе и тираннію:[105] онъ естественно долженъ былъ бояться, чтобъ народная симпатія, обращенная на Джіованни, не повела къ опасному для него государственному перевороту. Среди такихъ условій, всеобщее замѣшательство, произведенное въ Италіи походомъ Карла VIII, должно было только ускорить развязку семейной драмы, давно уже задуманную Людовикомъ Моромъ. Онъ не долго медлилъ: въ октябрѣ 1494 Джіованни Галеаццо погибъ жертвою отравы. Вѣсть объ этой печальной катастрофѣ поразила ужасомъ Карла VIII. Если вѣрить Гвиччардини[106], употребленіе яду было еще неизвѣстно за Альпами. Такимъ образомъ Французы, при первомъ знакомствѣ съ Италіей, получили урокъ изъ хитрой науки макіавелизма, которую потомъ съ такимъ успѣхомъ старалась акклиматизировать во Франціи Катерина Медичи. Въ умѣ Карла VIII родились серьезныя опасенія за свою жизнь, за исходъ своего предвзятая; многіе, видя вѣроломство и жестокость Итальянцевъ, стали отчаяваться въ успехѣ[107]. Но легкомысленное честолюбіе Карла VIII, поддерживаемое, по всей вѣроятности, настояніями Людовика Мора, скоро разсѣяло опасенія, и Карлъ устремился далѣе во глубину полуострова.

