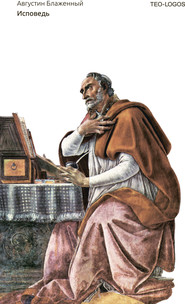скачать книгу бесплатно
8. Может ли один человек «исчислить хвалы Твои»[181 - Пс. 105:2.] за благодеяния Твои ему одному? Что сделал Ты тогда, Боже мой? как неисследима «бездна судеб Твоих»[182 - Пс. 35:7; ср. Рим. 11:33.]. Страдая лихорадкой, он долго лежал без памяти, в смертном поту. Так как в его выздоровлении отчаялись, то его окрестили в бессознательном состоянии[183 - Друг Бл. Августина был, вероятно, как и сам Августин, «оглашенным» с детства. К крещению больных Церковь относилась сдержанно, считая, что оно совершено не по доброй воле, а по необходимости. Лица, окрещенные таким образом, не могли стать священниками. Естественным, однако, было желание не оставить катехумена без крещения: крестили людей, даже лежавших без сознания. Третий Карфагенский собор санкционировал эту практику в тех случаях, когда родственники больного ручались, что он выражал желание креститься.]. Я не обратил на это внимания, рассчитывая, что в душе его скорее удержится то, что он узнал от меня, чем то, что делали с его бессознательным телом. Случилось, однако, совсем по-иному. Он поправился и выздоровел, и как только я смог говорить с ним (а смог я сейчас же, как смог и он, потому что я не отходил от него, и мы не могли оторваться друг от друга), я начал было насмехаться над крещением[184 - Манихеи отвергали крещение, считая, что никакого спасения оно не приносит.], которое он принял вовсе без сознания и без памяти. Он уже знал, что он его принял. Я рассчитывал, что и он посмеется вместе со мной, но он отшатнулся от меня в ужасе, как от врага, и с удивительной и внезапной независимостью сказал мне, что если я хочу быть ему другом, то не должен никогда говорить ему таких слов. Я, пораженный и смущенный, решил отложить свой натиск до тех пор, пока он оправится и сможет, вполне выздоровев, разговаривать со мной о чем угодно. Но через несколько дней, в мое отсутствие, он опять заболел лихорадкой и умер, отнятый у меня, безумного, чтобы жить у Тебя на утешение мне.
9. Какою печалью омрачилось сердце мое! куда бы я ни посмотрел, всюду была смерть. Родной город стал для меня камерой пыток, отцовский дом – обителью беспросветного горя; всё, чем мы жили с ним сообща, без него превратилось в лютую муку. Повсюду искали его глаза мои, и его не было. Я возненавидел всё, потому что нигде его нет, и никто уже не мог мне сказать: «Вот он придет», как говорили об отсутствующем, когда он был жив. Стал я сам для себя великой загадкой и спрашивал душу свою, почему она печальна и почему так смущает меня[185 - Пс. 41:6, 12.], и не знала она, что ответить мне. И если я говорил «надейся на Бога», она справедливо не слушалась меня, потому что человек, которого я так любил и потерял, был подлиннее и лучше, чем призрак, на которого ей велено было надеяться[186 - «Надейся на Бога». Бл. Августин вспоминает слова того же псалма; бог, в которого он тогда верил, был только созданием воображения, «призраком», phantasma. См. прим. 25 к кн. III. (В этой публикации кн. 3, гл.6, сноска 6.)]. Только плач был мне сладостен, и он наследовал другу моему в усладе души моей.
V
10. Теперь, Господи, это уже прошло, и время залечило мою рану. Можно ли мне услышать от Тебя, Который есть Истина, можно ли преклонить ухо моего сердца к устам Твоим и узнать от Тебя, почему плач сладок несчастным?[187 - Ср. Еврипид, irg., 577: «Услада для смертных в бедствиях, стенаниях и потоках слез. Они облегчают скорбь и разрешают великую сердечную муку».] Разве Ты, хотя и всюду присутствуя, отбрасываешь прочь от себя наше несчастье? Ты пребываешь в Себе; мы кружимся в житейских испытаниях. И, однако, если бы плач наш не доходил до ушей Твоих, ничего не осталось бы от надежды нашей[188 - Такова ли трансцендентность Бога, чтобы Ему безразличны были наши страдания, и нам нечего ожидать от Него помощи и утешения в горе? Бл. Августин никогда не сомневался в том, что Провидение внимательно к людям и заботится о них.]. Почему с жизненной горечи срываем мы сладкий плод стенания и плач, вздохи и жалобы?
Или сладко то, что мы надеемся быть услышаны Тобою? Это верно в отношении молитв, которые дышат желанием дойти до Тебя. Но в печали об утере и в той скорби, которая окутывала меня? Я ведь не надеялся, что он оживет, и не этого просил своими слезами; я только горевал и плакал, потерян я был и несчастен: потерял я радость свою. Или плач, горестный сам по себе, услаждает нас, пресытившихся тем, чем мы когда-то наслаждались и что теперь внушает нам отвращение?
VI
11. Зачем, однако, я говорю это? Сейчас время не спрашивать, а исповедоваться Тебе. Я был несчастен, и несчастна всякая душа, скованная любовью к тому, что смертно: она разрывается, теряя, и тогда понимает, в чем ее несчастье, которым несчастна была еще и до потери своей.
Таково было состояние мое в то время; я горько плакал и находил успокоение в этой горечи. Так несчастен я был, и дороже моего друга оказалась для меня эта самая несчастная жизнь. Я, конечно, хотел бы ее изменить, но также не желал бы утратить ее, как и его. И я не знаю, захотел ли бы я умереть даже за него, как это рассказывают про Ореста и Пилада[189 - Герои греческой мифологии, бывшие примером идеальной дружбы.], если это только не выдумка, что они хотели умереть вместе один за другого, потому что хуже смерти была для них жизнь врозь. Во мне же родилось какое-то чувство, совершенно этому противоположное; было у меня и жестокое отвращение к жизни и страх перед смертью. Я думаю, что чем больше я его любил, тем больше ненавидел я смерть и боялся, как лютого врага, ее, отнявшую его у меня. Вдруг, думал я, поглотит она и всех людей: могла же она унести его.
В таком состоянии, помню, находился я. Вот сердце мое, Боже мой, вот оно – взгляни вовнутрь его, таким я его вспоминаю. Надежда моя, Ты, Который очищаешь меня от нечистоты таких привязанностей, устремляя глаза мои к Тебе и «освобождая от силков ноги мои»[190 - Пс. 24:15.]. Я удивлялся, что остальные люди живут, потому что тот, которого я любил так, словно он не мог умереть, был мертв: и еще больше удивлялся, что я, его второе «я», живу, когда он умер. Хорошо сказал кто-то о своем друге: «половина души моей»[191 - Гораций. «Оды», 1, 3, 8.]. И я чувствовал, что моя душа и его душа были одной душой в двух телах[192 - По словам Диогена Лаертия (6, 1, 20), Аристотель дал такое определение дружбы: «Одна душа, живущая в двух телах».], и жизнь внушала мне ужас: не хотел я ведь жить половинной жизнью. Потому, может быть, и боялся умереть, чтобы совсем не умер тот, которого я так любил.
VII
12. О, безумие, не умеющее любить человека, как полагается человеку![193 - То есть понимая и принимая человеческую смертность и ограниченность.] О, глупец, возмущающийся человеческой участью! Таким был я тогда: я бушевал, вздыхал, плакал, был в расстройстве, не было у меня ни покоя, ни рассуждения. Повсюду со мной была моя растерзанная, окровавленная душа, и ей невтерпеж было со мной, а я не находил места, куда ее пристроить. Рощи с их прелестью, игры, пение, сады, дышавшие благоуханием, пышные пиры, ложе нег, самые книги и стихи – ничто не давало ей покоя. Всё внушало ужас, даже дневной свет; всё, что не было им, было отвратительно и ненавистно. Только в слезах и стенаниях чуть-чуть отдыхала душа моя, но, когда приходилось забирать ее оттуда, тяжким грузом ложилось на меня мое несчастье. К Тебе, Господи, надо было вознести ее и у Тебя лечить. Я знал это, но и не хотел и не мог, тем более что я не думал о Тебе, как о чем-то прочном и верном. Не Ты ведь, а пустой призрак и мое заблуждение были моим богом. И если я пытался пристроить ее тут, чтобы она отдохнула, то она катилась в пустоте и опять обрушивалась на меня, и я оставался с собой: злосчастное место, где я не мог быть и откуда не мог уйти. Куда мое сердце убежало бы от моего сердца? Куда убежал бы я от самого себя? Куда не пошел бы вслед за собой?
И всё-таки я убежал из родного города. Меньше искали его глаза мои там, где не привыкли видеть, и я переехал из Тагасты в Карфаген[194 - Августин уехал, ничего не сказав матери (Против академиков, 2, 2, 3). Романиан, гражданин Тагасты, богатый человек и друг Бл. Августина, который жил у него, когда Моника отказалась пустить Августина в родной дом, снабдил его средствами на переезд и на устройство в новом месте.].
VIII
13. Время не проходит впустую и не катится без всякого воздействия на наши чувства: оно творит в душе удивительные дела. Дни приходили и уходили один за другим; приходя и уходя, они бросали в меня семена других надежд и других воспоминаний; постепенно лечили старыми удовольствиями, и печаль моя стала уступать им; стали, однако, наступать – не другие печали, правда, но причины для других печалей. Разве эта печаль так легко и глубоко проникла в самое сердце мое не потому, что я вылил душу свою в песок, полюбив смертное существо так, словно оно не подлежало смерти?
А меня как раз больше всего утешали и возвращали к жизни новые друзья, делившие со мной любовь к тому, что я любил вместо Тебя: нескончаемую сказку[195 - Так Бл. Августин называет учение манихеев.], сплошной обман, своим нечистым прикосновением развращавший наши умы, зудевшие желанием слушать[196 - Prurientes in auribus – «с зудом в ушах». Ср.: 2 Тим. 4:3.]. И если бы умер кто-нибудь из моих друзей, эта сказка не умерла бы для меня.
Было и другое, что захватывало меня больше в этом дружеском общении: общая беседа и веселье, взаимная благожелательная услужливость; совместное чтение сладкоречивых книг, совместные забавы и взаимное уважение; порою дружеские размолвки, какие бывают у человека с самим собой, – самая редкость разногласий как бы приправляет согласие длительное, – взаимное обучение, когда один учит другого и в свою очередь у него учится; тоскливое ожидание отсутствующих; радостная встреча прибывших. Все такие проявления любящих и любимых сердец[197 - Redamantium («взаимная любовь»); redamare впервые у Цицерона – «О дружбе», 14, 49. Как и многие слова, созданные им, оно появляется опять только у поздних писателей: Макробия (Сатурналии, 6, 6, 8); Симмаха («Письма»).] – в лице, в словах, в глазах и тысяче милых выражений – как на огне сплавляют между собою души, образуя из многих одну.
IX
14. Вот что мы любим в друзьях и любим так, что человек чувствует себя виноватым, если он не отвечает любовью на любовь. От друга требуют только выражения благожелательности. Отсюда эта печаль по случаю смерти; мрак скорби; сердце, упоенное горечью, в которую обратилась сладость; смерть живых, потому что утратили жизнь умершие.
Блажен, кто любит Тебя, в Тебе друга и ради Тебя врага. Только тот не теряет ничего дорогого, кому все дороги в Том, Кого нельзя потерять. А кто это, как не Бог наш, Бог, Который «создал небо и землю» и «наполняет их»[198 - Быт. 1:1 и Иер. 23:24.], ибо, наполняя, Он и создал их. Тебя никто не теряет, кроме тех, кто Тебя оставляет, а кто оставил, – куда пойдет и куда убежит? Только от Тебя, милостивого, к Тебе, гневному. Где не найдет он в каре, его достигшей, Твоего закона? А «закон Твой – истина», и «истина – это Ты»[199 - Пс. 118:142; Ин. 14:6.].
X
15. «Боже сил, обрати нас, покажи нам лик Твой, и мы спасемся»[200 - Пс. 79:8.]. Куда бы ни обратилась человеческая душа, всюду кроме Тебя наткнется она на боль, хотя бы наткнулась и на красоту, но красоту вне Тебя и вне себя самой. И красота эта ничто, если она не от Тебя. Прекрасное родится и умирает; рождаясь, оно начинает как бы быть и растет, чтобы достичь полного расцвета, а, расцветши, стареет и гибнет. Не всегда, правда, доживает до старости, но гибнет всегда. Родившись и стремясь быть, прекрасное, чем скорее растет, утверждая свое бытие, тем сильнее торопится в небытие: таков предел, положенный Тобою земным вещам, потому что они только части целого, существующие не одновременно; уходя и сменяя друг друга, они, как актеры, разыгрывают все цельную пьесу, в которой им даны отдельные роли. То же происходит и с нашей речью, состоящей из звуковых обозначений. Речь не будет целой, если каждое слово, отзвучав в своей роли, не исчезнет, чтобы уступить место другому.
Да хвалит душа моя за этот мир[201 - Пс. 145:1–2.] Тебя, «Господь, всего Создатель»[202 - Первая строка Амвросиева вечернего гимна. См.: «Исповедь», IX, 15 и 32.], но да не прилипает к нему чувственной любовью, ибо он идет, куда и шел – к небытию, и терзает душу смертной тоской, потому что и сама она хочет быть и любит отдыхать на том, что она любит. А в этом мире негде отдохнуть, потому что все в нем безостановочно убегает: как угнаться за этим плотскому чувству? Как удержать даже то, что сейчас под рукой? Медлительно плотское чувство, потому что оно плотское: ограниченность – его свойство. Оно удовлетворяет своему назначению, но его недостаточно, чтобы удержать то, что стремится от положенного начала к положенному концу. Ибо в слове Твоем, которым создан мир, слышит оно: «Отсель и досель».
XI
16. Не суетись, душа моя: не дай оглохнуть уху сердца от грохота суеты твоей. Слушай, само Слово зовет тебя вернуться: безмятежный покой там, где Любовь не покинет тебя, если сам ты Ее не покинешь. Вот одни создания уходят, чтобы дать место другим: отдельные части в совокупности своей образуют этот дольний мир. «Разве Я могу уйти куда-нибудь?» – говорит Слово. Здесь утверди жилище свое; доверь всё, что у тебя есть; душа моя, уставшая, наконец, от обманов. Доверь Истине всё, что у тебя есть от Истины, и ты ничего не утратишь; истлевшее у тебя покроется цветом; исцелятся все недуги твои; преходящее получит новый облик, обновится и соединится с тобой; оно не увлечет тебя в стремлении вниз, но недвижно останется с тобой и пребудет у вечно недвижного и пребывающего Бога[203 - Пс. 101:13.].
17. Зачем, развращенная, следуешь ты за плотью своей? Пусть она, обращенная, следует за тобой. Всё, что ты узнаешь через нее, частично; ты не знаешь целого, которому принадлежат эти части, и всё-таки они тебя радуют. Если бы твое плотское чувство способно было охватить всё, и не было бы оно, в наказание тебе, справедливо ограничено постижением только части, то ты пожелал бы, чтобы всё, существующее сейчас, прошло, дабы ты больше мог наслаждаться целым[204 - В этом противоположении «части» и «целого» есть, может быть, реминисценция из Порфириевых «Aphormai», где или афористически сжаты, или подробно развиты главные положения Плотина, высказанные в «Эннеадах». Плотиново ??? («Одно») и есть бог, «Целое».]. Ведь и речь нашу ты воспринимаешь тоже плотским чувством, и тебе, разумеется, захочется, чтобы отдельные слога быстро произносились один за другим, а не застывали неподвижно: ты ведь хочешь услышать всё целиком. Так и части, составляющие нечто единое, но возникающие не все одновременно в том, что они составляют: всё вместе радует больше части, если бы только это «всё» могло быть разом воспринято. Насколько же лучше тот, кто создал целое – Господь наш. И Он не уходит, потому что для Него нет смены.
XII
18. Если тела угодны тебе, хвали за них Бога и обрати любовь свою к их мастеру, чтобы в угодном тебе не стал ты сам неугоден. Если угодны души, да будут они любимы в Боге, потому что и они подвержены перемене, и утверждаются в Нем, а иначе проходят и приходят. Да будут же любимы в Нем: увлеки к Нему с собой те, какие сможешь, и скажи им: «Его будем любить: Он создатель и Он недалеко»[205 - Деян. 17:27.]. Он не ушел от Своего создания: оно из Него и в Нем. Где же Он? Где вкушают истину? Он в самой глубине сердца[206 - Современные исследователи Бл. Августина полагают, что неоплатоники могли приобщить Августина к философии «разумного делания»: входя в себя, очищаясь от чувственного, чтобы лучше овладеть собой, душа находит истину. См.: A. Solignac. «Reminescences plotiniennes et porphyriennes», р. 455–464.], только сердце отошло от Него. «Вернитесь, отступники, к сердцу»[207 - Бл. Августин думает о законе, написанном в сердце человека (Рим. 2:15).] и прильните к Тому, Кто создал вас. Стойте с Ним – и устоите; успокойтесь в Нем и покойны будете. Куда, в какие трущобы вы идете? Куда вы идете? То хорошее, что вы любите, от Него, и поскольку оно с Ним, оно хорошо и сладостно, но оно станет горьким – и справедливо, – потому что несправедливо любить хорошее и покинуть Того, Кто дал это хорошее.
Зачем вам опять и опять ходить по трудным и страдным дорогам? Нет покоя там, где вы ищете его. Ищите, что вы ищете, но это не там, где вы ищете. Счастливой жизни ищете вы в стране смерти: ее там нет. Как может быть счастливая жизнь там, где нет самой жизни?
19. Сюда спустилась сама Жизнь наша и унесла смерть нашу и поразила ее избытком жизни своей. Прогремел зов Его, чтобы мы вернулись отсюда к Нему, в тайное святилище, откуда Он пришел к нам, войдя сначала в девственное чрево, где с Ним сочеталась человеческая природа, смертная плоть, дабы не остаться ей навсегда смертной, и «откуда Он вышел, как супруг из брачного чертога своего, радуясь, как исполин, пробежать поприще»[208 - Пс. 18:6.]. Он не медлил, а устремился к нам, крича словами, делами, смертью, жизнью, сошествием, восшествием крича нам вернуться к Нему. Он ушел с глаз наших, чтобы мы вернулись в сердце наше и нашли бы Его. Он ушел, и вот Он здесь; не пожелал долго быть с нами и не оставил нас. Он ушел туда, откуда никогда не уходил, ибо «мир создан Им» и «Он был в этом мире» и «пришел в этот мир спасти грешников»[209 - Ин. 1:10; 1 Тим. 1:15.]. Ему исповедуется душа моя, и Он «излечил ее, потому что она согрешила пред Ним»[210 - Пс. 40:5.].
«Сыны человеческие, доколе будет отягощено сердце ваше?» Жизнь спустилась к вам – разве не хотите вы подняться и жить? Но куда вам подняться, если вы «высоко и положили на небо главы свои»[211 - Пс. 72:9.]. Спуститесь, чтобы подняться, и поднимайтесь к Богу: вы ведь упали, поднявшись против Него[212 - «Смиряясь в покаянии, душа получает свою высоту» (Бл. Августин. «О свободной воле», 3, 5). «Человеческая смертная природа надута гордыней. И чтобы человек не считал недостойным себя подражать уничиженному, Сам Господь стал уничиженным, чтобы хоть после этого человеческая гордыня не считала недостойным идти по Его следам».].
Скажи им это, пусть они плачут «в долине слез»[213 - Пс. 83:7.], увлеки их с собой к Богу, ибо слова эти говоришь ты от Духа Святого, если говоришь, горя огнем любви.
XIII
20. Я не знал тогда этого, я любил дольную красоту, я шел в бездну и говорил друзьям своим: «Разве мы любим что-нибудь кроме прекрасного? А что такое прекрасное? И что такое красота? Что привлекает нас в том, что мы любим, и располагает к нему? Не будь в нем приятного и прекрасного, оно ни в коем случае не могло бы подвинуть нас к себе». Размышляя, я увидел, что каждое тело представляет собой как бы нечто целое и потому прекрасное, но в то же время оно приятно и тем, что находится в согласовании с другим. Так отдельный член согласуется со всем телом, обувь подходит к ноге и т. п. Эти соображения хлынули из самых глубин моего сердца, и я написал работу «О прекрасном и соответствующем», кажется, в двух или трех книгах. Тебе это известно, Господи: у меня же выпало из памяти. Самих книг у меня нет; они затерялись, не знаю, каким образом.
XIV
21. Что побудило меня, Господи, Боже мой, посвятить эти книги Гиерию, римскому оратору[214 - О Гиерии ничего не известно, кроме того, что сообщает Бл. Августин: во второй половине IV в. много философов и государственных людей носило это имя (финикийский философ, корреспондент Либания; философ неоплатоник; ученик Ямвлиха и учитель Максима; викарий Африки). Кому посвятил Августин свою книгу? Во всяком случае, адресат был фигурой крупной: философом и оратором.], которого я не знал лично, но которым восхищался за его громкую славу ученого. Мне сообщили некоторые его изречения, и они мне нравились. Еще больше нравился он мне потому, что очень нравился другим, и его превозносили похвалами, недоумевая, как сириец, умевший сначала прекрасно говорить по-гречески, стал впоследствии мастером латинской речи и выдающимся знатоком во всех вопросах, касающихся философии.
Человека хвалят, и вот его заглазно начинают любить. Разве эта любовь входит в сердце слушающего от слов хвалящего? Нет! любящий зажигает любовью и другого. Поэтому и любят того, кого хвалят другие, веря, что хвала ему возглашается нелживым сердцем, а это значит, что хвалят, любя.
22. Так любил я тогда людей, доверяясь суду человеческому, а не Твоему, Господи, которым никто не обманывается.
Почему, однако, хвалы ему воздавались совсем иные, чем знаменитому вознице или цирковому охотнику, прославленному народной любовью? Они были серьезны и важны; такие хотел я услышать о себе самом. Я ведь не хотел бы, чтобы меня хвалили и любили так, как актеров, хотя я сам расхваливал их и любил; но я избрал бы полную неизвестность, даже ненависть к себе, но не такую славу, но не такую любовь. Какими гирями одна и та же душа развешивает разную, столь несходную любовь? Почему я люблю в другом то, что одновременно ненавижу? Я ведь гнушаюсь этим для себя и наотрез от этого отказываюсь. А мы оба, и он и я, люди! Хорошую лошадь можно любить, не желая стать ею, даже если бы это было возможно. С актером случай другой: он нашего рода. Значит, я люблю в человеке то, что для меня в себе ненавистно, хотя и я человек?[215 - Бл. Августин чувствует, что, восхищаясь актером, он видит в нем орудие, действующее для его удовольствия, а не человека в его высоком достоинстве. Останавливается он здесь, однако, не столько на моральной проблеме, сколько на психологической загадке.] Великая бездна сам человек, «чьи волосы сочтены»[216 - Мф. 10:30.] у Тебя, Господи, и не теряются у Тебя, и, однако, волосы его легче счесть, чем его чувства и движения его сердца.
23. Что же касается Гиерия, то он принадлежал к тому типу ораторов, который мне так нравился, что мне самому хотелось быть одним из них. Я заблуждался в гордости своей, «был носим всяким ветром»[217 - Еф. 4:14.], и совершенно скрыто от меня было руководство Твое. И откуда мне знать и как с уверенностью исповедать Тебе, что я больше любил его за любовь и похвалы, чем за те занятия, за которые его хвалили? Если бы те же самые люди не хвалили, а бранили его и рассказывали о нем то же самое, но с бранью и презрением, я не воспламенился бы любовью к нему, хотя ни занятия его, ни он сам не стали бы другим: другими были бы только чувства рассказчиков.
Вот куда брошена немощная душа, не прилепившаяся еще к крепкой истине. Ее несет и кружит, бросает туда и сюда, смотря по тому, куда дует вихрь слов и мнений. Они заслоняют ей свет, и она не видит истины. Она же вот – перед нами.
Для меня тогда было очень важно, чтобы моя книга и мои труды стали известны этому человеку. Его одобрение заставило бы меня загореться еще большим усердием; его неодобрение ранило бы мое суетное, не имевшее в Тебе опоры сердце. И, однако, я с любовью охотно переворачивал перед своим умственным взором вопрос о прекрасном и соответственном, о чем писал ему, и приходил в восторг от своей работы, не нуждаясь ни в чьих похвалах.
XV
24. Я не видел, однако, стержня в великом деле, в искусстве Твоем, Всемогущий, «Который один творишь чудеса»[218 - Пс. 71:18.]. Душа моя странствовала среди телесных образов: «прекрасное», являющееся таковым само по себе, и «соответственное», хорошо согласующееся с другим предметом, я определял и различал, пользуясь доказательствами и примерами из мира физического.
Потом я обратился к природе души, но ложные понятия, бывшие у меня о мире духовном, мешали мне видеть истину. Во всей силе своей стояла истина у меня перед глазами, а я отвращал свой издерганный ум от бестелесного к линиям, краскам и крупным величинам. И так как я не мог увидеть это в душе, я думал, что не могу видеть и свою душу. Я любил согласие, порождаемое добродетелью, и ненавидел раздор, порождаемый порочностью. В первой я увидел единство, во второй – разделенность. Это единство представлялось мне как совместность разума, истины и высшего блага; разделенность – как некая неразумная жизнь и высшее зло. Я, несчастный, считал, что оно не только субстанция, но что это вообще некая жизнь, только не от Тебя исходящая, Господи, от Которого всё. Единство я назвал монадой, как некий разум, не имеющий пола, а разделенность – диадой: это гнев в преступлениях и похоть в пороках[219 - Книга Бл. Августина «О прекрасном и соответственном» потеряна. Она дала бы многое для суждения о нем молодом, о его умственных интересах, философской культуре и о влиянии на него манихеев. Августин рассматривал в ней одну из центральных проблем платонизма: сущность прекрасного, взаимоотношения между ним и «подходящим» (см.: «Пир» 211а; «Федр» 249а; 264 и особенно «Гиппий Старший» 290 а – 296 с. Ср.: Цицерон. «Об обязанностях», I, 27–28, 93–99. О возможных источниках Августина см.: K. Sloboda. «L’esthetique de S. Augustin et ses sources», Brno et Paris, 1935, р. 10–16). Бл. Августин в этой работе принимает манихейский дуализм, но мифологическая форма, в которую он был обличен, видимо, его уже не удовлетворяла, и он обратился к философской терминологии, использовав по-своему пифагорейские монаду и диаду – sine sexu (ср.: Макробий. Сон Сципиона, 1, 6, 8): «Монада, т. е. единство, одновременно и мужского и женского пола».]. Сам я не понимал, что говорю. Я не знал и не усвоил себе, что зло вовсе не есть субстанция и что наш разум не представляет собой высшего и неизменного блага.
25. Преступление есть порочное движение души, побуждающее к действию, в котором душа и утверждает себя дерзостно и взбаламученно. Разврат есть необузданное желание, жадное к плотским радостям. Если разумная душа сама порочна, то жизнь пятнают заблуждения и ложные понятия. Как раз такая и была у меня тогда, и я не знал, что ее надо просветить другим светом, чтобы приобщить к истине, потому что в ней самой нет истины. Ибо «Ты зажжешь светильник мой, Господи, Боже мой, Ты просветишь тьму мою; и от полноты Твоей получим мы всё. Ты свет истинный, освещающий всякого человека, приходящего в этот мир, ибо у Тебя нет изменения и ни тени перемены»[220 - Пс. 17:29; Ин. 1:16; Иак. 1:17.].
26. Я порывался к Тебе и был отбрасываем назад, да отведаю вкуса смерти, потому что «Ты противишься гордым»[221 - 1 Пет. 5:5.].
А разве не великая гордость притязать по удивительному безумию, что по природе своей я то же самое, что и Ты?[222 - По манихейскому учению, добро в человеческой душе «от самой субстанции Бога».] Подверженный изменению и ясно видя это из того, что я очень хотел быть мудрым, дабы стать лучше, я предпочел, однако, считать Тебя подверженным изменению, чем признать, что я не то же самое, что и Ты. Потому я и был отталкиваем назад, и Ты пригибал мою кичливую выю[223 - В подл. ventosa cervix – «шея, надутая ветром» – смелая метафора.]. Я носился со своими телесными образами; я, плоть, обвинял плоть, и «бродячий дух»[224 - Пс. 77:39.], я не повернулся к Тебе; бродя, я бродил среди несуществующего ни в Тебе, ни во мне, ни в теле: тут не было подлинных Твоих созданий, а были одни мои пустые мечтания. И я спрашивал у малых верных детей Твоих, моих сограждан, из среды которых я, сам того не зная, был изгнан, я спрашивал их, нелепый болтун: «Почему же заблуждается душа, которую создал Бог?» Я не хотел, чтобы меня спросили: «Почему же заблуждается Бог?» И я силился доказать, что скорее Ты в своей неизменной сущности вынужден впасть в заблуждение; чем признаться, что я подверженный изменению, добровольно сбиваюсь с пути и в наказание за это впадаю в заблуждение[225 - «Справедливейшее наказание за грех состоит в том, что человек утрачивает то, чем он не захотел хорошо пользоваться… тот, кто не захотел поступать правильно, когда мог, утрачивает эту возможность, когда захочет поступить правильно» («О свободной воле», 3, 18, 52).].
27. Мне было, пожалуй, лет двадцать шесть – двадцать семь, когда я закончил эти свитки, развертывая перед собой свои выдумки – эти материальные образы, оглушавшие уши моего сердца. Я настораживал их, сладостная Истина, чтобы услышать мелодию Твою, звучавшую глубоко внутри меня. Я думал о «прекрасном и соответственном», хотел встать на ноги и услышать Тебя, «радостью обрадоваться, слыша голос жениха»[226 - Ин. 3:29.] и не мог: мое заблуждение громко звало меня и увлекало наружу; под тяжестью гордости своей падал я вниз. «Ты не давал слуху моему радости и веселия», и не «ликовали кости мои», потому что «не были сокрушены»[227 - Пс. 50:10.].
XVI
28. И какая польза для меня была в том, что лет двадцати от роду, когда мне в руки попало одно произведение Аристотеля под заглавием «Десять категорий»[228 - «Категории» Аристотеля образуют первую часть Organon (собрание трактатов по логике); подлинность их теперь оспаривается многими, но вопрос остается неразрешенным. Книгу эту обильно комментировали в первые века по Р.Х., особенно неоплатоники. Переведенная на латынь Марием Викторином, она стала в Средние века на Западе фундаментом для преподавания логики. Этот перевод, вероятно, и читал Бл. Августин. Аристотель перечисляет предикаты, которые могут быть приложены к субъекту: ????? – качество; ????? – какой величины; ????? – какого качества; ???? ?? – в каком отношении к тому-то; ?? – где; ???? – когда; ?????? – положение; ????? – состояние; ????? – что делает; ??????? – что переносит. Находясь под влиянием манихейской антропологии, Бл. Августин считал, что эти девять категорий приложимы и к Богу, как субъекту, отличному от атрибутов величия, красоты и т. д.] (карфагенский ритор, мой учитель, и другие люди, считавшиеся учеными, раздуваясь от гордости, трещали о нем, и, слыша это название, я только и мечтал об этой книге, как о чем-то великом и божественном), я оказался единственным, прочитавшим и понявшим ее? Когда я беседовал по поводу этих категорий с людьми, которые говорили, что они с трудом их поняли и то лишь с помощью ученых наставников, объяснявших их не только словесно, но и с помощью многочисленных рисунков на песке, то оказалось, что они могут сказать мне о них только то, что я, при своем одиноком чтении, узнал у себя самого. По-моему, книга эта совершенно ясно толковала о субстанциях и их признаках: например, человек – это качество; сколько в нем футов роста – это количество; его отношение к другим: например, чей он брат; место, где он находится; время, когда родился; его положение: стоит или сидит; что имеет: обувь или вооружение; что делает или что терпит. Под эти девять категорий, для которых я привел примеры, и под самую категорию субстанции подойдет бесконечное число явлений.
29. Какая была мне от этого польза? А вред был. Считая, что вообще всё существующее охвачено этими десятью категориями, я пытался и Тебя, Господи, дивно простого и не подверженного перемене, рассматривать как субъект Твоего величия или красоты[229 - Различие между субстанцией и ее признаками неприложимо к Богу.], как будто они были сопряжены с Тобой, как с субъектом, т. е. как с телом, тогда как Твое величие и Твоя красота это Ты сам. Тело же не является великим или прекрасным потому, что оно тело: меньшее или менее красивое, оно все равно остается телом.
Ложью были мои мысли и о Тебе, а не истиной: жалкий вымысел мой, не блаженная крепость Твоя. Ибо Ты повелел, и так и стало со мной: земля «начала рожать мне терния и волчцы»[230 - Быт. 3:18.], и с трудом получал я хлеб свой.
30. И какая польза была для меня, что я, в то время негодный раб злых страстей, сам прочел и понял все книги, относившиеся к так называемым свободным искусствам[231 - Какие это были книги? Прежде всего «Novem disciplinarum libri» Варрона (первая латинская энциклопедия свободных искусств), служившая источником для работ на те же темы в Касициаке, которые Бл. Августин начал вскоре после своего обращения, но не довел до конца. Книга Варрона утеряна, как и другие книги, которые читал Августин. Об объеме тогдашних знаний Бл. Августина можно судить только на основании его же сочинений. Он хорошо был знаком с астрономией и арифметикой. Знатоки первой – их называли «математиками» – включали в себя два класса: настоящих специалистов – астрономов и астрологов, составителей гороскопов. Бл. Августин много занимался книгами последних, но интересовался и настоящей астрономией. Знал он и принципы «арифметики» своего времени, т. е. теорию чисел и ряд числовых операций, которые можно рассматривать как преддверие алгебры. Руководством был тот же Варрон, его «De arithmetica, de principiis numerorum» – учение о числах в духе пифагорейской школы, придававшей числам мистическое значение (напр., 10, символ Вселенной: пифагорейская тетрада (четверица): 1 † 2 † 3 † 4). Читал он, вероятно, и «Introductio arithmetica» Никомаха из Геразы, пифагорейца и последователя Платона конца I в. по Р.Х., которого Апулей перевел по-латыни.], какие только мог прочесть? Я радовался, читая их, и не понимал, откуда в них то, что было истинного и определенного. Я стоял спиной к свету, а лицом к тому, что было освещено; и лицо мое, повернутое к освещенным предметам, освещено не было. Тебе известно, Господи, что я узнал, без больших затруднений и без людской помощи, в красноречии, диалектике, геометрии, музыке и арифметике; и быстрая сообразительность и острая проницательность – Твои дары, но не Тебе приносил я их в жертву. Они были мне не на пользу, а скорее на гибель, потому что я жадно стремился овладеть доброй долей имущества своего, но «не сохранил для Тебя сил своих», а ушел от Тебя прочь, в дальнюю страну, чтобы расточить все на блудные страсти[232 - Как блудный сын из евангельской притчи (Лк. 15).]. Какая польза была мне от хорошего, если я не умел им хорошо пользоваться? А я стал понимать, как трудно даются эти науки даже прилежным и толковым ученикам, когда, пытаясь их разъяснить, увидел, что самого выдающегося среди моих учеников хватало лишь на то, чтобы не так уж медленно усваивать мои объяснения.
31. Какая была мне польза в этом, если я думал, что Ты, Господи, Бог истины, представляешь собой огромное светящееся тело, а я обломок этого тела? Предел извращенности! Но именно таков был я тогда! Я не краснею, Господи, исповедуя пред Тобой милосердие Твое ко мне и призывая Тебя: я ведь не краснел, богохульно проповедуя пред людьми и лая на Тебя.
Какая польза была мне от моего ума, так легко справлявшегося с этими науками, и от такого количества запутаннейших книг, распутанных без помощи учителя, если я безобразно кощунствовал и гнусно заблуждался в науке благочестия? Во вред ли был для малых Твоих ум гораздо более медлительный, если они не уходили от Тебя прочь, безмятежно оперялись в гнезде Церкви Твоей и выращивали крылья любви, питаясь пищей здоровой веры?
Господи, Боже наш, «в тени крыл Твоих обретем мы надежду»: укрой нас и понеси нас. «Ты понесешь, Ты понесешь малых детей и до седин будешь нести их»[233 - Пс. 62:8; Ис. 46:3–4.] – ибо сила наша тогда сила, когда это Ты; то лько наша – она бессилие. Наше благо всегда у Тебя, и, отвращаясь от него, мы развращаемся. Припадем к Тебе, Господи, да не упадем: у Тебя во всей целости благо наше – Ты сам: мы не боимся, что нам некуда вернуться, потому что мы рухнули вниз: в отсутствие наше не рухнул дом наш, вечность Твоя.
Книга пятая
I
1. Прими исповедь мою, приносимую в жертву Тебе языком моим[234 - De manu linguae mea: в подлиннике «рукой языка моего» ср.: XI, 13 «рука уст моих»; IX, 2 «возвещать языком тростника».], который Ты создал и побудил исповедовать имя Твое; выздоровели все кости мои: пусть же они скажут: «Господи! Кто подобен Тебе?»[235 - Пс. 34:10.] Ничего нового не сообщает Тебе человек, исповедуясь в том, что происходит с ним, ибо не закрыто взору Твоему закрытое сердце, и не отталкивает человеческая жесткость десницу Твою: Ты смягчаешь ее, когда захочешь, милосердуя или отмщая: «и нет никого, кто укрылся бы от жара Твоего»[236 - Пс. 18:7 и Пс. 138:15; две первые главы представляют собой как бы комментарий к этому псалму.]. Да хвалит Тебя душа моя, чтобы возлюбить Тебя. Неумолчно хвалят Тебя все создания Твои: всякая душа, обратившаяся к Тебе, своими устами; животные и неодушевленная природа устами тех, кто их созерцает. Да воспрянет же в Тебе душа наша от усталости: опираясь на творения Твои, пусть дойдет к Тебе, дивно их сотворившему: у Тебя обновление и подлинная сила.
II
2. Пусть уходят и бегут от Тебя мятущиеся и грешные. Ты видишь их, Ты распределяешь и тени[237 - Грешники представляют собой как бы темные пятна в общей картине мира.]. И вот – мир прекрасен и с ними, хотя они сами мерзки[238 - «Весь мир (universitas rerum) похож на картину, где черная краска наложена на свое место; он прекрасен даже со своими грешниками, хотя, если их рассматривать самих по себе, они безобразны». («О граде Божием», XI, 23.)]. Но чем повредили они Тебе?[239 - «В Писании говорится о врагах Божиих. Они противятся Богу не вследствие природы своей, но вследствие своих пороков; Ему повредить они не могут, они вредят себе. Они враги Богу по желанию своему противиться Ему, а не по силам, позволяющим нанести Ему ущерб». («О граде Божием», 12, 3.) Оба места – скрытая полемика с манихеями, считавшими, что царь мрака одержал реальную победу над царством света.] Чем обесчестили власть Твою – полную и справедливую от небес и до края земли. Куда бежали, убежав от лица Твоего? Где не найдешь Ты их? Они убежали, чтобы не видеть Тебя, видящего их, и в слепоте своей наткнуться на Тебя, ибо Ты не оставляешь ничего Тобой созданного. Да, чтобы наткнуться на Тебя в неправде своей и по правде Твоей нести наказание: уклонившись от кротости Твоей, натыкаются они на справедливость Твою и падают в суровость Твою. Не знают они, что Ты всюду и нет места, где Тебя бы не было; Ты, единственный, рядом даже с теми, кто далеко ушел от Тебя[240 - «Нет никого, в ком Бог не присутствовал бы; он со всеми – и с теми, кто этого не знает» (Плотин. Эннеады. 6, 9, 7).]. Пусть же обратятся, пусть ищут Тебя; если они оставили Создателя своего, то Ты не оставил создание Свое. Пусть сами обратятся, пусть ищут Тебя – вот Ты здесь, в сердце их, в сердце тех, кто исповедуется у Тебя и кидается к Тебе и плачет на груди Твоей после трудных дорог своих. И Ты, благостный, отираешь слезы их; они плачут еще больше и радуются, рыдая, потому что Ты, Господи, не человек, не плоть и кровь, но Ты, Господи, их Создатель, обновляешь и утешаешь их. И где я был, когда искал Тебя? Ты был предо мною: я же далеко ушел от себя, я не находил себя; как же было найти Тебя!
III
3. Я расскажу пред очами Господа моего о том годе, когда мне исполнилось двадцать девять лет.
В Карфаген приехал некий манихейский епископ по имени Фавст[241 - Фавст из Милева (ныне Мила, город в Нумидии в 50 км к с.-в. от Константины) родился в бедной языческой семье, перешел в манихейство, провел часть жизни в Риме, где стал епископом манихеев (у манихеев было 72 «епископа»; над ними стояло 12 «учителей» и «глава учителей»; им были подчинены священники и диаконы). Вероятно, в 382 г. приехал в Карфаген, где и оставался до отъезда Августина. Около 385 г. был обвинен в манихействе и сослан на пустынный остров. Он написал книгу, в которой излагал основы манихейской религии. Бл. Августин ответил на нее ок. 400 г. сочинением «Против Фавста» из 33 книг: каждая из них начинается длинной цитатой из произведения Фавста. См.:«Memoires des l’Academie des inscriptions et Belles» – Lettres, Paris, 1924.]. Это была страшная сеть дьявольская[242 - 1 Тим. 3:7.], и многие запутывались в ней, прельщенные его сладкоречием, которое и я хвалил, различая, однако, между ним и истинной сутью вещей, познать которую так жадно стремился. Я вглядывался не в словесный сосуд, а в то, какое знание предлагает мне отведать из него этот, столь известный у них, Фавст. Молва уже заранее сообщала мне, что он весьма осведомлен о всех высоких учениях и особенно сведущ в науках свободных. Так как я прочел много философских книг[243 - Судя по контексту, речь идет о сочинениях по астрономии и естественной истории, но Бл. Августин был вообще знаком с древней философией. Сведения свои он черпал из многих почтенных источников: знал доксографический сборник Корнелия Цельса «Opiniones ominum philosophoruum», «Physicae opiniones» Феофраста; «Successiones» Сотина с их биографическими указаниями. Дильс считал, что философское образование Августина было значительно выше обычного уровня. (H. Diels. «Doxographi graeci», 1879, Berl., р. 174.)] и хорошо помнил их содержание, то я и стал сравнивать некоторые их положения с бесконечными манихейскими баснями: мне казались более вероятными слова тех, «у кого хватило разумения исследовать временный мир», хотя «не обрели они Господа его»[244 - Прем. 13:9. Точность астрономических вычислений весьма выигрывала при сравнении с «манихейскими баснями». Наука помогла Августину уйти от манихеев.]. Ибо «высок ты, Господи, и смиренного видишь и гордого узнаешь издали»[245 - Пс. 137:6.], но приближаешься только «к сокрушенным сердцем», гордые не находят Тебя, хотя бы даже в ученой любознательности своей сочли они заезды и песчинки, измерили звездные просторы и исследовали пути светил.
4. Они производят эти исследования, руководствуясь разумом и способностями, которые Ты им дал: многое нашли они и предсказали за много лет вперед солнечные и лунные затмения, их день, их час и каковы они будут. Вычисления не обманули их: все происходит так, как они предсказали. Они записали законы, ими открытые; их и сегодня знают и по ним предсказывают, в каком году, в каком месяце этого года, в какой день этого месяца и в какой час этого дня луна или солнце затемнится в такой-то своей части. Все и произойдет так, как предсказано.
Дивятся и поражаются люди, не осведомленные в этой науке; ликуют и кичатся осведомленные. В нечестивой гордости отходя от Тебя и удаляясь от Твоего света, они задолго предвидят будущее затмение солнца и не видят собственного в настоящем. Они благоговейно не разыскивают, откуда у них способности, с помощью которых они все это разыскивают. И даже найдя, что Ты создал их, они не вручают себя самих Тебе, чтобы Ты сохранил их, как создание Свое, и не закалывают Тебе в жертву то, что они сами из себя сделали: они не убивают для Тебя ни своих превозносящихся мыслей, как «птиц»; ни своего любопытства, как «рыб морских», – а оно заставляет их бродить по тайным «стезям пропасти», – ни своего распутства, как «полевых скотов»[246 - Бл. Августин любил истолковывать аллегорические библейские образы. «Посмотри на „птиц небесных“, на этих гордецов, о которых сказано, что до неба вознесли они главу свою. Посмотри, как ветром уносит их ввысь. Посмотри на „рыб морских“, т. е. на любопытных, „которые разгуливают по стезям морским“, т. е. в пропастях века сего ищут временное – то, что так же быстро исчезает, как „стези морские“: их заливает водой сразу же после того, как по ним прошли… „Полевыми скотами“ всего правильнее обозначить людей, радующихся плотским наслаждением» («На Псалмы», 8, 9).], – дабы Ты, Господи, «огнь поядающий»[247 - Втор. 4:24.], уничтожил их мертвенные заботы, а их воссоздал для бессмертия.
5. Они не познали Пути, Слова Твоего, Которым Ты создал и то, что они вычисляют, и тех, кто вычисляет, и чувство, которым они различают предметы вычислений, и разум, с помощью которого вычисляют: «мудрость же Твоя неисчислима»[248 - Пс. 146:5.]. Сам же Единородный Сын Твой «сделался для нас мудростью, праведностью и освящением»; но Он считался одним из нас и платил подать кесарю[249 - Божественная мудрость неисчислима, но Христос, Который был этой мудростью (1 Кор. 1:30), допустил, чтобы Его «посчитали» как плательщика податей (Мф. 22:17–21), показав тем свое смирение, столь противоположное гордости философов.].
Они не познали этого Пути, чтобы спуститься Им от себя к Нему и через Него к Нему подняться. Они не познали этого Пути; они думают, что вознеслись к звездам и сияют вместе с ними – и вот рухнули они на землю, и «омрачилось безумное сердце их»[250 - «Рухнули»… Ср. Ис. 14:12–13: «Как упал ты с неба, денница, сын зари! разбился о землю… А говорил в сердце своем: „Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой“».].
Много верного сообщают они о твари, Истину же, Мастера твари, не ищут благоговейно и потому не находят, а если и найдут, то, «познав Бога, не прославляют Его, как Бога, и не благодарят, но суетствуют в умствованиях своих и называют себя мудрыми»: себе приписывают Твое и поэтому, извращенные и слепые, стараются Тебе приписать свое; переносят ложь свою на Тебя, Который есть Истина: «изменяя славу нетленного Бога в образ подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим и пресмыкающимся, заменили они истину Божию ложью и поклоняются и служат твари вместо Творца»[251 - Рим. 1:21–25.].
6. Я запомнил, однако, у них много верного из наблюдений над природой. Их разумные объяснения подтверждались вычислениями, сменой времен, видимым появлением звезд. Я сравнивал их положения со словами Мани, изложившего свой бред в множестве пространнейших сочинений: тут не было разумного объяснения ни солнцестояний, ни равноденствий, ни затмений, вообще ни одного из тех явлений, с которыми я ознакомился по книгам мирской мудрости[252 - «Он (Мани) учил нас о строении мира, о том, почему он создан, из чего создан… учил, почему бывает день и почему ночь, учил о движении солнца и луны» (Акты против Феликса, 1, 9). Вот как, напр., манихеи объясняли фазы луны: она увеличивалась по мере того, как ее нагружали освобожденными частицами света. Перевезя их на солнце, она скрывалась.]. Мне приказано было верить тому, что совершенно не совпадало с доказательствами, проверенными вычислением и моими собственными глазами, и было тому совершенно противоположно.
IV
7. Господи, Боже истины, разве тот, кто знает это, уже угоден Тебе? Несчастен человек, который, зная всё, не знает Тебя; блажен, кто знает Тебя, даже если он не знает ничего другого. Ученого же, познавшего Тебя, сделает блаженнее не его наука: чрез Тебя одного он блажен, «если, познав Тебя, прославит Тебя как Бога, и возблагодарит и не осуетится в умствованиях своих». Лучше ведь обладать деревом и благодарить Тебя за пользу от него, не зная, сколько в нем локтей высоты и на какую ширину оно раскинулось, чем знать, как его вымерить, как сосчитать все его ветви, но не обладать им, не знать и не любить его Создателя. Так и верному Твоему принадлежит весь мир со всем богатством своим, и, как будто ничего не имея, «он обладает всем»[253 - 2 Кор. 6:10.], прилепившись к Тебе, которому служит всё. Пусть он не знает, как вращается Большая Медведица; глупо сомневаться, что ему лучше, чем тому, кто измеряет небо, считает звезды, взвешивает вещества – и пренебрегает Тобою, который «всё расположил мерою, числом и весом»[254 - Прем. 11:21.].
V
8. Кто, однако, требовал, чтобы какой-то Мани писал об этих предметах? Чтобы обучиться благочестию, не нужно о них знать. Ты ведь сказал человеку: «Вот, благочестие и есть мудрость»[255 - Иов. 28:28.]. Он мог не ведать об этой мудрости, хотя бы и в совершенстве овладел наукой. Она, однако, вовсе не была ему знакома, но он бесстыдно осмеливался поучать. О мудрости, разумеется, он ничего уже знать не мог. Проповедовать мирское знание, даже хорошо себе известное, дело суетное; исповедовать Тебя – это благочестие. Сбившись как раз с этого пути, он много говорил по вопросам научным, и был опровергнут настоящими знатоками. Ясно отсюда, каким могло быть его разумение в области, менее доступной. Он же не соглашался на малую для себя оценку и пытался убедить людей, что Дух Святой, утешитель и обогатитель верных Твоих, лично в полноте своего авторитета обитает в нем[256 - Трудно сказать, был ли Св. Дух в понимании Мани тем же, чем и в понимании христиан. Некоторые ученые думают, что под Утешителем он понимал мудреца, посланного Христом очистить и усовершенствовать христианство. «Обогатитель» – ditator – слово это встречается впервые.]. Его уличили в лживых утверждениях относительно неба, звезд, движения солнца и луны; хотя это и не имеет отношения к науке веры, тем не менее кощунственность его попыток выступает здесь достаточно: говоря в своей пустой и безумной гордыне о том, чего он не только не знал, но даже исказил, он всячески старался приписать эти утверждения как бы божественному лицу.
9. Когда я слышу, как кто-нибудь из моих братьев христиан, человек невежественный, судит вкривь и вкось о вопросах научных, я терпеливо взираю на его мнения: я вижу, что они ему не во вред, если он не допускает недостойных мыслей о Тебе, Господи, Творец всего, и только ничего не знает о положении и свойствах телесной природы. Будет во вред, если он решит, что эти вопросы имеют отношение к сущности вероучения, и осмелится упрямо настаивать на том, чего он не знает. Такую немощность, впрочем, материнская любовь переносит у тех, кто верой еще младенец, ожидая пока новый человек не восстанет в «мужа совершенного», которого нельзя будет «завертеть ветром всякого учения»[257 - Еф. 3:13–14, 24; 1 Петр. 2:2.]. Кто же не сочтет ненавистным и отвратительным безумие человека, который, будучи столько раз уличен во лжи, осмелился предстать перед теми, кого он убеждал, как такой учитель, основоположник, вождь и глава, что последователи его думали, будто они следуют не за простым человеком, а за Духом Твоим Святым? Мне, впрочем, самому не было вполне ясно, можно ли объяснить, согласно и с его словами, смену долгих и коротких дней и ночей, самое смену дня и ночи, затмения светил и тому подобные явления, о которых я читал в других книгах. Если это оказалось возможным, то я всё же оставался бы в нерешительности, действительно это так, или же нет. Я поддерживал, однако, свою веру его авторитетом, будучи убежден в его святости.
VI
10. Почти девять лет, пока я в своих душевных скитаниях прислушивался к манихеям, напряженно ожидал я прибытия этого самого Фавста. Другие манихеи, с которыми мне довелось встречаться, будучи не в состоянии ответить на мои вопросы по этим поводам, обещали мне в нем человека, который, приехав, в личной беседе очень легко, со всей ясностью, распутает мне не только эти задачи, но и более сложные, если я стану его о них спрашивать.
Когда он прибыл, я нашел в нем человека милого, с приятною речью; болтовня его о манихейских обычных теориях звучала гораздо сладостнее. Что, однако, в драгоценном кубке поднес к моим жаждущим устам этот изящнейший виночерпий? Уши мои пресытились уже такими речами: они не казались мне лучшими потому, что были лучше произнесены; истинными потому, что были красноречивы; душа не казалась мудрой, потому что у оратора выражение лица подобающее, а выражения изысканны. Люди, обещавшие мне Фавста, не были хорошими судьями. Он казался им мудрецом только потому, что он услаждал их своей речью.
Я знал другую породу людей, которым сама истина кажется подозрительной, и они на ней не успокоятся, если ее преподнести в изящной и пространной речи. Ты же наставил меня, Господи, дивным и тайным образом: я верю, что это Ты наставил меня, ибо в этом была истина, а кроме Тебя нет другого учителя истины, где бы и откуда бы ни появился ее свет. Я выучил у Тебя, что красноречивые высказывания не должны казаться истиной потому, что они красноречивы, а нескладные, кое-как срывающиеся с языка слова, лживыми потому, что они нескладны, и наоборот: безыскусственная речь не будет тем самым истинной, а блестящая речь тем самым лживой. Мудрое и глупое – это как пища, полезная или вредная, а слова, изысканные и простые, – это посуда, городская и деревенская, в которой можно подавать и ту и другую пищу.
11. Жадность, с которой я столько времени ожидал этого человека, находила себе утоление в оживленном ходе его рассуждений и в той подобающей словесной одежде, в которую он с такой легкостью одевал свои мысли. Я наслаждался вместе со многими и расхваливал и превозносил его даже больше многих, но досадовал, что не могу в толпе слушателей предложить ему вопросы, меня тревожившие, и поделиться ими, обмениваясь мыслями в дружеской беседе. Когда же, наконец, случай представился, я вместе с моими друзьями завладел им в то время, когда такое взаимное обсуждение было вполне уместно, и предложил ему некоторые из вопросов, меня волновавших. Я прежде всего увидел человека, совершенно не знавшего свободных наук, за исключением грамматики, да и то в самом обычном объеме. А так как он прочел несколько речей Цицерона, очень мало книг Сенеки, кое-что из поэтов и тех манихеев, чьи произведения были написаны хорошо и по-латыни, и так как к этому прибавлялась еще ежедневная практика в болтовне, то всё это и создавало его красноречие, которое от его ловкой находчивости и природного очарования становилось еще приятнее и соблазнительнее. Правильны ли воспоминания мои, Господи, Боже мой, Судья моей совести? Сердце мое и память моя открыты Тебе; Ты уже вел меня в глубокой тайне Промысла Твоего и обращал лицом к постыдным заблуждениям моим, чтобы я их увидел и возненавидел.
VII
12. После того, как ясна мне стала полная неосведомленность Фавста в тех науках, великим знатоком которых я почитал его, стал я отчаиваться в том, что он может объяснить и разрешить вопросы, меня волновавшие. Ничего в них не понимая, он всё же мог обладать истиной веры, не будь он манихеем. Книги их полны нескончаемых басен о небе и звездах, о солнце и луне; я уже не рассчитывал на то, чего мне так хотелось, а именно что он сможет, сравнив их с вычислениями, вычитанными мною в других книгах, до тонкости объяснить мне, так ли всё и обстоит, как об этом написано у манихеев, или хотя бы показать, что их доказательства не уступают по силе другим. Когда я предложил ему рассмотреть и обсудить эти вопросы, он скромно не осмелился взвалить на себя такую ношу. Он знал, чего он не знает, и не стыдился в этом сознаться. Он не принадлежал к тем многочисленным болтунам, которых мне приходилось терпеть и которые, пытаясь меня учить, ничего не могли сказать. У Фавста «сердце не было право»[258 - Деян. 8:21.] по отношению к Тебе, но было очень осторожно по отношению к себе самому. Он не был вовсе неосведомлен в своей неосведомленности и не хотел, кинувшись очертя голову в спор, оказаться в тупике: и выйти некуда, и вернуться трудно. За это он понравился мне еще больше. Скромное признание прекраснее, чем знание, которое я хотел получить; он же во всех трудных и тонких вопросах, – я видел это, – вел себя неизменно скромно.
13. Рвение, с которым бросился я на писания Мани, охладело; еще больше отчаялся я в других учителях после того, как знаменитый Фавст оказался так невежествен во многих волновавших меня вопросах[259 - Образование Фавста должно было казаться очень скудным Бл. Августину, который уже в раннем своем произведении («Против академиков», 3, 17–19) вкратце изложил историю философии от Платона до неоплатоников. В «Граде Божием» он цитирует Платона, Плотина, Порфирия, Гомера, Вергилия, Энния, Горация, Лукиана, Персия, Плавта, Теренция, Цицерона, Саллюстия, Ливия, Плиния, Сенеку, Апулея, Варрона, Геллия, Флора, не говоря уже о церковных писателях.]. Я продолжал свое знакомство с ним, потому что он страстно увлекался литературой, а я, тогда карфагенский ритор, преподавал ее юношам. Я читал с ним книги – или о которых он был наслышан и потому хотел прочесть их, или которые я считал подходящими для такого склада ума. Знакомство с этим человеком подрезало все мои старания продвинуться в этой секте; я, правда, не отошел от них совсем, но вел себя, как человек, который, не находя пока ничего лучшего, чем учение, в которое он когда-то вслепую ринулся, решил пока что это этим и довольствоваться в ожидании, не высветлится ли случайно что-то, на чем надо остановить свой выбор.
Таким образом, Фавст, для многих оказавшийся «силком смерти»[260 - Пс. 17:6.], начал, сам того не желая и о том не подозревая, распутывать тот, в который я попался. Рука Твоя, Господи, в неисповедимости Промысла Твоего, не покидала души моей. Мать моя приносила Тебе в жертву за меня кровавые, из сердца денно и нощно лившиеся слезы, и Ты дивным образом поступил со мною. Ты, Господи, так поступил со мною, ибо «Господом утверждаются стопы человека, и Он благоволит к пути его»[261 - Пс. 36:23.]. И кто подаст нам спасение, как не рука Твоя, обновляющая создание Твое?
VIII
14. Рука Твоя была в том, что меня убедили переехать в Рим и лучше там преподавать то, что я преподавал в Карфагене. Я не премину исповедать Тебе, что побудило меня к этому переезду: глубина, в которой Ты скрываешься, и милосердие Твое, которое всегда тут с нами, достойны размышления и хвалы.
Я решил отправиться в Рим не потому, что друзья, убеждавшие меня, обещали мне больший заработок и более видное место, хотя и то и другое меня тогда привлекало; главной же и почти единственной причиной были рассказы о том, что учащаяся молодежь ведет себя в Риме спокойнее, что их сдерживает строгая и определенная дисциплина, и они не смеют дерзко и беспорядочно врываться в помещение к чужому учителю: доступ к нему в школу открыт вообще только с его разрешения. В Карфагене же, наоборот, среди учащихся царит распущенность мерзкая, не знающая удержу. Они бесстыдно вламываются в школу и, словно обезумев, нарушают порядок, заведенный учителем для пользы учения. С удивительной тупостью наносят они тысячу обид, за которые следовало бы по закону наказывать; но обычай берет их под свое покровительство. Они тем более жалки, что совершают, как нечто дозволенное, поступки, которые никогда не будут дозволены по вечному закону Твоему; они считают себя в полной безнаказанности, но их наказывает слепота к собственному поведению; они потерпят несравненно худшее, чем то, что делают. Учась, я не хотел принадлежать к этой толпе; став учителем, вынужден был терпеть ее около себя. Поэтому мне и хотелось отправиться туда, где, по рассказам всех осведомленных людей, ничего подобного не было[262 - В Риме студенты находились под надзором гражданских властей: Кодекс Феодосия, 14, 9, 1. О студенческих нравах того времени см.: И. Цветаев. Из жизни высших школ Римской империи. М., 1902, с. 78–114.]. На самом же деле, это «Ты, надежда моя и часть моя на земле живых»[263 - Пс. 141:5.], побудил меня, ради спасения души моей, переменить место на земле: в Карфагене Ты бичом меня стегал, чтобы вырвать оттуда; в Риме приманки расставлял, чтобы привлечь туда, – действовал через людей, любивших эту жизнь смерти; здесь они творили безумства, там сыпали пустыми обещаниями; чтобы направить шаги мои, Ты втайне пользовался их и моею развращенностью. Те, кто нарушал мой покой, были ослеплены мерзким бешенством; те, кто звал к другому, были мудры по-земному. И я, ненавидевший здесь подлинное страдание, стремился туда – к мнимому счастью.
15. Ты знал, Господи, почему я уезжал из Карфагена и ехал в Рим, но не подал об этом никакого знака ни мне, ни матери моей, которая горько плакала о моем отъезде и провожала меня до самого моря. Она крепко ухватилась за меня, желая или вернуть обратно, или отправиться вместе со мной, но я обманул ее, сочинив, что хочу остаться с приятелем, пока он не отплывает с поднявшимся ветром.
Я солгал матери – и такой матери! и ускользнул от нее. И это Ты милосердно отпустил мне, сохранив меня, полного грязи и мерзости, от морских вод и приведя к воде благодати Твоей, омывшись которой я осушил потоки материнских слез, которыми она ежедневно орошала пред Тобою землю, плача обо мне. Она отказывалась вернуться без меня, и я с трудом убедил ее провести эту ночь в часовне св. Киприана[264 - Часовня была расположена на Новой площади к северу от Карфагена. В дальнейшей жизни Бл. Августин находился под большим влиянием сочинений этого великого карфагенского епископа, которого чтили и как мученика за веру (казнен в 258 г.), и как мудрого и опытного пастыря. Августин часто ссылался на него в спорах с донатистами, как на борца за единство Церкви.], поблизости от нашего корабля. И в эту ночь я тайком отбыл, она же осталась, молясь и плача. О чем просила она Тебя, Господи, с такими слезами? о том, чтобы Ты не позволил мне отплыть? Ты же, в глубине советов Своих, слыша главное желание ее, не позаботился о том, о чем она просила тогда: да сделаешь из меня то, о чем она просила всегда. Подул ветер и наполнил паруса наши и скрыл от взглядов наших берег, где она утром, обезумев от боли, наполняла уши Твои жалобами и стонами, которые Ты презрел: Ты влек меня на голос моих страстей, чтобы покончить с этими страстями, а ее за ее плотскую тоску хлестала справедливая плеть боли. Она любила мое присутствие, как все матери, только гораздо больше, чем многие матери, и не ведала, сколько радости готовишь Ты ей моим отсутствием. Она не ведала этого и поэтому плакала и вопила, и в этих муках сказывалось в ней наследие Евы: в стенаниях искала она то, что в стенаниях породила. И, однако, после обвинений меня в обмане и жестокости она опять обратилась к молитвам за меня и вернулась к обычной своей жизни; я же прибыл в Рим.
IX
16. И вот настигла меня плетью своей телесная болезнь; я уже шел в ад, унося с собою все грехи, которые совершил пред Тобою, перед самим собою и перед другими, – великое и тяжкое звено, добавленное к оковам первородного греха, которым «мы все умираем в Адаме»[265 - Первородный грех, по Бл. Августину, включает: 1) наследственную вину и как следствие ее смертность; 2) беспорядочность и слабость человеческой души, выражающуюся: а) в бессилии воли, неспособной решиться на доброе; б) в незнании Бога и добра; в) в активном стремлении к злу. Мысли эти коренились в собственном опыте и самонаблюдении – «умирали в Адаме» (1 Кор. 15:22).]. Ты ничего еще не отпустил мне во Христе, ибо он «не упразднил» еще на кресте своем «вражды»[266 - Еф. 2:15–16.], которая была у меня с Тобою за грехи мои. Мог ли упразднить ее этот распятый призрак, в которого я верил? Насколько мнимой казалась мне Его плотская смерть[267 - Всякая материя, по мнению манихеев, принадлежит к царству мрака. Поэтому они утверждали, что Христос не имел реального человеческого тела и крестная смерть была мнимой.], настолько подлинной была смерть моей души и насколько подлинной была Его плотская смерть, настолько мнимой была жизнь моей души, не верившей в Его смерть.
Лихорадка моя становилась всё тяжелее; я уходил и уходил в погибель. Куда ушел бы я, если бы отошел тогда? Конечно, по справедливому порядку Твоему, только в огонь и муки, достойные моих дел. А мать не знала этого, но молилась в отсутствии. Ты же, присутствуя везде, услышал ее там, где была она, и сжалился надо мною там, где был я: телесное здоровье вернулось ко мне, еще больному кощунственным сердцем своим. Я ведь не захотел принять Твоего Крещения, даже в такой опасности; был я лучше мальчиком, когда требовал от благочестивой матери своей, чтобы она окрестила меня; об этом я вспоминал уже, исповедуясь Тебе. Я возрос на позор себе и, безумный, смеялся над Твоим врачеванием, но Ты не позволил мне, такому, умереть двойной смертью[268 - То есть телесной и духовной.]. Если бы такая рана поразила сердце моей матери, она никогда бы не оправилась. Я не могу достаточно выразить, как она любила меня; она вынашивала меня в душе своей с гораздо большей тревогой, чем когда-то носила в теле своем.
17. Я не знаю, как могла бы она оправиться, если бы в самой глубине любви своей была она пронзена такой смертью моей. Где же были горячие, такие частые, непрерывные молитвы? Только у Тебя. Разве Ты, Господи милосердия, «презрел бы сердце сокрушенное и смиренное»[269 - Пс. 50:19.] чистой скромной вдовы, прилежно творившей милостыню, охотно служившей служителям Твоим, не пропускавшей ни одного дня, чтобы не принести жертву к Твоему алтарю[270 - То есть хлеб и вино для Евхаристии.]; дважды в день, утром и вечером, неизменно приходившей в церковь Твою не для пустых сплетен и старушечьей болтовни, а чтобы услышать Тебя в словах Твоих и быть услышанной Тобой в молитвах своих. Такою создала ее благодать Твоя. Ее ли слезами пренебрег бы Ты, ее ли бы оттолкнул и не подал ей помощи, когда она просила у Тебя не золота и серебра, не бренных и преходящих благ, а душевного спасения сыну? Нет, Господи, нет. Ты находился тут, Ты слышал ее и сделал всё так, как это было предопределено Тобою. Невозможно, чтобы Ты обманывал ее в тех видениях и ответах Твоих, из которых я одни упоминал, а другие не упоминал и которые она хранила верным сердцем и, постоянно молясь, предъявляла Тебе, как собственноручное Твое обязательство. И Ты удостоил, «ибо во веки милость Твоя»[271 - Пс. 117:1; Пс. 137:8.], перед теми, кому Ты отпускаешь все долги их, оказаться должником, обязанным исполнять обещания свои.
X
18. Итак, Ты исцелил меня от этой болезни и спас сына служанки Твоей, пока еще только телесно, чтобы было кому даровать спасение более действительное и надежное.
Я и в Риме опять связался с этими «святыми» обманутыми обманщиками[272 - Антитеза, часто встречающаяся у разных писателей (Филон, Дион Хрисостом, Юлиан). Вендлянд полагал, что она идет от Гераклита. См. Wendland P. «Betrogene Betr?ger», Rhein. Museums, 1894, В. 49, 5. 309–310.], и на этот раз не только со «слушателями», в числе которых находился и тот человек, в чьем доме я хворал и выздоровел, но и с теми, кого они зовут «избранными»[273 - См. прим. 49 к книге III.]. Мне до сих пор еще казалось, что это не мы грешим, а грешит в нас какая-то другая природа; гордость моя услаждалась тем, что я не причастен вине, и если я делал что-нибудь худое, то я не исповедовался в своем проступке, чтобы «Ты исцелил душу Мою, ибо согрешил я пред Тобою»[274 - Пс. 40:5.], мне лестно было извинять себя и обвинять что-то другое, что было со мной и в то же время мною не было. На самом же деле я представлял собою нечто цельное[275 - То есть зло не было в нем особым началом, которое можно было отделить от его личности.], но мое нечестие разделило меня и поставило против меня же самого: неизлечимее был грех, потому что я не считал себя грешником, и окаянной неправдой, Всемогущий, было желать, чтобы Ты скорее оказался побежден во мне на погибель мою, чем я Тобою во спасение мое[276 - «Добрая душа», по учению манихеев, была частицей Божества. Бл. Августин, следуя манихеям, должен признать, что когда он грешит, то Сам Бог терпит поражение.]. Ибо еще «Ты не положил, Господи, охрану устам моим и не оградил двери уст моих, дабы не уклонилось сердце мое к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие»[277 - Пс. 140:3–4.], поэтому я и общался с их «избранными».
Я отчаялся уже, однако, в том, что могу найти полезное в их лживом учении, которым решил удовольствоваться, если не найду ничего лучшего; небрежно и кое-как я за него держался.
19. У меня зародилась даже мысль, что наиболее разумными были философы, именуемые академиками, считавшие, что всё подлежит сомнению и что истина человеку вообще недоступна. Мне казалось, как и всем, что они именно так и думали; их намерение было мне еще непонятно[278 - Бл. Августин предполагал, что скептицизм Новой Академии только прикрывал ее подлинную цель: защитить спиритуализм Платона от материалистической критики стоиков и эпикурейцев.].
Я не упускал случая подавить в моем хозяине чрезмерную доверчивость, с которой он, я видел, относился к сказкам, наполняющим манихейские книги. Я продолжал, однако, быть ближе к манихеям и дружнее с ними, чем с людьми, стоявшими вне этой ереси. Я не защищал ее уже с прежним пылом, и, однако, близость с манихеями (а много их укрывалось в Риме) делала меня ленивее на поиски другого, тем более что я отчаялся, Господи неба и земли, Творец всего видимого и невидимого, найти в Церкви Твоей истину, от которой они меня отвратили: мне казалось великим позором верить, что Ты имел человеческую плоть и был заключен в пределы, ограниченные нашей телесной оболочкой. А так как, желая представить себе Бога моего, я не умел представить себе ничего иного, кроме телесной величины – мне и казалось, что ничего бестелесного вообще и не существует, – то это и было главной и, пожалуй, единственной причиной моего безысходного заблуждения.
20. Поэтому и зло мыслил я как такую же субстанцию, представленную темной и бесформенной величиной, – то плотной, которую они называли землей, то редкой и тонкой, как воздух; они воображали, что это злой дух, ползающий по этой земле. И так как даже мое жалкое благочестие заставляло меня верить, что ни одно злое существо не могло быть создано благим Богом, то я и решил, что существуют две величины, одна другой противоположные, обе они бесконечны, только злая поуже, а добрая пошире[279 - По учению манихеев, на севере находится царство добра и света, на юге – мрака и материи; царство мрака вдается клином («клин манихеев») в царство света. Для пояснения этого «клина» Августин взял обычный в римской древности хлеб, который формовали так, что его легко было разломать на четыре клиновидных части; в царстве света было три белых «клина», бесконечных вверх, вниз и в обе стороны; четвертый «клин», черный, принадлежал царству мрака, был бесконечен в глубину и в длину; вверху над этой «землей мрака» простиралась бесконечная пустота (Бл. Августин. «Против манихейских епископов», 21). Стоит отметить иронию в этой комбинации противоречий: бесконечное и более узкое или широкое.]. Это тлетворное начало влекло за собой и другие мои богохульства. Когда душа моя пыталась вернуться к православной вере, то меня отталкивало от нее, потому что мысли мои о ней не соответствовали тому, чем она была на самом деле. Мне казалось благочестивее, Господи, Чье милосердие засвидетельствовано на мне, верить, что Ты во всем безграничен, хотя в одном приходилось признать ограниченность Твою – там, где Тебе противостояла громада зла. Это казалось мне благочестивее, чем считать, что Ты был ограничен во всех отношениях формой человеческого тела. И мне казалось лучше верить в то, что Ты не создал никакого зла (в невежестве своем я представлял его себе не только как некую субстанцию, но как субстанцию телесную, потому что и разум не умел мыслить себе его иначе, как в виде тонкого тела, разлитого, однако, в пространстве), чем верить, что от Тебя произошло то, что я считал злом. Самого же Спасителя нашего, Единородного Сына Твоего, считал я как бы исшедшим для спасения нашего из самой светлой части вещества Твоего, и не желал верить о нем ничему, кроме своей пустой фантазии. Я думал, что он, обладая такою природою, не мог родиться от Девы Марии, не смесившись с плотью. Смеситься же с нею и не оскверниться казалось мне невозможным для такого существа, какое я себе представлял. Поэтому я боялся верить, что Он воплотился, чтобы не быть вынуждену верить, что Он осквернился от плоти[280 - Понять христологию манихеев довольно трудно, потому что, во-первых, первоначальная концепция ее контаминировалась с местными поверьями; во-вторых, сами манихеи, ввиду ее тайного характера, любили ограничиваться намеками, и, в-третьих, манихейские тексты, касающиеся христологии, сохранены противниками манихеев, которые, опровергая частности, упускали общий смысл. Некоторые положения уловить все-таки можно: владыка света посылает для борьбы с «племенем мрака» «первого человека»; «вы хотите, чтобы сына этого «первого человека» считали Господом Иисусом Христом» («Против Фавста», 2, 3–4). Он не рожден от Девы: человеческое рождение, т. е. смешение с материей, недостойно Божества. Человеческое в Христе только видимость. «У нас три Христа: одного породила земля, зачав от Св. Духа: он висит не только на каждом дереве, но и пребывает в травах; другого распяли иудеи при Понтии Пилате; третий разделился между солнцем и луной» («Против Фавста», 20, 11).]. Люди духовной жизни, если им доведется читать мою исповедь, ласково и любовно посмеются сейчас надо мной, но таким был я.