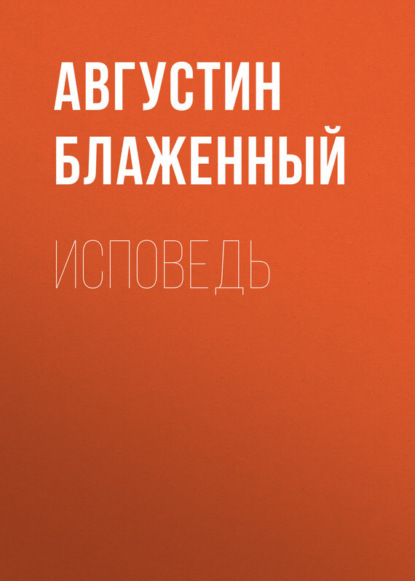 Полная версия
Полная версияИсповедь
Но для чего им знать обо мне? Возможно, они хотят разделить со мной мою радость, слыша, как я, по благодати Твоей, приближаюсь к Тебе? Или желают молиться за меня, узнавая, как сильно препятствует мне в этом греховность моя? Для таких людей я готов продолжать. Ибо немало пользы в том, Господи, если многие возблагодарят Тебя за меня и будут молиться пред Тобою обо мне. Душа же брата моего любит во мне то, что по учению Твоему достойно любви, и оплакивает то, что достойно сожаления по слову Твоему. Только дух братний поступает так, а не дух сынов чуждых, «которыхуста говорят суетное, и которых десница – десница лжи» (Пс. CXLIII, 8). Но дух братний, одобряя меня, радуется обо мне, осуждая меня, печалится обо мне, потому что и в том и в другом случае – любит меня. Для таких людей я пишу: пусть порадуются они тому, что есть во мне доброго, пусть посокрушаются злому. Доброе во мне – Твой дар, злое же – мое преступление, осуждаемое Тобою. Пусть братья мои и порадуются, и посокрушаются обо мне: и хвала, и плач из сердец их пусть восходят пред лице Твое, как кадило благоуханное (Алок VIII, 3). Ты же, Господи, приемля фимиам святого храма Твоего, призри ко мне по великому милосердию Твоему, и продолжая благое промышление Твое, истребляй несовершенства мои.
Такова польза исповеди не о моем прошедшем, но о моем настоящем, которую я приношу не только пред Тобою, но и пред сынами человеческими, верующими, сообщниками в радости моей и соучастниками в моей смертности, пред согражданами и спутниками моими в жизни моей. Они слуги Твои, братья мои, которых Ты благоволил усыновить и повелел мне служить им, если хочу по благодати Твоей жить с Тобою. Если бы Сын Твой, Слово Твое, только наставлял, этого было бы мало. Но Он указал нам путь своим примером. Вот и я исполняю повеление Твое словом и делом под сенью крыл Твоих. Сам я мал и ничтожен, но вечно жив Отец мой, и Он сохранит меня Кто произвел меня, Тот и сохраняет. Ты – сокровище мое, которое всегда со мною. Итак, расскажу теперь тем, кому Ты велишь мне служить, не о том, каким я был, а о том, каким стал. Ноя «сам не сужу о себе» (I Кор. IV, З): пусть помнят об этом слушающие меня.
ГЛАВА VТы же, Господи, судишь меня, «ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем» (I Кор. II, 11)? Но есть нечто в человеке, чего не знает и сам дух человеческий, живущий в нем, а Ты, Господи, создавший человека, знаешь все. Да и сам я, хотя уничижаю себя пред лицом Твоим и почитаю себя прахом и пеплом, однако же знаю о Тебе нечто такое, чего не знаю о себе. Конечно, теперь мы видим Тебя как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, и еще не познали, как Ты познал нас (I Кор. XIII, 12); кроме того, когда я удаляюсь от Тебя, то бываю ближе к себе, чем к Тебе, и все-таки я знаю о Тебе, что Ты не можешь согрешать, о себе же не знаю, каким искушениям могу противиться, а каким – нет. Но так как Ты верен Своим обещаниям, то верю: Ты не пошлешь нам искушений, превосходящих наши силы. Итак, я исповедаюсь и в том, что о себе знаю, и в том, чего не знаю. Ибо и то, что я знаю, знаю лишь посредством света Твоего, а чего не знаю, не знаю только до тех пор, пока не воссияет «свет Твой во тьме, и мрак Твой будет как полдень» (Ис. LVIII, 10).
ГЛАВА VIНисколько не сомневаясь и по твердому убеждению люблю Тебя, Господи! Ты коснулся словом Твоим сердца моего, и оно возлюбило Тебя. И земля, и небо, и все, что в них есть, отовсюду внушают мне любовь к Тебе, непрестанно убеждая к этому всех людей, «так что они безответны» (Рим. 1,20). Но Ты тем паче помилуешь, ибо говоришь: «Кого миловать – помилую; кого пожалеть – пожалею» (Исх. XXXIII, 19; Рим. IX, 15), хотя небо и земля и глухим возвещают хвалы Твои. Что же люблю я в Тебе? Не телесную красоту, не преходящую славу, не ясность света, не нежные напевы, не благоухание цветов, не манну и мед, не прекрасные тела. Не это я люблю, любя Бога моего, и все-таки люблю и это, когда люблю Господа моего. В Боге же сияет для душ людских нечто вне пространства, звучит что-то вне времени, благоухает то, что не разносится в воздухе, насыщает то, чем нельзя пресытиться, объемлется необъятное. Вот что люблю я, любя Господа моего.
Но что же такое Бог мой? Я спросил у земли, и она ответила: «Это не я»; и все, что на земле, повторило то же. Я спросил у моря и бездны, и у всех, живущих там, и они сказали: «Не мы Бог твой, ищи выше». Я спросил у воздуха с ветрами его, и услышал: «Заблуждался Анаксимен – это не я». Я обратился к солнцу, луне и звездам, и они ответили мне: «Не мы Бог, Которого ты ищешь». И тогда я сказал всему, что подлежит телесным чувствам моим: «Коль вы не боги, скажите мне о Боге моем». И воскликнули они мне в ответ: «Он тот, Кто сотворил нас». И тогда я спросил сам себя: «Кто ты?» И ответил: «Человек». Вот, состою я из тела и души; тело снаружи, душа внутри. В чем же, в душе или в теле искать мне Бога моего. Конечно, душа лучше тела. Духу телесные чувства возвестили все ответы и неба, и земли, и всего, что в них есть: «Не мы Бог, но Он сотворил нас»; внутренний человек осознал при помощи внешнего; я, внутренний человек, познал это; я, дух, с помощью телесных чувств. Я вопросил всю вселенную о Боге, и она ответила: «Не я, но Сотворивший меня».
Не всем ли существам, чьи органы чувств здоровы, открывается та же картина вселенной? Тогда почему не всем очевидно то же самое? Большие и малые твари видят вселенную, но не могут вопрошать ее, ибо лишены разума, обсуждающего то, что возвещают чувства; они не могут исследовать природу так, чтобы «невидимое Господа, вечная сила Его и Божество, от создания мира чрез рассматривание творений стали видимы» (Рим. I, 20). Что же до людей, то хотя они и наделены разумом, но из-за чрезмерного увлечения и пристрастия к тварям не могут судить о них надлежащим образом. Тварь возвещает о свойствах Божиих не вопрошающим только, но и обсуждающим; она не изменяет своего вида, чтобы одному казаться так, а другому – иначе, но при этом для одних она нема, для других – красноречива. Можно даже сказать, что она красноречива для всех, но понимают ее язык лишь те, кто сопоставляет услышанное с голосом внутри них звучащей истины. И истина говорила мне: «Бог твой не есть ни небо, ни земля, ни что-либо телесное. Об этом говорит сама природа телесного: это масса, в которой часть всегда меньше целого. Куда лучше всего этого душа, образующая тело и оживляющая его, чего не способна сделать материя. Но Бог – это Жизнь жизни ее».
ГЛАВА VIIИтак, что же люблю я, когда люблю Господа моего? Кто Он, превосходящий самые возвышенные силы души моей? Через душу свою стану восходить к Нему. Я не буду останавливаться на жизненной силе души моей, которой я связан с телом и оживляю его. Не с ее помощью я отыщу Бога моего, ибо в противном случае Его бы нашли «и конь, и лошак несмысленный» (Пс. XXXI, 9); ведь такою же силою оживляются и их тела. Есть другая сила, не только оживляющая, но и дающая способность ощущать; она велит глазу не слышать, а уху – не видеть, но каждому органу делать свое дело; разное получаю я через них, но при этом остаюсь единым духом. Но и эта сила не интересует меня – и она есть и у коня, и у лошака, также наделенных телесными чувствами.
ГЛАВА VIIIОставляю в стороне и эту силу, постепенно восходя к Создавшему меня. И вот вхожу я в обширные владения памяти, сокровищницы бесчисленных представлений о всякого рода вещах, доступных чувствам. Там сокрыто также и то, о чем мы думаем, всячески видоизменяя постигаемое чувствами. Там находится все, что мы вверили памяти и что не поглотило еще забвение. Когда я обращаюсь к ней и вызываю представления, то одни являются тотчас, другие – нет, как бы отыскиваемые в каких-то дальних сундуках; иные появляются не ко времени, будто бы вопрошая: «Не нас ли ты звал?», и я отстраняю их рукою сердца моего из воспоминаний до тех пор, пока не отыщу желаемое. Другие же представления по мере вызова появляются легко и легко же уходят на задний план, уступая место новым, дабы затем вновь также легко появиться, когда я вновь призову их. Так часто бывает, когда я что-либо рассказываю по памяти.
В памяти сохраняются раздельно и по родам все впечатления, которые проникли туда каждое в свое время и каждое своим путем, например, свет, цвета и формы вещей – через глаза, звуки – через уши, запахи – через ноздри и т. п. Все это принимается на хранение в обширные кладовые памяти, чтобы при необходимости быть выданными обратно. Не сами вещи входят в память, а только образы вещей, представляемые разуму при воспоминании о них. Но кто скажет, как возникают эти образы того, что было воспринято чувствами и сокрыто в глубине души? Ибо даже находясь в темноте и безмолвии я, если пожелаю, могу воспроизвести в памяти цвета и звуки, прежде как бы спрятанные и отложенные в сторону. Я легко могу востребовать их: язык в покое, горло молчит, а я пою; и зрительные образы, хотя они и во мне, не вмешиваются и не мешают, пока я роюсь в другой кладовой. То же происходит и с воспоминаниями от ощущений, полученных от других органов чувств: я отличаю, ничего не обоняя, запах лилий от запаха фиалок, предпочитаю мед виноградному соку, мягкое жесткому, ничего при этом не пробуя и не ощупывая, но только вспоминая.
Все это происходит во мне, в обширных хранилищах памяти. Там есть и небо, и земля, и море, и все, что я смог воспринять чувствами, – все, кроме мною забытого. Там встречаюсь я и с самим собой и вспоминаю, что я делал и что при этом чувствовал. Там находится также и то, что я узнал от других и принял на веру. Пользуясь всем этим и сопоставляя воспринятое непосредственно мною и принятое на веру от других, я создаю различные образы: я вплетаю их в прошлое, из них тку ткань будущего. «Я поступлю так-то», – говорю я себе в уме своем, затем прибавляю: «О, если бы случилось то-то». «– Да оградит Господь оттого-то», – продолжаю я, и когда говорю, тут же предстают предо мною образы того, о чем говорю, и эти образы я также извлекаю из памяти; не будь их там, что бы я мог вообще сказать?
Велика сила памяти, Господи, беспредельна величина этой сокровищницы. Кто исследует глубины ее? Но и в нее не могу я вместить себя. Разум тесен для себя же. Но где находится то, что он не в силах вместить? Ужели вне его? И как он не вмещает этого? В великом изумлении перед всем этим цепенеют чувства мои и разум умолкает. И мне уже непонятно, как могут люди изумляться высоте гор, глубине океана, просторам рек, вращениям звезд, забывая о самих себе. Не удивляет их и то, что, говоря обо всем этом, я не вижу этого пред собою, но в памяти своей содержу и горы, и океан, и реки, и звезды, и будто бы вижу их во всем их величии. Но не их поглотил я, а их образы, и я твердо знаю, что и какими телесными чувствами запечатлено во мне.
ГЛАВА IXНо не только это хранит в себе память моя. Там есть и то, что узнал я посредством различных наук все это как бы втиснуто в какое-то место, которое не есть место; тут уже не образы, а как бы сами предметы. Все мои познания в грамматике, диалектике и многом другом живут в моей памяти, причем не в виде их образов, а непосредственно сами они. Они не отзвучали и исчезли, подобно звукам, оставив в памяти только свой след, не пропахли в воздухе, оставив образ запаха, не прочувствовались, подобно пище, во рту, чтобы затем, потеряв свой вкус в желудке, сохранить воспоминание о нем в памяти: не сами эти явления хранит в себе память, но с изумительной быстротою овладевает их образами, раскладывает их и при воспоминании удивительным образом находит.
ГЛАВА ХКогда я слышу, что есть три рода вопросов: существует ли? что существует? в каком виде существует? – я получаю и удерживаю образы звуков, из которых составлены эти слова, и знаю, что они прозвучали в воздухе и уже исчезли. Мысли же, обозначенные этими звуками, я не мог воспринять ни одним из телесных чувств и нигде не мог увидеть, кроме как в уме. В памяти хранились не образы этих мыслей, а сами мысли. Откуда они вошли в меня? Пусть объяснит, кто может. Вот, обозреваю я все двери плоти моей, и не нахожу входа для них. Глаза вопрошают: «А был ли у них цвет?»; уши вторят: «Звучали ли они?»; затем ноздри: «Каков их запах?»; чувство вкуса: «Коль нет у них вкуса, то причем здесь я?»; осязание: «Раз они бестелесны, то как я могло их ощупать?» Откуда же и как проникли они в память мою? Не знаю. Не чужой же разум внушил их мне: нет, я все проверил собственным, признал их правильность и доверил на хранение, дабы при случае востребовать назад. Значит, они были в уме еще до того, как я их усвоил, но в памяти их тогда еще не было. Но если не в памяти, то где? Ведь когда мне сказали о них, я узнал их и признал за достоверные. Выходит, они все-таки были в моей памяти, но были запрятаны столь глубоко, что не напомни мне кто-либо о них, сам бы я о них и не вспомнил.
ГЛАВА ХIПоэтому-то мы и говорим, что изучать то, что дано нам в образах чувственного восприятия, но созерцается без образов, как бы само в себе внутри нас, значит не что иное, как размышлением как бы перебрать то, что и прежде содержалось в памяти, но хранилось беспорядочно и было разбросано кое-как, а затем разместить все это и упорядочить, дабы теперь оно было всегда под рукой и легко доставалось при обычном усилии ума.
Сколько хранится в памяти уже известного, того, что всегда под рукой, о чем мы говорим, что изучили это и знаем! Но если я перестану время от времени перебирать это, оно вновь канет в ее глубинах, рассеется по укромным тайникам. И тогда опять придется все это находить и извлекать как нечто новое, знакомиться с ним и сводить воедино. Отсюда и слово cogitare[36]. Cogo и cogito так же соотносятся друг с другом, как ago и agito, facio и factito. Ум овладел этим глаголом, поскольку именно в уме происходит собирание, сведение воедино, а это и называется обдумыванием.
ГЛАВА XIIТаким же образом память содержит бесчисленные законы и комбинации измерений и чисел; их не могло сообщить ей ни одно из телесных чувств, ибо нету них ни запаха, ни вкуса, они не светятся и не издают звуков, их нельзя пощупать. Я слышу только звуки обозначающих их слов, но слова – одно, а обозначаемое ими – совсем другое. Обозначение может быть сделано и на греческом, и на латинском, но сами предметы не зависят ни от греческого, ни от латинского. Я видел планы, начертанные рукою мастеров: линии на них порою настолько тонки, что напоминают паутинки; но линии, хранящиеся в моей памяти, это не их образы, это – нечто иное. Их знаешь, не связывая ни с каким телом, их узнаешь, погружаясь в себя. Телесные чувства дают представления о числах, ибо пересчитываем же мы видимые предметы. Но сами числа не суть образы этих предметов, они куда реальней. Пусть смеются надо мною те, кто не может этого понять; я же посочувствую их смеху.
ГЛАВА XIIIВсе вышеупомянутые представления я удерживаю в памяти своей, помню и то, как им обучился. Память моя хранит и многочисленные опровержения сказанного мною: опровержения ложны, но память о них – истинна. Я разграничил правильное и ложное, и запомнил эту грань. Запомнил я также и то, что часто занимался этим разграничением, но как часто и в связи с чем – помню смутно. Также и то, что я сейчас различаю и понимаю, я складываю в памяти, чтобы потом вспомнить, что сегодня я это понимал. Я помню, что я помнил, и вспомню о том, что вспомнил сейчас. Такова удивительная сила памяти!
ГЛАВА XIVДаже мои душевные волнения хранит та же память, но не так, как они существуют в душе в момент страсти, а иначе, так, как приличествует это памяти. Я вспоминаю о былой радости, но это уже не радует меня так, как радовало тогда; вспоминаю о грусти, но не грущу; прежние страхи, приходя на ум, уже не страшат; страсть вспоминается бесстрастно. А бывает и так, что бывшую печаль я вспоминаю с радостью, а радость – с тоской. И речь ведь идет не о теле, а о душе. Чему было бы удивляться, если бы о бывшей болезни я вспоминал с радостью? Но ведь память-то и есть душа, ум. Когда мы хотим что-либо запомнить, то часто говорим: «Держи это в уме»; забыв о чем-то, вздыхаем: «Из ума вон». Но когда я радостно вспоминаю о прошлой печали, то в душе моей радость, а в уме – печаль. Причем душа радуется радостью, ум же не печалится от печали. Что же, память не связана с душою? Нет, память – это как бы желудок души, а радость и печаль – ее пища; в памяти она переваривается, теряя вкус. Сравнение это может показаться смешным, но некоторое сходство здесь есть.
И вот из памяти своей я извлекаю сведения о четырех чувствах, волнующих душу: страсти, радости, страхе и печали. Все мои рассуждения о них я нахожу в памяти, причем ни одно из этих волнующих чувств при воспоминании о нем меня не волнует. Еще прежде, чем я начал вспоминать о них, они находились в памяти моей, иначе я бы и не извлек их на свет своим воспоминанием. Возможно, как пища поднимается из желудка при жвачке, так и воспоминание вызывает эти чувства из памяти. Почему же вспоминающий о них не ощущает при этом ни сладости радости, ни горечи печали? Но кто бы стал говорить о страхах и печалях, если бы вынужден был при этом бояться и печалиться? Но, с другой стороны, мы не смогли бы ничего о них сказать, если бы память не хранила не только обозначения этих чувств, но и воспоминания о знакомстве с ними нашей души. Душа, по опыту знающая о них, передала эти знания памяти, и та их удержала.
ГЛАВА XVНо как удержала, с помощью образов, или без? Когда я говорю о камне или солнце, то хотя и не воспринимаю их в данный момент телесными чувствами, но образы их, конечно же, тут, в памяти. Я называю телесную боль, хотя сейчас у меня ничего не болит. Но представление о ней должно быть в моей памяти, иначе как бы отличил я ее от наслаждения? Я говорю о телесном здоровье, но хотя я и здоров, не будь образа здоровья в памяти, я бы не вспомнил, что значит это слово. И больные ничего не знали бы о здоровье, если бы не помнили о нем. Я называю числа и вспоминаю о них не об их образах, но именно о них самих. Я называю образ солнца, и вот он-в памяти. Не образ образа, а сам образ, предстающий при воспоминании о нем. Я говорю о памяти, и понимаю, о чем говорю. Откуда узнал я о ней, как не от нее самой? Неужели же и себя она видит в образе?
ГЛАВА XVIЯ вспоминаю о забвении, и знаю, о чем вспоминаю. А ведь я вспоминаю не название, а то, что оно обозначает; если бы я забыл об этом, то и не знал бы, что это такое. Когда я говорю о памяти, то вот она, сама память, но когда я говорю о забвении, то здесь есть и память, и забвение: память, о которой я вспоминаю, и забвение, о котором вспоминаю. Но ведь забвение – это утрата памяти. Как же я вспоминаю то, при наличии чего я не могу вспоминать? Но я должен помнить о забвении, иначе откуда бы мне было знать, что это такое. О забвении помнит память, ибо не будь ее, не было бы и забвения. Выходит, не само забвение существует в памяти, но только образ его; будь там оно само, мы бы ничего не вспоминали. Кто в силах постигнуть все это? Кто поймет, как это все происходит?
Да, Господи, я размышляю над этим, тружусь над собой; я стал для себя землею, которую должно возделывать в поте лица своего. И ведь речь идет не о глубинах небесных и водных, не о звездных пространствах, не о тайнах земных; речь идет обо мне, о моей душе. Далеко от меня то, что вне меня, но близок ли себе я сам? Непостижима мне сила памяти моей, но без нее для меня не было бы и меня. Что сказать мне, если я знаю, что помню о забвении? Сказать, что в памяти моей нет того, о чем я помню? Или сказать, что храню память о забвении затем, чтобы не забывать? И то и другое – нелепо. А что же еще? Возможно, следует сказать, что в памяти моей хранится не само забвение, а его образ? Но где существовало забвение прежде, чем образ его запечатлелся в памяти? Я вспоминаю Карфаген, его улицы и площади, лица людей, с которыми там встречался. Я помню пережитые мною печали и радости. Но все это было до того, как память схватила и удержала их образы, после чего я уже могу вспоминать об этом, перебирая в уме, хотя этого передо мною уже нет. И если в памяти хранится только образ забвения, то необходимо, чтобы где-то существовало и само забвение. Но даже если это и так, то как удержала память его образ? Ведь любое воспоминание должно было стереться в тот миг, когда ей повстречалось на пути забвение. Все это таинственно и непостижимо, но я всетаки твердо знаю, что помню о забвении, погребающем все, о чем мы помним.
ГЛАВА XVIIВелика сила памяти, Господи, ужасают неизъяснимые тайны ее глубин. И это – моя душа, я сам. Что же я такое, Боже? Какова природа моя? Сколь неизмерима жизнь в ее бесконечном многообразии! Широки поля памяти моей, бесчисленны ее пещеры и гроты: вот образы тел, вот и подлинники, дарованные различными науками, вот какие-то зарубки, оставленные переживаниями души; душа их уже не ощущает, но память хранит, ибо в ней есть все, что было когда-то в душе. Я ношусь по ней, стремглав погружаюсь в самые глубины, но не нахожу ни краев, ни дна. Такова сила памяти, такова сила жизни в том, что живет для смерти. Что делать мне, Боже, истинная Жизнь моя? Оставлю в стороне эту силу мою, что называется памятью, устремлюсь к Тебе, сладостный Свет мой. Я поднимусь душою к Тебе, ибо Ты выше меня, прикоснусь к Тебе, прильну всем сердцем своим. Память есть и у животных, и у птиц: как бы иначе находили они логова свои и корм? Оставлю ее, дабы прильнуть к Тому, Кто отделил меня от четвероногих, сделал мудрее птиц. Пренебрегу памятью своею, чтобы найти Тебя. Но где найти? Истина моя, сладость и милосердие мое, где мне найти Тебя? Если не найду Тебя в памяти своей, то и не вспомню, а если не вспомню, то и не найду.
ГЛАВА XVIIIПотеряла женщина драхму и искала со светильником (Лук. XV, 8); если бы не помнила о ней, то и не нашла бы. А если бы и нашла, то откуда бы узнала, что это ее, если бы не помнила? Я помню, как искал и находил потерянное. И когда искал и спрашивали меня: «Не это ли то, что ты ищешь?», я отвечал: «Нет» до тех пор, пока не показывали мне искомое. Если бы я не помнил о том, что я ищу, как бы распознал я его, хотя бы мне его и указали? Если какой-либо предмет исчезает из поля зрения, но память хранит его образ, то его ищут до тех пор, пока он вновь не появится перед глазами. Найденное распознается по образу, хранящемуся в памяти. И мы никогда не скажем, что нашли потерянное, если не узнаем его, а узнаем только в том случае, если помним.
ГЛАВА XIXНу, а когда сама память теряет что-то, как это бывает, когда мы забываем и силимся припомнить, то где ищем мы, как не в памяти же? И если она представляет нам что-либо другое, мы это отбрасываем, и так продолжается до тех пор, пока не найдем то, что ищем. И тогда мы радостно говорим себе: «Вот оно!» Мы не сказали бы так, не узнай в нем искомого, и не узнали бы его, если бы не помнили. Но, однако же, мы о нем забыли! Или мы забыли только о части его, память же, привыкнув к целому и как бы охромев, требует возвращения недостающего? Мы повстречали знакомого, чье имя вылетело из головы, и мы мысленно перебираем разные имена, но лишь одно составляет с ним целое, и память не успокоится до тех пор, пока не сведет их воедино. А где было это имя, как не в самой памяти? Если даже нам напомнит его кто-то другой, все равно оно уже находилось там. Мы ведь не примем его на веру, но, вспомнив, подтвердим его истинность. Ну, а если имя полностью забыто? Тут-то и вспоминать нечего, а меж тем мы все равно ищем, а значит все-таки забыли не до конца.
ГЛАВА XXКак же искать мне Тебя, Господи? Когда ищу я Тебя, я ищу блаженной жизни. Буду искать, чтобы жила душа моя. Душа оживляет тело, душу же оживляешь Ты. Но как искать мне блаженную жизнь? Ее я пока не достиг, не могу сказать себе: «Вот она»! Но так как искал я ее, то как искал? Так ли, что вспоминал о ней, как бы зная о ней прежде, но забыв, хотя и помня о том, что забыл, или же я никогда не знал о ней, или настолько забыл, что и не вспомню об этом? Но разве не все стремятся к блаженству? Откуда же они узнали об этом, если так этого желают? Где увидели, чтобы полюбить? Не знаю как, но как-то она есть у нас, жизнь блаженная, хотя есть по-разному. Одни блаженны, уже достигнув ее, другие – счастливы надеждой; последним хуже, чем первым, но и они стократ блаженнее тех, кто и не живет блаженной жизнью, и не уповает на нее. Но и эти должны же что-то знать о ней, коль скоро и они о ней мечтают, хотя и непонятно, откуда у них эти знания.
И я задаю себе вопрос: если это воспоминание, то, значит, некогда мы все были блаженны, каждый ли сам по себе, или же в том человеке, через которого грех вошел в мир, в котором мы все умираем и от которого рождаемся в скорби. Но суть не в этом, а в том, действительно ли это воспоминание. Мы не любили бы блаженной жизни, если бы не знали ее. Мы слышали это слово, но влечет-то нас не оно, а то, что оно только обозначает. Грек ведь не поймет и не затрепещет от радости, если ему скажут по-латыни: «блаженная жизнь», ибо она не связана ни с Грецией, ни с Римом, но стремятся к ней и римляне, и греки, и все остальные. Таким образом, она известна всем, и нет человека, который бы на вопрос, хочет ли он быть счастливым, искренне ответил бы: «Нет». Этого никогда бы не случилось, если бы у людей не сохранилось воспоминание о том, что есть блаженная жизнь,



