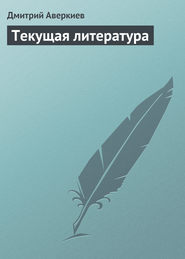 Полная версия
Полная версияТекущая литература

Дмитрий Васильевич Аверкиев
Текущая литература
I. Всякому по плечу
По Сенькѣ и шапка.
Пословица.Петербургскiя трущобы. Романъ въ шести частяхъ. Соч. В. В. Крестовскаго. Отеч. Зап. Х, ХI, 64 и I, II, III, 65.
«Петербургскiя трущобы» имѣютъ огромный успѣхъ: всѣ жаждутъ прочесть этотъ дивный романъ, записываются за недѣлю въ библiотекахъ; всѣ наконецъ очарованы, восхищены. Въ одномъ сѣренькомъ листкѣ – названiя мы не приводимъ собственно потому, что оно навѣрно неизвѣстно нашимъ читателямъ – объявлено даже, что романъ г. Крестовскаго произведенiе высоко-художественное и умретъ единственно вмѣстѣ съ русской литературой. Нѣтъ сомнѣнiя, что это похвала ужь черезъ-чуръ усердная и что русской литературѣ не грозитъ опасность умирать въ подобномъ сообществѣ. Но какъ-бы то ни было, романъ читается, приводитъ въ восхищенiе столичныхъ, губернскихъ и уѣздныхъ барынь и барышень и ихъ чиновныхъ обожателей и законныхъ супруговъ. Все это показываетъ, что романъ г. В. Крестовскаго явленiе если не замѣчательное, то знаменательное.
Что до насъ, то намъ вся дѣятельность г. В. Крестовскаго постоянно казалась весьма знаменательной. Сей писатель переживаетъ, такъ сказать, уже второй перiодъ своей славы; первый онъ заключилъ своими великолѣпными «Испанскими мотивами», второй начался съ появленiемъ его новаго романа. Особенность г. В. Крестовскаго состоитъ въ томъ, что онъ договаривается до точки; онъ, такъ сказать, довершитель стремленiй болѣе мелкихъ литературныхъ талантовъ. Этимъ мы вовсе не хотимъ сказать, что у г. Крестовскаго талантъ крупнаго разбора; но согласитесь сами, что онъ смѣлѣе въ картинахъ, остроумнѣе въ подробностяхъ, что его стихъ отличается извѣстной степенью бойкости и юркости, – ну, что вообще г. Крестовскiй замѣчательнѣе напр. хоть г. Минаева. Пояснимъ. Первое – наши самоновѣйшiе поэты стараются перехитрить другъ друга на счотъ риѳмъ: у кого почуднѣе будутъ. И въ этомъ отношенiи никто не превзошолъ г. В. Крестовскаго:
Эта ножка, эта нѣгаИхъ плѣняла съ давнихъ поръ:И одинъ былъ – грандъ Рiега.А другой – торреадоръ.Каковы риѳмы? Что передъ этимъ «Камбекъ» и «Вѣкъ», «аховъ» и «Страховъ», «городовъ» и «стадовъ», «поля» и «Поля» и т. п.? Ничтожество изъ ничтожествъ. Второе, кто изъ сей плеяды поэтовъ не рисовалъ грязныхъ и сальныхъ картинъ (подъ маской обличенiя порока)? Но что значатъ всѣ «Проказы чорта на желѣзной дорогѣ» передъ описанiемъ чѣмъ занимались монахини въ горячую андалузскую ночь, или передъ образомъ поэта, лобзающаго трупъ? Ровно ничего. Тамъ несмѣлость и лживая маска обличенiя, здѣсь крѣпко, какъ помада Мусатова, бьющiй въ носъ ароматъ. Мы могли-бы продолжить это сравненiе, но полагаемъ, что и вышеприведенныхъ двухъ примѣровъ совершенно достаточно. Читателю очевидно, какое глубокое уваженiе питаемъ мы къ высокохудожественнымъ (по выраженiю сѣраго листка) произведенiямъ разбираемаго нами писателя.
Слава «Петербургскихъ трущобъ» далеко разнеслась за долго передъ появленiемъ этого драгоцѣннаго памятника русскаго слова. Если не ошибаемся, то еще года два тому назадъ было объявлено въ «Indépendance Belge», что вотъ-молъ пишется такой романъ. Да не подумаютъ читатели, что предъидущими словами мы намекаемъ на пословицу: добрая слава лежитъ, а худая бѣжитъ. Нѣтъ, мы просто напоминаемъ фактъ, который нѣкоторые можетъ быть запамятовали. Далѣе, чтобъ познакомить публику съ своимъ новымъ произведенiемъ, грозный каратель пороковъ города св. Петра напечаталъ небольшой отрывокъ «Ерши». Отрывокъ этотъ заключалъ въ себѣ описанiе нѣкотораго мошенническаго притона; описанiе хотя часто внѣшнее, но небезъинтересное. Особаго изученiя въ немъ не было видно, но весь отрывокъ былъ замѣтно отдѣланъ. Не скроемъ отъ читателя, что если мудреныя выраженiя мошенническаго жаргона и придавали всей картинѣ внѣшнiй колоритъ правды, то французская постройка сцены ясно обличала въ авторѣ неспособность уловить мѣстныя черты и особенности, которыя вѣроятно существуютъ-же. Ибо странно предположить, что петербуржскiе мошенники до того начитались французскихъ романовъ, что и жизнь свою устроили по плану этихъ произведенiй. Правда также, что и въ «Ершахъ» встрѣчались подробности вовсе неинтересныя, и какъ-бы заимствованныя изъ какого-нибудь фельетона. Таковы напр, старый плутъ извощикъ, обучающiй молодого какъ надувать хозяина, или бѣдный мужичокъ, который гнилой холстины отъ хорошей отличить не можетъ. Но у какого-же современнаго романиста не прорывается, хоть противъ воли, фельетонный пошибъ? У людей истинно-талантливыхъ онъ проглядываетъ, и частенько даже. Зачѣмъ-же быть особенно взыскательнымъ къ г. Крестовскому?
Но правда, но точность наблюденiй, развѣ это не достоинство? Что это за правда и что это за точность – читатель увидитъ дальше. Предварительно замѣтимъ, что авторы, громогласно и широковѣщательно объявляющiе читателямъ, что ихъ сочиненiя суть плоды долголѣтнихъ изученiй и наблюденiй, поступали-бы гораздо умнѣе, если-бы обращали вящее вниманiе на дѣловую сторону и не старались придавать своимъ замѣткамъ объ извѣстномъ бытѣ лжехудожественную ворму. Нѣтъ сомнѣнiя, что всякiй дѣльный, безхитростный разсказъ гораздо лучше плохого романа и найдетъ не меньшiй кругъ читателей. Но – увы! – авторы чаще разсуждаютъ иначе. Причина этому – недостаточное изученiе даннаго предмета, которое легко маскируется романическими украшенiями, и нелѣпое желанiе заинтересовать читателя. Читатель все еще является этимъ господамъ въ видѣ глупаго ребенка, котораго они и думаютъ потѣшать всевозможными нелѣпостями.
Изобилуетъ-ли романъ г. В. Крестовскаго этими украшенiями, или это хорошая дѣльная книга? Съ какой точки смотрѣть на нее? Что хотѣлъ сказать ею авторъ? По счастiю намъ не придется разрывать всей сорной кучи романа, чтобы отъискать исходную точку автора. Намъ не нужно даже ожидать конца романа. Предупредительный сочинитель вѣроятно не надѣялся, что по прочтенiи всего произведенiя, его высокiя цѣли станутъ ясны для читателя, а потому поспѣшилъ въ концѣ первой части объяснить свои возвышенныя намѣренiя. И прекрасно. Мы станемъ смотрѣть на «Петербургскiя трущобы» именно съ той точки, съ какой угодно г. автору.
Эпиграфомъ къ слову «Отъ автора къ читателю» стоитъ слѣдующее: «Не тотъ циникъ, который (почему не кто?) указываетъ на язвы грызущiя общество; но тотъ циникъ, который, замѣчая эти язвы, часто даже прикасаясь къ нимъ, остается хладнокровнымъ ихъ зрителемъ». Очевидно, что въ первой половинѣ эпиграфа авторъ намекаетъ на себя, т. е. не желаетъ, чтобы его за циника приняли. Другого толкованiя эпиграфу дать нельзя. Замѣтимъ только, что опредѣленiе: кто есть циникъ, сдѣлано не совсѣмъ вѣрно, ибо «указывать на язвы грызущiя общество» можно совершенно цинически, напр. можно любоваться картиной разврата собственнаго произведенiя. И этотъ послѣднiй цинизмъ горше перваго.
Авторъ далѣе разсказываетъ, что многiе его друзья и знакомые, которымъ онъ читалъ свое сочиненiе въ рукописи, неоднократно спрашивали его: «неужели все это такъ, все это правда?» Немудрено, что такой вопросъ придетъ въ голову и читателямъ, и вотъ авторъ для того, чтобы увѣрить его «точно-ли это правда», разсказываетъ о томъ, какъ онъ задумалъ писать свой романъ. Оказывается, что признанiе свое г. В. Крестовскiй почувствовалъ вслѣдствiе того необыкновеннаго происшествiя, что «шесть лѣтъ тому назадъ, въ 1858 г. на Сѣнной площади, ражiй мущина, повидимому отставной солдатъ, билъ полупьяную женщину». Это служитъ новымъ подтвержденiемъ той великой истины, что малыя причины производятъ великiя слѣдствiя. Г. В. Крестовскiй, вслѣдствiе вышеописаннаго происшествiя, попалъ въ одинъ изъ «отвратительныхъ прiютовъ», гдѣ и узналъ урывками кое-что изъ жизни побитой женщины и ея товарокъ, но «черезъ (т. е. вѣроятно сквозь) эти урывки для него <нрзб> драма: – такая драма, въ которой «за человѣка страшно становилось».
Какъ человѣкъ просвѣщонный, г. Крестовскiй задалъ себѣ нѣсколько важныхъ вопросовъ (вопросовъ впрочемъ неновыхъ); эти вопросы привели его къ порицанiю «нашего общества, столь щедраго на филантропическiе возгласы, обѣды и теорiи». Порицанiе впрочемъ нѣсколько странное въ устахъ почтеннаго автора, потому что пришедшiе ему въ голову вопросы составляютъ только блѣдный отголосокъ «филантропическихъ возгласовъ, обѣдовъ и теорiй». Авторъ сознается впрочемъ, что вопросы эти не онъ самъ выдумалъ, но онъ надѣется, что авось найдутся такiе читатели, которымъ «и въ голову они не приходили». Да увѣнчаются успѣхомъ сiи возвышенныя надежды.
Вопросы задалъ себѣ г. В. Крестовскiй въ качествѣ человѣка просвѣщоннаго: – въ качествѣ человѣка литературнаго, онъ тотчасъ-же принялся за писанье и окрестилъ свое произведенiе Содержанкой. Но путнаго, по сознанiю самаго сочинителя, ничего не вышло, хоть онъ работалъ съ жаромъ. Тѣмъ не менѣе онъ тотчасъ задумалъ романъ изъ жизни, которой еще не зналъ, ибо урывки страшной драмы не составляютъ знанiя.
Это признанiе автора весьма характерно: онъ не потому началъ писать романъ, что у него накопились матерiалы, но потому началъ собирать матерiалы, что ему вздумалось написать романъ. И вотъ онъ началъ изучать петербуржскую жизнь и ея типы «съ тѣхъ сторонъ, которыя оказывались пригодными, подходящими для его идеи». Какова собственно эта «его идея» авторъ, вѣроятно по скромности, не упоминаетъ, но надо подозрѣвать это идея – «написать романъ». Извѣстно всякому, что изученiе жизни только тогда удается, когда оно производится свободно, безъ всякой предвзятой мысли; что смыслъ жизни долженъ быть выведенъ изъ нея самой, и т. д. Но эти «идеи», какъ оказывается, были неизвѣстны г. Крестовскому. И мы вовсе не удивляемся, что «черезъ нѣсколько лѣтъ úсподвольныхъ наблюденiй», г. авторъ увидѣлъ ясно то, «что трущобы кроются не исключительно около Сѣнной, что онѣ весьма многообразны, и поэтому далъ своему роману его настоящее названiе». Въ самомъ дѣлѣ, какое великое открытiе! Оно равноцѣнно извѣстнымъ выраженiямъ «вездѣ есть добрые и злые люди», или «и черезъ золото льются слезы», и т. п.
Да не подумаетъ читатель, что мы съ какой-нибудь задней мыслью останавливаемся такъ долго на послѣсловiи къ первой части романа г. Крестовскаго. Все это совершенно необходимо, чтобы по достоинству оцѣнить новое произведенiе болотной музы; если-бы мы слегка отнеслись къ нему, то насъ навѣрно-бы укорили въ легкомыслiи, пристрастiи и, чего добраго, даже въ зависти.
«Считаю долгомъ предварить:» – повѣствуетъ далѣе авторъ – «романъ этотъ отнюдь не обличенiе, или памфлетъ на личности; нить разсказа и большая часть событiй и эпизодовъ суть дѣло вымысла. Тѣ матерiалы, которые давала мнѣ жизнь, то есть все что я видѣлъ и слышалъ, послужили для меня только матерiалами (а чѣмъ-же еще матерiалы могутъ быть?); совокупность отдѣльныхъ явленiй и фактовъ – жизненныхъ, юридическихъ и иныхъ – дала мнѣ возможность сдѣлать нѣсколько типовъ. Я заботился только о томъ, чтобы въ этихъ картинахъ и типахъ была общая вѣрность нашей жизни. На сколько-же успѣю (очевидно романъ еще не конченъ) я сладить съ такою задачею – будетъ судить читающая масса и критика, если только она соблагоизволитъ отнестись къ моему роману критически, и т. д.
(От. Зап. Х, 64, стр. 854 и 855).»И такъ г. Крестовскiй поставилъ себѣ задачею изобразить во всей ужасающей наготѣ порокъ, бѣдность и прочiя несовершенства петербуржской жизни и для этого вымыслилъ большую часть событiй. Онъ опасался, чтобъ его романъ не былъ памфлетомъ, или вѣрнѣе сплетней. Посмотримъ, нѣтъ-ли въ немъ сплетней. Матерiалы послужили для него только матерiалами. Посмотримъ, какое зданiе онъ построилъ и что за матерiалы собралъ. Совокупность отдѣльныхъ явленiй и фактовъ дала ему возможность сдѣлать, какъ онъ выражается, нѣсколько типовъ. Сдѣлать очевидно по скромности употреблено вмѣсто создать; скромность странная у господина, который завѣряетъ, что въ его произведенiи есть типы. А что если при провѣркѣ ихъ не окажется?
Кромѣ этихъ обѣщанiй и хвастливыхъ завѣренiй, выписанное нами мѣсто замѣчательно какъ обращикъ того, какъ наши такъ-называвемые реалисты понимаютъ художественное дѣло. Первое – они совершенно отрицаютъ или по крайней мѣрѣ отодвигаютъ на самый заднiй планъ внутреннюю художественную силу. У нихъ главнымъ являются не художественныя силы, не владѣнiе ими, – а собранные матерiалы. Какъ-бы чувствуя свое артистическое безсилiе, они упираютъ на то, что они наблюдали, изучали, раскапывали. Не въ наблюдаемомъ, а въ наблюдателѣ сила. По неволѣ вспомнишь восклицанiе Карляйля: «для Ньютона и ньютоновой собаки Даймонда – какiя двѣ различныя вселенныя! а между тѣмъ на сѣтчатой оболочкѣ ихъ глазъ онѣ отражались совершенно одинаково, тожественно!» «Помилуйте, я видѣлъ это своими собственными глазами! я самъ это слышалъ!» – вотъ аргументы новѣйшаго реализма. Они забываютъ, что смотрѣть и видѣть, слушать и слышать – двѣ вещи разныя. Для васъ это простой обломокъ кости, такого-то вида, такой-то длины и толщины, а для Кювье эта кость – ключъ къ цѣлымъ исчезнувшимъ мѣрамъ. Для васъ она имѣетъ извѣстное протяженiе и извѣстный вѣсь, и больше ничего, а для великаго натуралиста она имѣетъ еще извѣстный смыслъ. Этого-то внутренняго пониманiя, этого проникновенiя въ смыслъ и не достаетъ нашимъ реалистамъ (художникамъ и философствующимъ – безъ различiя). Художникъ калькируетъ природу и удивляется, какъ смѣютъ находить, что его изображенiе непохоже. Онъ замѣтилъ всѣ мелочи: какiе у человѣка глаза, и что онъ ходитъ слегка, почти незамѣтно, прихрамывая на лѣвую ногу и даже крошечный шрамъ на два съ половиной пальца выше праваго глаза, и даже то, что третья снизу пуговица на сюртукѣ немного криво пришита, – и думаетъ, что этихъ мелочей достаточно, что онъ нарисовалъ человѣка съ такимъ совершенствомъ, какого не знали старинные художники. И находятся поклонники такого безобразiя, увѣряющiе, что они видятъ не пародiю, а живого человѣка. Живой человѣкъ, у котораго не достаетъ бездѣлицы – «духа жива». Въ сущности такiя изображенiя представляютъ большiя безпорядочныя кучи, гдѣ напичкано великое множество всякихъ ненужныхъ мелочей и подробностей; и въ этой кучѣ копошится до устали художникъ-муравей, перебирая и переставляя свое достоянiе; ужь онъ и такъ, и сякъ хлопочетъ, – а куча тѣмъ не менѣе остается все-таки одной безобразной кучей. Нѣтъ ничего мудренаго, что такой художникъ эту кучу считаетъ самымъ главнымъ; онъ со всѣми своими наблюденiями и изученiями совершенно поглощается ею. И выходитъ, что не онъ владѣетъ матерiаломъ, а матерiалъ имъ владѣетъ. Нѣкоторые, кажется, до того умилились передъ этимъ псевдореалистическимъ направленiемъ, что стали представлять публикѣ сырой матерiалъ. И диви это дѣлали-бы люди бездарные, – а то такiя сильныя дарованiя, какъ г. Писемскiй, какъ-бы умышленно унижаютъ себя до званiя собирателей анекдотовъ и печатаютъ «Русскихъ Лгуновъ»!
Всякiй истинный художникъ прежде всего стремится выразить самого себя, святую святыхъ своей души. Если внутри человѣка нѣтъ ничего, чтó-бы онъ могъ сказать другимъ людямъ, если въ немъ не сосредоточены силы, а напротивъ онъ самъ свое достоинство полагаетъ въ томъ, что въ состоянiи замѣтить мелочи, и однѣ только мелочи, и чѣмъ больше, тѣмъ лучше, – то лучше такому человѣку оставить въ покоѣ искусство. Матерiалъ такъ ничтоженъ передъ тѣмъ, что поэтъ создаетъ изъ него. Сравните трагедiю о Гамлетѣ съ разсказомъ Саксона Грамматика! Шекспиръ видѣлъ въ немъ то, что скрыто отъ другихъ, – но то, что онъ видѣлъ, теперь ясно и открыто и понятно для всѣхъ, потому что въ поэтѣ была сосредоточена эта великая сила прозрѣвать въглубь, видѣть сокровенный смыслъ, – сила, которой въ извѣстной степени одарены всѣ люди. Оттого-то и дорогъ людямъ этотъ великiй провидецъ. Не долженъ-ли всякiй художникъ, какъ-бы малы ни были сравнительно его силы, стремиться къ этому? Не долженъ-ли онъ, способный нарисовать только жанръ, извѣстнаго (и сравнительно ограниченнаго) рода картину, руководиться тѣмъ-же стремленiемъ?
И что-же мы видимъ? Это-то именно спасительное стремленiе и осуждается. Цѣнятся внѣшнiя, несущественныя достоинства. Цѣнится то, что чѣловѣкъ смотрѣлъ, а не то: какъ и что онъ видѣлъ и есть-ли въ немъ сила видѣть что-нибудь кромѣ наружных очертанiй и наростовъ?
Всего забавнѣе, когда подобные собиратели матерiаловъ вздумаютъ втиснуть ихъ въ художественную форму. Это въ родѣ геометрiй и химiй въ стихахъ. Выходитъ нѣчто весьма безобразное, такъ-же относящееся къ искусству, какъ нелѣпость къ здравой идеѣ.
И вотъ передъ нами опять вопросъ: отчего эти господа пишутъ безобразные повѣсти и романы, а не хорошiя дѣльныя книги? Отвѣтъ, кажется, долженъ быть такой: оттого, что дѣльную книгу написать такъ-же трудно, какъ и художественное произведенiе. Талантъ всегда нападаетъ на истинную дорогу, разъяснитъ себѣ къ чему онъ способенъ, – но не то съ посредственностью, которая составляетъ зерно нашей текущей литературы. Она никакъ не умѣетъ опредѣлиться, найти, какъ говорится, востокъ (орiентироваться). Оттого, вмѣсто дѣльныхъ учебниковъ, мы видимъ такое множество популярныхъ книжонокъ, гдѣ разныя присказки и побасенки составляютъ самую существенную часть. Оттого наши кропотливые наблюдатели никакъ не могутъ просто записать своихъ наблюденiй, а хотятъ, въ что-бы то ни стало, сдѣлать изъ накопившихся матерiаловъ типы. Но – увы! – чтобы создать типъ, надо прежде всего имѣть способность къ этому. Наши реалисты слѣдуютъ мудрому изреченiю: «чтобъ сдѣлать штуфатъ изъ зайца, надо сперва его поймать», забывая, что можно поймать зайца, но тѣмъ не менѣе не умѣть сдѣлать изъ него штуфата. Никакiя старанiя не помогутъ этому, сколько-бы вы «ни заботились о томъ, чтобъ въ картинахъ и типахъ была общая вѣрность нашей жизни», – отъ одной этой заботы путнаго ничего не произойдетъ. Синица также весьма большiя старанiя прилагала зажечь море, – да не зажгла.
И это называется правдой, реализмомъ? Если въ этомъ правда, то тѣ, кто умѣетъ передразнивать пѣнiе птицъ и жужжанiе осъ, – великiе художники. Петербургскiй чиновникъ надулъ уѣздныхъ взяточниковъ, – какой водевильный сюжетъ! Гдѣ тутъ долголѣтнiя наблюденiя, изысканiя, желанiе изобразить этотъ случай именно такъ, какъ онъ произошолъ? И изъ этого выходитъ безсмертная комедiя. Все общество узнаетъ себя въ этой генiальной картинѣ, общество, жившее ложью, забывшее внутреннюю правду, – и это все заключается въ этомъ водевильномъ сюжетѣ. Птицы строятъ какой-то небывалый городъ: Облакокукушкинъ – (Нефелококсигiю) – и заранѣе торжествуютъ свою побѣду надъ безсмертными и смертными. Что за нелѣпость! И въ этомъ произведенiи божественнаго Аристофана люди узнаютъ себя! Должно быть есть правда выше фотографической правды; должно быть истинный реализмъ состоитъ въ вѣрности человѣческой природѣ, а не въ томъ, чтобы замѣтить сколько прыщей на лицѣ у Петра Ѳедоровича. Правда, у васъ будетъ въ выигрышѣ фактъ, что прыщей дѣйствительно столько-то, но только этотъ фактъ и будетъ въ выигрышѣ, а болѣе ничего.
Теперь мы пригласимъ читателя полюбоваться на этотъ новый реализмъ. Въ романѣ г. Крестовскаго онъ доведенъ до точки, до nec plus ultra. Мы принуждены будемъ спуститься въ очень низменную сферу; мы должны будемъ принимать во вниманiе самыя пошлыя, обыденныя и затасканныя истины, которыя такъ называются собственно потому, что въ нихъ нѣтъ никакой истины; мы будемъ свидѣтелями самыхъ грязныхъ картинъ.
Весь романъ г. Крестовскаго состоитъ изъ премудрыхъ разсказовъ о томъ, какъ дѣвица разрѣшилась отъ бремени, какъ пала честная женщина вслѣдствiе прiема извѣстнаго состава въ чашкѣ кофе, какъ мужъ засталъ свою жену въ объятiяхъ управляющаго, какъ мошенники надули iезуита и т. п. Происшествiя, какъ видите, необыкновенныя. И разсказаны они также необыкновенно и съ великими претензiями. Мы сдѣлаемъ нѣсколько выписокъ.
Князь Шадурскiй застаетъ свою супругу съ любовникомъ. Сцена.
«Онъ (князь) позабылъ себя отъ бѣшенства и вдругъ, въ отвѣтъ на укоризненное восклицанiе княгини, раздался хлесткiй звукъ пощочины.
Княгиня взвизгнула и навзничь грохнулась на полъ.
Шадурскiй съ минуту постоялъ надъ нею, молча и холодно глядя на ея рыданiя, и тихо вышелъ изъ будуара.
Онъ уже успѣлъ овладѣть собою.
– Сними съ меня эту перчатку! спокойно и твердо сказалъ онъ лакею, войдя въ кабинетъ свой.
Тотъ акуратно исполнилъ это экстраординарное приказанiе.
– Брось ее въ огонь! сказалъ онъ еще болѣе равнодушнымъ тономъ – и лайка тотчасъ-же затлѣлась въ пламени камина.
Князь чувствовалъ, что онъ «разыгралъ хорошо», что онъ долженъ быть необыкновенно эфектенъ и величественъ въ эту минуту.
Жалкiй человѣчишко!.. онъ рисовался передъ самимъ собою своимъ quasi-байроновскимъ демонизмомъ!..
(О. З. Х, 64, 829)».Наше сожалѣнiе не къ князю, а къ автору, который такъ «разыгралъ хорошо» эту сцену и вѣроятно полагаетъ, что она необыкновенна эфектна и величественна. Выдумать такую нечеловѣческую сцену, сочинить небывалую нелѣпость, разсказать все это торжественнымъ слогомъ, гдѣ каждое слово отчеканено, и рисоваться своей наблюдательностiю и изученiемъ передъ читателями, – вотъ по истинѣ вещь достойная сожалѣнiя. Намъ особенно нравится это quasi-байроновское негодованiе на эту выдуманную самимъ авторомъ небылицу.
Перейдемъ къ воспитанiю. Дѣло идетъ о сынѣ вышеназванной четы.
«Однажды на дачѣ, онъ далъ пощочину ровеснику своему, сыну садовника, за то, что тотъ не смѣлъ по его приказанiю выдернуть изъ грядки какое-то растенiе. Княгинѣ Татьянѣ Львовнѣ (матери) это показалось ужь слишкомъ, и она пожелала внушить своему сыну примѣръ (примѣръ не внушаютъ, а показываютъ) христiанскаго смиренiя.
– Проси у него прощенiя! сказала она ему, подозвавъ обоихъ.
– У кого? съ удивленiемъ спросилъ маленькiй князекъ.
– У этого мальчика… ты его обидѣлъ, и я требую, чтобъ ты просилъ прощенiя.
– Madame! vous oubliez que je suis le prince Chadursky! гордо отвѣтилъ князекъ и, круто повернувшись, отошолъ отъ матери. Княгиня ничего не нашлась (т. е. не нашла) возразить противъ такого сильнаго и неоспаримаго аргумента».
(От. З. ХI, 64, 21 и 22).«И это говорилъ шестилѣтнiй ребенокъ!» восклицаетъ авторъ. Успокойтесь, ни одинъ ребенокъ никогда не говорилъ ничего подобнаго. Но у сочинителя засѣли разныя ходячiя мнѣньица о влiянiи воспитанiя и онъ вздумалъ воспользоваться ими въ романѣ и тѣмъ доказать современность своихъ убѣжденiй. Объ томъ-же князькѣ разсказывается какъ у него сдѣлалась горячка, когда сынъ садовника поколотилъ его, и вообще такъ обставляется его дѣтство, что вы думаете, что этотъ черезъ-чуръ самолюбивый мальчикъ – лордъ Байронъ. Успокойтесь, это просто фактъ первой руки. О воспитанiи-же говорится почти то-же, что въ «Гувернерѣ», комедiи г. Дьяченко.
Мы могли-бы привести еще множество подобныхъ мѣстъ для показанiя, какъ г. Крестовскiй дѣлаетъ свои типы. Но хорошаго по немножку. И потому пропускаемъ ростовщика Морденку, «сдѣланнаго» по образцу множества ростовщиковъ и скупцовъ, описанныхъ въ комедiяхъ и романахъ, – благочестивую чету, представляющую пародiю на «Старосвѣтскихъ Помѣщиковъ», – квартальнаго надзирателя, который говоритъ мошеннику: «именемъ закона – я васъ арестую», и т. п.
Не обратимъ также вниманiя ни на ужасающiй французскiй языкъ, которымъ выражаются аристократы, – ни на великое знанiе мошенническаго жаргона, къ которому авторъ относитъ выраженiе трактирный завсегдатый, встрѣчающееся у Гоголя.
Описавъ какую-нибудь небылицу, авторъ производитъ восклицанiя въ родѣ двухъ вышеприведенныхъ. Эти восклицанiя напоминаютъ намъ гоголевскаго Собачкина, который, выдумавъ исторiю какъ одна барыня высѣкла своего мужа, начинаетъ негодовать на нее: «Говорятъ: образованная женщина, учитъ дѣтей поанглiйски! Какое – просто сѣчотъ каждый день мужа, какъ кошку!»
И то сказать, коли рисовать злодѣевъ, такъ рисовать! Кутить, такъ кутить!
Остановимся еще на одной картинѣ. Это паденiе честной женщины. Г-жа Бероева изображена авторомъ идеаломъ жены: обучаетъ дѣтей, ведетъ хозяйство, страстно любитъ мужа, – и она падаетъ. И какъ обставлено это? Мужъ уѣзжаетъ, у жены не хватаетъ денегъ. Опытная хозяйка, часто живущая съ дѣтьми одна, не знаетъ что дѣлать, гдѣ достать денегъ, гдѣ заложить вещи. За ней уже слѣдятъ: генеральша фонъ-Шпильце – то-же что гётевская Марта – зорко ждетъ, нельзя-ли ее уловить въ свои сѣти. Черезъ горничную Бероевой она узнаетъ, что та въ нуждѣ, и является покупать у нея вещи. Г-жа Бероева очень рада. Эта высоконравственная женщина не поняла, даже смутно, кто явился къ ней; ее не оттолкнуло отъ генеральши даже инстинктивное чувство отвращенiя, которое всякая мало-мальски порядочная женщина непремѣнно обнаружитъ къ личности, подобной генеральшѣ. Генеральша отговаривается тѣмъ, что позабыла деньги, или чѣмъ-то въ этомъ родѣ, и приглашаетъ г-жу Бероеву заѣхать къ ней завтра утромъ и т. д. У генеральши г-жу Бероеву угощаютъ кофеемъ; нежданно является молодой Шадурскiй и генеральша исчезаетъ. Конечно на другой день г-жа Бероева получаетъ отъ мужа по почтѣ деньги. Но не въ этомъ дѣло; у автора цѣль была другая. Что за важность, – пусть разсказано все это не совсѣмъ ладно, – ему главное описать дѣйствiе «чашки кофе». Вотъ это безстыжее и глупенькое, по литературнымъ цѣлямъ автора, описанiе:



