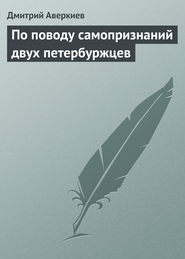 Полная версия
Полная версияПо поводу самопризнаний двух петербуржцев
Но оставимъ въ сторонѣ эту грубость (напоминающую грубое обращенiе французскихъ мастеровъ съ русскими работниками, или рѣчи нѣмецкихъ учителей къ россiйскому юношеству при Петрѣ) и посмотримъ на сколько теоретики-прогрессисты петербуржскаго «Современника» вѣрны въ своихъ теорiяхъ, и для разсмотрѣнiя возмемъ теорiю русской исторiи, находящуюся въ разбираемой нами статьѣ «истинно-образованнаго петербуржца», не гнушающагося и т. д.
Мы не станемъ разбирать ее вполнѣ, а остановимся на двухъ пунктахъ: на призванiи Варяговъ и на петровскомъ преобразованiи. Рѣчь вся клонится къ тому, чтобы доказать необходимость заморской закваски.
«Путь изъ Варягъ въ Греки былъ древнѣйшiй путь, которымъ Россiя связывалась съ двумя болѣе ея цивилизованными мiрами – мiромъ греческимъ и мiромъ западно-европейскимъ. Такимъ образомъ предки наши были поставлены въ возможность зиамствовать цивилизацiю изъ того и изъ другаго мiра. Варяги положили начало гражданственности на Руси. Греки дали ей вѣру.
(стр. 95. Ib. c.)И такъ, вы видите, что наши предки умѣли только заимствовать (жени имитатифъ). Любопытно, какъ это Варяги положили начало нашей гражданственности! Извѣстно, что Новгородская земля въ древнѣйшихъ скандинавскихъ сагахъ называется гардарика, т. е. страна городовъ. Неужели не было гражданственности въ той странѣ, гдѣ издревле такъ повелось, что «на чемъ старшiе сдумаютъ, на томъ и пригороды станутъ»? а вѣдь это повелось не въ одной Новгородской землѣ, а было общимъ правиломъ всей Русской земли. И вовсе не гражданственности требовалось, а наряда, котораго не было въ землѣ, какъ сказали послы Славянъ, Води и Чуди и другихъ тремъ братьямъ – князьямъ; они хотѣли установленiя внѣшней правды, по прекрасному выраженiю К. С. Аксакова; государственности. Государству они и уступали судъ и войну, да и то не совсѣмъ, потому именно, что внѣшнiй нарядъ имъ требовался.
Равно не Греки дали намъ вѣру, а мы приняли ее отъ нихъ и приняли сознательно. Вѣдь представлялся выборъ, и князь не самъ рѣшился на это дѣло, а сдумавъ съ градскими старцами.
Истинно-образованный публицистъ дѣлаетъ впрочемъ небольшую уступку, именно – въ пользу нѣкоторой самодѣятельности новгородскаго народа, но ужь конечно эта самодѣятельность у него является слѣдствiемъ заморской закваски.
Будто ужь другiя части русской земли и не вырабатывали ничего? Укажемъ на Русь, т. е. на Приднѣпровье. Развѣ тамъ не вырабатывалась идея земскаго князя ([1]); развѣ тамъ не было яркаго представителя этой идеи, Владимiра Мономаха; развѣ Кiевляне не предпочитали Мономаховичей другимъ князьямъ?
Но этого не полагается. Даже, по мнѣнiю почтеннаго автора, новгородское самостоятельное развитiе было подавлено «вслѣдствiе особенныхъ обстоятельствъ государства».
Будто только вслѣдствiе этого? Врядъ-ли. Причина была тà, что вящiе новгородскiе люди, бояре, захватили въ свои руки государственную власть, сдѣлались представителями внѣшней правды. Отсюда ихъ разладъ съ молодшими людьми; это истинная причина, почему Новгородъ не отстоялъ своей старины и земля св. Софiи ([2]).
О самодѣятельности Московскаго государства напр. также можно было-бы поговорить, но это завлекло-бы насъ далеко.
Возьмемъ другое время, когда Россiя, по мнѣнiю внутренняго обозрѣвателя «Современника», снова погибла-бы безъ заморской закваски.
По его мнѣнiю Москва, вслѣдствiе несовершенства своего военнаго дѣла, сдѣлалась-бы добычею иностранцовъ и Петръ понялъ необходимость «немедленнаго образованiя регулярной армiи, флота, а вмѣстѣ съ тѣмъ немедленнаго тѣснѣйшаго сближенiя съ иностранцами. Москва съ ужасомъ взглянула на эти замыслы Петра, и онъ долженъ былъ выбрать другое мѣсто для осуществленiя своихъ плановъ».
Экая дикая эта Москва была! Отчего жъ она не испугалась при введенiи огнестрѣльнаго оружiя въ послѣднiй годъ княженiя Дмитрiя Донского? Отчего она не испугалась вызова разныхъ мастеровъ? Отчего въ смутное время ее съумѣла отстоять земля? И много можно-бы поставить такихъ отчего.
Въ томъ-то и дѣло, что, кромѣ всѣхъ вышеозначенныхъ сближенiй, въ Петровское время требовалось важнѣйшее изъ всѣхъ сближенiй, насущное и вѣчно необходимое: сближенiе государства съ земствомъ, прочное начало которому положено только въ нынѣшнее царствованiе.
И тѣмъ болѣе это тогда требовалось, что оно было уже нарушено, и сильно даже.
И выходитъ, что Москва испугалась не сближенiй, а разъединенiя. Разложенiя внутренняго она испугалась. Испугалась насмѣшекъ надъ ея святыней; испугалась требованiй мыслить такъ, а не иначе; испугалась того, что отнынѣ Россiя должна управляться по шведскому манеру, на томъ единственно основанiи, что до тѣхъ поръ по этому «манеру мы еще не управлялись».
А на сколько внѣшнее даже состоянiе при Петрѣ улучшилось можно узнать изъ нѣкотораго застольнаго разговора князя Якова Долгорукова съ Преобразователемъ – разговора, записаннаго у Татищева.
И вотъ съ такими-то теорiями, съ такими знанiями и высокомѣрiемъ хочетъ иностранно-теоретическiй мудрецъ Петербурга приступить къ сочиненiю годныхъ и негодныхъ теорiй для Россiи.
И какихъ теорiй онъ ни сочиняетъ! Всѣ-то хотятъ образовать и наставить на путь истинный Россiю. На что щедушная газета «Вѣсть», и она изобрѣла свою теорiю, и она съ грубостью, превосходящею всякое описанiе, относится къ русскому народу. Называя себя «органомъ землевладѣльцевъ», она исключаетъ изъ числа землевладѣльцевъ крестьянъ, и вдобавокъ стращаетъ своихъ новыхъ подписчиковъ, въ объявленiи о подпискѣ на 1865 г., что ея идеи (ровно ихъ идеями назвать можно) скоро восторжествуютъ въ нѣкоторыхъ высшихъ слояхъ петербуржскаго общества.
Просто страхъ беретъ за Русскую землю. Но страшенъ сонъ, да милостивъ Богъ.
III
Теперь мы могли-бы перейти къ вопросу: нѣтъ-ли однако признаковъ, что петербуржскiй журнализмъ начинаетъ сомнѣваться въ своемъ цивилизаторскомъ значенiи? Но прежде чѣмъ займемся имъ, прослѣдимъ самымъ бѣглымъ образомъ (ибо полное изложенiе этого потребовало-бы отдѣльной большой статьи): не предъявляла-ли Россiя правъ на свое самостоятельное развитiе послѣ преобразованiя?
Смѣло отвѣчаемъ: да, и во всѣхъ сферахъ гдѣ только можно было.
Не останавливаясь на самостоятельныхъ отвѣтахъ русскихъ людей по случаю созванной Екатериной II коммиссiи для составленiя новаго уложенiя, мы скажемъ нѣсколько подробнѣе о другихъ сферахъ, гдѣ это заявленiе было удобнѣе и результаты были обширнѣе и плодоноснѣе: такова сфера науки и искусства.
Какъ скоро обученiе перестало быть болѣе или менѣе принудительнымъ; какъ скоро кто самъ науку произойти захотѣлъ, – такъ и вышло дѣло заправское. Первый и величайшiй русскiй учоный былъ Ломоносовъ. И посмотрите, какъ онъ упорно самостоятеленъ: и въ жизненныхъ отношенiяхъ, и въ своихъ научныхъ изслѣдованiяхъ. Этой рабской стойки надъ послѣдней вышедшей книжкой у него не было. Онъ стремился къ самостоятельной дѣятельности; его отъ академiи отставить было нельзя, скорѣй академiю отъ него. И дѣйствительно, отъ него могла пойти самостоятельная русская наука, если-бы школьное образованiе не находилось тогда въ рабствѣ у нѣмецкихъ мастеровъ; если-бъ ему была дѣятельная поддержка со стороны образованнаго общества.
Какъ-бы жестоко ни смѣялись надъ нашими учоными, но безъ сомнѣнiя у насъ есть настоящiе учоные, которые ни въ чемъ не уступятъ иностраннымъ. У насъ принято смѣшивать оффицiально-признанныхъ жрецовъ науки съ настоящими учоными. У насъ есть и самостоятельно-работающiе математики, и натуралисты, и медики. Нельзя при этомъ не вспомнить о цѣломъ рядѣ талантливыхъ русскихъ химиковъ, способствовавшихъ развитiю этой науки.
Само собою разумѣется, что самые самостоятельные труды должны были появиться по изученiю русской исторiи и русскаго языка. И здѣсь оказаны нашими учоными незабвенныя заслуги. Они разъсѣяли тотъ туманъ, сквозь который мы смотрѣли на свою прошлую жизнь; бдагодаря ихъ усилiямъ, мы перестали отвергать допетровскiй перiодъ, который носилъ не совсѣмъ лестное названiе перiода квiетизма. Не забудемъ также объ оригинальныхъ трудахъ Хомякова и Кирѣевскаго по философiи; о многихъ статьяхъ славянофиловъ по финансамъ и политической экономiи, гдѣ вопросы разобраны съ совершенно оригинальной точки зрѣнiя.
О сферѣ искусства нечего и говорить. Страна, гдѣ есть такой поэтъ какъ Пушкинъ, не нуждается въ защитѣ своего искусства. Замѣтимъ только, что сфера искусства не только приблизила насъ къ пониманiю русской жизни, но во многомъ примирила насъ съ Западомъ. Западъ, – эта «страна святыхъ чудесъ», – сталъ понятенъ намъ, мы полюбили его, потому что узнали его прекрасное, лучшее что онъ создалъ. Искусство показало намъ, какъ каждый народъ самостоятеленъ; какъ самостоятельно выработывалъ онъ свои идеалы; какъ лелѣетъ онъ ихъ и любитъ. Искусство нагляднѣе и практичнѣе всего можетъ указать и разъяснить идею объ органическомъ въ народной жизни. Ясно стало, что только народное, коренное имѣетъ силу; что только то, чтò бьетъ изъ народной груди, бьетъ мощно и освѣжительно. Что безъ народа нѣтъ спасенiя, и нѣтъ ни государства, ни общества.
И вотъ отрицаютъ именно эту самостоятельность. Отрицаютъ самостоятельное развитiе даже въ чистоумственной сферѣ.
Имъ говорятъ: «что государство не апостолъ, не начальникъ доктрины, но судья, воинъ, блюститель порядка и внѣшняго благочинiя. Его эмблема – мечъ, его сфера – принужденiе, а не убѣжденiе; его призванiе – ограждать внутреннюю свободу развитiя отъ всякихъ на нее покушенiй извнѣ».
А на это отвѣчаютъ: «День» никакъ не догадывается, что государство и къ школамъ имѣетъ отношенiе въ качествѣ блюстителя порядка».
Какого порядка? Совмѣстимо-ли это слово со словомъ школа? Какой тутъ требуется порядокъ? Именно тотъ, который ограждаетъ наиболѣе свободу развитiя! И за тѣмъ, защищая свое положенiе, «Современникъ» всю вину сваливаетъ на учоные совѣты, т. е. на чиновниковъ завѣдующихъ обученiемъ. Это ужь уморительно! И такiе люди увѣряютъ, что они «ратуютъ за полную свободу обученiя». Полноте, пожалуйста. Вы сами-то знаете-ли за что вы ратуете? Мыслители!
Гдѣ-же возможна свобода безъ самостоятельности? Съ нравственными руководителями въ родѣ петербуржскихъ прогрессистовъ? О, просвѣщонный Паншинъ!
Говорятъ, что говорить о самостоятельности, когда ея нѣтъ, или когда она только урывками проявляется, – значитъ: дѣлать второй шагъ прежде перваго.
Первый шагъ – въ самосознанiи, а его-то и не достаетъ нашимъ теоретикамъ, любящимъ сочинять проэкты по иностраннымъ руководствамъ.
Мнѣ часто случается встрѣчать теперь одну маленькую (трехлѣтнюю) дѣвочку и играть съ ней. Между прочимъ она очень любитъ кормить меня разными сладостями. Спроситъ: «дядя, хочешь катèтъ»? (конфектъ). Я отвѣчаю: хочу. Тогда она беретъ со стола пустое мѣсто и кладетъ мнѣ въ руку, воображая, что даетъ мнѣ конфектъ, и непремѣнно требуетъ, чтобъ я ѣлъ, да еще похваливалъ. Такъ я и дѣлаю. Только что кончатся конфекты: «дядя, хочешь вàбоковъ» (яблоковъ)? – Хочу. Тотчасъ-же она опять беретъ пустое мѣсто и опять мнѣ даетъ его и опять требуетъ, чтобъ я ѣлъ, да похваливалъ. Мнѣ кажется точно ту-же роль разыгрываетъ и петербуржскiй литературно-журнальный прогрессъ относительно Россiи, сей богатой квашни и т. д. Петербуржскiй прогрессистъ тоже беретъ пустое мѣсто въ своемъ мозгу (свою досужую теорiю, систему, форму) и непремѣнно требуетъ, чтобъ мы это – ничего ѣли, да еще похваливали. Но на теоретической пищѣ не проживешь. Трехлѣтнiй умъ и даже трехлѣтняя-же невинность!
Но настало-ли для журнально-петербуржскаго прогресса хотя заря сознанiя, что онъ не состоятеленъ передъ Россiей? Объ этомъ поговоримъ въ другой статьѣ, гдѣ займемся разборомъ другой петербуржской статьи, выставленной въ заглавiи настоящей замѣтки. Кстати тогда скажемъ нѣсколько словъ и о томъ типѣ истаго петербуржца, который замѣтно нарождается и скоро начнетъ заявлять себя.
ДМ. АВЕРКIЕВЪ.(продолженiе будетъ)Примечания
1
Да понимаютъ-ли еще господа «Современникъ» что такое Земскiй князь? Не съ слѣпыми-ли приходится о цвѣтахъ говорить?
2
Подробнѣе объ этомъ мы поговоримъ при разборѣ прекраснаго сочиненiя И. Д. Бѣляева «Исторiя Новгорода Великаго». Сочиненiе это отличается необыкновенно конгенiальнымъ пониманiемъ «строя новгородской жизни» и отчотливымъ разъясненiемъ и изложенiемъ его.



