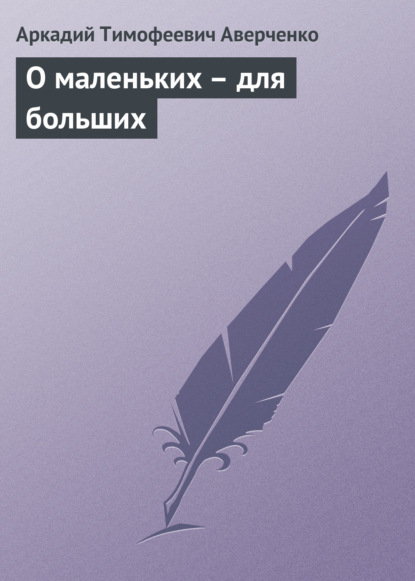 Полная версия
Полная версияПолная версия:
О маленьких – для больших
– Ну, заверните. А фигур нет?
– То есть скульптуры? Очень есть одна стоящая вещь: «Диана с луком».
– Садит, что ли?
– Чего?
– Лук-то.
– Никак нет. Стреляет. Замечательный предмет (хозяин сделал ударение на первом слоге) – настоящий, неподдельный гипс! Вещь – алебастровая!..
Когда меценат, закупив часть живописных и скульптурных сокровищ, довольный собой удалился, я сделал серьезное лицо и спросил:
– Скажите, фамилия этого нового покровителя искусств – не Косьма Медичис?
– Никак нет, совсем напротив: Степан Картохин. Они тут у портного в мастерах служат и огромадные деньги нынче вырабатывают: до восьмисот тысяч в месяц! Известно, девать некуда, вот они в валюту все перегоняют – вещи покупают. И опять же искусство любят.
И почувствовал я, что все мы, прежние, до ужаса устарели со всеми нашими Сомовыми, Добужинскими, Репиными, Обри, Бердслеями, Ропсами, Билибиными и Александрами Бенуа.
Шире дорогу! Новый Любим Торцов[3] идет!
Бумажки бьют из его карманов двумя фонтанами, и в одной руке у него сверкает всеми цветами радуги «Дюбек лимонный», в другой – «Покупайте калоши „Проводник“»!
Ars longa, vita brevis![4]
Люди – братья
Их было трое: бывший шулер, бывший артист императорских театров – знаменитый актер и третий – бывший полицейский пристав 2-го участка Александро-Невской части.
Сначала было так: бывший шулер сидел за столиком в ресторане на Приморском бульваре и ел жареную кефаль, а актер и пристав порознь бродили между публикой, занявшей все столы, и искали себе свободного местечка. Наконец бывший пристав не выдержал: подошел к бывшему шулеру и, вежливо поклонившись, спросил:
– Не разрешите ли подсесть к вашему столику? Верите, ни одного свободного места!
– Скажите! – сочувственно покачал головой бывший шулер. – Сделайте одолжение, садитесь! Буду очень рад. Только не заказывайте кефали – жестковата. – При этом бывший шулер вздохнул: – Эх, как у Донона жарили судачков обернуар!
Лицо бывшего пристава вдруг озарилось тихой радостью.
– Позвольте! Да вы разве петербуржец?!
– Я-то?.. Да вы знаете, мне даже ваше лицо знакомо. Если не ошибаюсь, вы однажды составляли на меня протокол по поводу какого-то недоразумения в Экономическом клубе?..
– Да Господи ж! Конечно! Знаете, я сейчас чуть не плачу от радости!.. Словно родного встретил. Да позвольте вас просто по-русски…
Знаменитый актер, бывший артист императорских театров, увидев, что два человека целуются, смело подошел и сказал:
– А не уделите ли вы мне местечка за вашим столом?
– Вам?! – радостно вскричал бывший шулер. – Да вам самое почтеннейшее место надо уступить. Здравствуйте, Василий Николаевич!
– Виноват!.. Почему вы меня знаете? Вы разве петербуржец?
– Да как же, Господи! И господин бывший пристав петербуржец из Александро-Невской части, и я перебуржец из Экономического клуба, и вы.
– Позвольте… Мне ваше лицо знакомо!!
– Еще бы! По клубу же! Вы меня еще – дело прошлое – били сломанной спинкой от стула за якобы накладку.
– Стойте! – восторженно крикнул пристав. – Да ведь я же по этому поводу и протокол составлял!!
– Ну конечно! Вы меня еще выслали из столицы на два года без права въезда! Чудесные времена были!
– Да ведь и я вас, господин пристав, припоминаю, – обрадовался актер. – Вы меня целую ночь в участке продержали!!
– А вы помните, за что? – засмеялся пристав.
– Черт его упомнит! Я, признаться, так часто попадал в участки, что все эти отдельные случаи слились в один яркий сверкающий круг.
– Вы тогда на пари разделись голым и полезли на памятник Александра Третьего на Знаменской площади.
– Господи! – простонал актер, схватившись за голову. – Слова-то какие: Александр Третий, Знаменская площадь, Экономический клуб… А позвольте вас, милые петербуржцы…
Все трое обнялись и, сверкая слезинками на покрасневших от волнения глазах, расцеловались.
– О, Боже, Боже, – свесил голову на грудь бывший шулер, – какие воспоминания!.. Сколько было тогда веселой, чисто столичной суматохи, когда вы меня били… Где-то теперь спинка от стула, которой вы… А, чай, теперь от тех стульев и помина не осталось?
– Да, – вздохнул бывший пристав. – Все растащили, все погубили, мерзавцы… А мой участок, помните?
– Это второй-то? – усмехнулся актер. – Как отчий дом помню: восемнадцать ступенек в два марша, длинный коридор, налево ваш кабинет. Портрет государя висел. Ведь вот было такое время: вы – полицейский пристав, я – голый, пьяный актер, снятый с царского памятника, а ведь мы уважали друг друга. Вы ко мне вежливо, с объяснением… Помню, папироску мне предложили и искренне огорчились, что я слабых не курю…
– Помните шулера Афонькина? – спросил бывший шулер.
– Очень хороший был человек.
– Помню, как же. Замечательный. Я ведь и его бил тоже.
– Пресимпатичная личность. В карты, бывало, не садись играть – зверь, а вне карт – он тебе и особенный салат-омар состряпает, и «Сильву» на рояли изобразит, и наизусть лермонтовского «Демона» продекламирует.
– Помню, – кивнул головой пристав. – Я и его высылал. Его в Приказчичьем сильно тогда подсвечниками обработали.
– Милые подсвечники, – прошептал лирически актер, – где-то вы теперь?.. Разворовали вас новые вандалы! Ведь вот времена были: и электричество горело, а около играющих всегда подсвечники ставили.
– Традиция, – задумчиво сказал бывший шулер, разглаживая шрам на лбу. – А позвольте, дорогие друзья, почествовать вас бутылочкой «Абрашки»…
Радостные пили «Абрау». Пожимали друг другу руки и любовно, без слов, смотрели друг другу в глаза.
Перед закрытием ресторана бывший шулер с бывшим приставом выпили на «ты».
Они лежали друг у друга в объятиях и плакали, а знаменитый актер простирал над ними руки и утешал:
– Петербуржцы! Не плачьте! И для нас когда-нибудь небо будет в алмазах! И мы вернемся на свои места!.. Ибо все мы, вместе взятые, – тот ансамбль, без которого немыслима живая жизнь!!
Володька
Завтракая у одного приятеля, я обратил внимание на мальчишку лет одиннадцати, прислонившегося у притолоки с самым беззаботным видом и следившего за нашей беседой не только оживленными глазами, но и обоими на диво оттопыренными ушами.
– Что это за фрукт? – осведомился я.
– Это? Это мой камердинер, секретарь, конфидент и наперсник. Имя ему Володька. Ты чего тут торчишь?
– Да я уже все поделал.
– Ну, черт с тобой. Стой себе. Да, так на чем я остановился?
– Вы остановились на том, что между здешним курсом валюты и константинопольским – ощутительная разница, – подсказал Володька, почесывая одной босой ногой другую.
– Послушай! Когда ты перестанешь ввязываться в чужие разговоры?!
Володька вздернул кверху и без того вздернутый, усыпанный крупными веснушками нос и мечтательно отвечал:
– Каркнул ворон: «Никогда!»
– Ого! – рассмеялся я. – Мы даже Эдгара По знаем… А ну дальше.
Володька задумчиво взглянул на меня и продолжал:
Адский дух или тварь земная, произнес я, замирая, —Ты – пророк! И раз уж Дьявол или вихрей буйный спорЗанесли тебя, крылатый, в дом мой, ужасом объятый,В этот дом, куда проклятый Рок обрушил свой топор,Говорит: пройдет ли рана, что нанес его топор?Каркнул Ворон: «Never more».– Оч-чень хорошо, – подзадорил я. – А дальше?
– Дальше? – удивился Володька. – Да дальше ничего нет.
– Как нет? А это:
Если так, то вон, Нечистый!В царство ночи вновь умчись ты!– Это вы мне говорите? – деловито спросил Володька. – Чтоб я ушел?
– Зачем тебе. Это дальше По говорил ворону.
– Дальше ничего нет, – упрямо повторил Володька.
– Он у меня и историю знает, – сказал с своеобразной гордостью приятель.
– Ахни-ка, Володька!
Володька был мальчик покладистый. Не заставляя упрашивать, он поднял кверху носишко и сказал:
– …Способствовал тому, что мало-помалу она стала ученицей Монтескье, Вольтера и энциклопедистов. Рождение великого князя Павла Петровича имело большое значение для всего двора…
– Постой; постой! Почему ты с середки начинаешь? Что значит «способствовал»? Кто способствовал?
– Я не знаю кто. Там выше ничего нет.
– Какой странный мальчик, – удивился я. – Еще какие-нибудь науки знаешь?
– Знаю. Гипертрофия правого желудочка развивается при ненормально повышенных сопротивлениях в малом кругу кровообращения: при эмфиземе, при сращивающих плеврите и пневмонии, при ателектазе, при кифосколиозе…
– Черт знает что такое! – даже закачался я на стуле, ошеломленный.
– Н-да-с, – усмехнулся мой приятель, – но эта материя суховатая. Ахни, Володька, что-нибудь из Шелли:
– Это которое на обороте «Восточные облака»?
– Во-во.
И Володька начал, ритмично покачиваясь:
Нам были так сладко желанны они,Мы ждали еще, о, еще упоеньяВ минувшие дни.Нам грустно, нам больно, когда вспоминаемМинувшие дни.И как мы над трупом ребенка рыдаем,И муке сказать не умеем: «Усни».Так в скорбную мы красоту обращаем —Минувшие…Я не мог выдержать больше. Я вскочил.
– Черт вас подери – почему вы меня дурачите этим вундеркиндом! В чем дело, объясните просто и честно?!
– В чем дело? – хладнокровно усмехнулся приятель. – Дело в той рыбке, в той скумбрии, от которой вы оставили хвост и голову. Не правда ли, вкусная рыбка? А дело простое. Оберточной бумаги сейчас нет, и рыбник скупает у букиниста старые книги, учебники – издания иногда огромной ценности. И букинист отдает, потому что на завертку платят дороже. И каждый день Володька приносит мне рыбу или в обрывке Шелли, или в «Истории государства Российского», или в листке атласа клинических методов исследования. А память у него здоровая… Так и пополняет Володька свои скудные познания. Володька! Что сегодня было?
Но Кочубей богат и гордНе златом, данью крымских орд,Не родовыми хуторами. Прекрасной дочерью своейГордится старый Кочубей!.. И то сказать…Дальше оторвано.
– Так-с. Это, значит, Пушкин пошел в оборот.
У меня больно-пребольно сжалось сердце, а приятель, беззаботно хохоча, хлопал Володьку по плечу и говорил:
– А знаешь, Володиссимус, скумбрия в «Докторе Паскале» Золя была гораздо нежнее, чем в пушкинской «Полтаве»!
– То не в Золя была, – деловито возразил Володька. – То была скумбрия в этом, где артерия сосудистого сплетения мозга отходит вслед за предыдущей. Самая замечательная рыба попалась!
Никто тогда этому не удивился: ни приятель мой, ни я, ни Володька…
Может быть, удивлен будет читатель? Его дело.
Разговор в школе
Посвящаю Ариадне Румановой
Нельзя сказать чтобы это были два враждующих лагеря. Нет – это были просто два противоположных лагеря. Два непонимающих друг друга лагеря. Два снисходительно относящихся друг к другу лагеря.
Один лагерь заключался в высокой бледной учительнице «школы для мальчиков и девочек», другой лагерь был числом побольше. Раскинулся он двумя десятками стриженых или украшенных скудными косичками головок, склоненных над ветхими партами… Все головы, как единообразно вывихнутые, скривились на левую сторону, все языки были прикушены маленькими мышиными зубенками, а у Рюхина Андрея от излишка внимания даже тонкая нитка слюны из угла рта выползла.
Скрип грифелей, запах полувысохших чернил и вздохи, вздохи – то облегчения, то натуги и напряжения – вот чем наполнялась большая полутемная комната.
А за открытым окном, вызолоченные до половины солнцем, качаются старые акации, а какая-то задорная суетливая пичуга раскричалась в зелени так, что за нее делается страшно – вдруг разрыв сердца! А издали, с реки, доносятся крики купающихся мальчишек, а лучи солнца, ласковые, теплые, как рука матери, проводящая по головенке своего любимца, лучи солнца льются с синего неба. Хорошо, черт возьми! Завизжать бы что-нибудь, захрюкать и камнем вылететь из пыльной комнаты тихого училища – побежать по сонной от зноя улице, выделывая ногами самые неожиданные курбеты.
Но нельзя. Нужно учиться.
Неожиданно среди общей творческой работы Кругликову Капитону приходит в голову сокрушительный вопрос:
«А зачем, в сущности, учиться? Действительно ли это нужно?»
Кругликов Капитон – человек смелый и за словом в карман не лезет.
– А зачем мы учимся? – спрашивает он, в упор глядя на прохаживающуюся по классу учительницу.
Глаза его округлились, выпуклились, отчасти от любопытства, отчасти от ужаса, что он осмелился задать такой жуткий вопрос.
– Чудак, ей-богу, ты человек, – усмехается учительница, проводя мягкой ладонью по его голове против шерсти. – Как зачем? Чтобы быть умными, образованными, чтобы отдавать себе отчет в окружающем.
– А если не учиться?
– Тогда и культуры никакой не будет.
– Это какой еще культуры?
– Ну… так тебе трудно сказать. Я лучше всего объясню на примере. Если бы кто-нибудь из вас был в Нью-Йорке…
– Я была, – раздается тонкий писк у самой стены.
Все изумленно оборачиваются на эту отважную путешественницу. Что такое? Откуда?
Очевидно, в школах водится особый школьный бесенок, который вертится между партами, толкает под руку и выкидывает, вообще, всякие кренделя, которые потом сваливает на ни в чем не повинных учеников… Очевидно, это он дернул Наталью Пашкову за жиденькую косичку, подтолкнул в бок, шепнул: «Скажи, что была, скажи!»
Она и сказала.
– Стыдно врать, Наталья Пашкова. Ну когда ты была в Нью-Йорке? С кем?
Наталья рада бы сквозь землю провалиться: действительно – черт ее дернул сказать это, но слово, что воробей: вылетит – не поймаешь.
– Была… ей-богу, была… Позавчера… с папой. Ложь, сплошная ложь: и папы у нее нет, и позавчера она была, как и сегодня, в школе, и до Нью-Йорка три недели езды.
Наталья Пашкова легко, без усилий, разоблачается всем классом и, плачущая, растерянная, окруженная общим молчаливым презрением, – погружается в ничтожество.
– Так вот, дети, если бы кто-нибудь из вас был бы в Нью-Йорке, он бы увидел огромные многоэтажные дома, сотни несущихся вагонов трамвая, электричество, подъемные машины, и все это – благодаря культуре. Благодаря тому, что пришли образованные люди. А знаете, сколько лет этому городу? Лет сто – полтораста – не больше!!
– А что было раньше там? – спросил Рюхин Андрей, выгибая натруженную работой спину так, что она громко затрещала: будто орехи кто-нибудь просыпал.
– Раньше? А вот вы сравните, что было раньше: раньше был непроходимый лес, перепутанный лианами. В лесу – разное дикое зверье, пантеры, волки; лес переходил в дикие луга, по которым бродили огромные олени, бизоны, дикие лошади… А кроме того, в лесах и на лугах бродили индейцы, которые были страшнее диких зверей – убивали друг друга и белых и снимали с них скальп. Вот вы теперь и сравните, что лучше: дикие поля и леса со зверьем, индейцами, без домов и электричества или – широкие улицы, трамваи, электричество и полное отсутствие диких индейцев?!
Учительница одним духом выпалила эту тираду и победоносно оглядела всю свою команду: что, мол, съели?
– Вот видите, господа… И разберите сами: что лучше – культура или такое житье? Ну, вот ты, Кругликов Капитон… Скажи ты: когда, значит, лучше жилось – тогда или теперь?
Кругликов Капитон встал и, после минутного колебания, пробубнил, как майский жук:
– Тогда лучже.
– Что?! Да ты сам посуди, чудак: раньше было плохо, никаких удобств, всюду звери, индейцы, а теперь дома, трамваи, подъемные машины… Ну? Когда же лучше – тогда или теперь?
– Тогда.
– Ах ты Господи… Ну вот ты, Полторацкий, – скажи ты: когда было лучше – раньше или теперь?
Полторацкий недоверчиво, исподлобья глянул на учительницу (а вдруг единицу вкатит) и уверенно сказал:
– Раньше лучше было.
– О Бог мой!! Слизняков, Гавриил!
– Лучше было. Раньшее.
– Прежде всего – не ранышее, а раньше. Да что вы, господа, – затмение у вас в голове, что ли? Тут вам и дома, и электричество…
– А на что дома? – цинично спросил толстый Фитюков.
– Как на что? А где же спать?
– А у костра? Завернулся в одеяло и спи сколько влезет. Или в повозку залезь! Повозки такие были. А то подумаешь: дома!
И он поглядел на учительницу не менее победоносно, чем до этого смотрела она.
– Но ведь электричества нет, темно, страшно… Семен Заволдаев снисходительно поглядел на разгорячившуюся учительницу…
– Темно? А костер вам на что? Лесу много – жги сколько влезет. А днем и так себе светло.
– А вдруг зверь подберется.
– Часового с ружьем нужно выставлять, вот и не подберется. Дело известное.
– А индейцы подберутся сзади, схватят часового да на вас…
– С индейцами можно подружиться. Есть хорошие племена, приличные…
– Делаварское племя есть, – поддержал кто-то сзади. – Они белых любят. В крайнем случае можно на мустанге ускакать.
Стриженые головы сдвинулись ближе, будто чем-то объединенные, – и голоса затрещали, как сотня воробьев на ветках акации.
– А у городе у вашем одного швейцара на лифте раздавило… Вот вам и город.
– А у городе мальчик недавно под трамвай попал!
– Да просто у городе у вашем скучно – вот и все, – отрубил Слизняков Гавриил.
– Скверные вы мальчишки – просто вам не приходилось быть в лесу среди диких зверей – вот и все.
– А я была, – пискнула Наталья Пашкова, которую не оставлял в покое школьный бес.
– Врет она, – загудели ревнивые голоса. – Что ты все врешь да врешь. Ну, если ты была – почему тебя звери не съели, ну, говори!
– Станут они всякую заваль лопать, – язвительно пробормотал Кругликов Капитон.
– Кругликов!
– А чего же она… Вы же сами говорили, что врать – грех. Врет, ей-богу, все время.
– Не врать, а лгать. Однако послушайте: вы, очевидно, меня не поняли… Ну как же можно говорить, что раньше было лучше, когда теперь есть и хлеб, и масло, и сахар, и пирожное, а раньше этого ничего не было.
– Пирожное!!
Удар был очень силен и меток, но Кругликов Капитон быстро от него оправился:
– А плоды разные: финики, бананы – вы не считаете?! И покупать не нужно – ешь сколько влезет. Хлебное дерево тоже есть – сами же говорили… сахарный тростник. Убил себе бизона, навялил мяса и гуляй себе, как барин.
– Речки там тоже есть, – поддержал сбоку опытный рыболов. – Загни булавку да лови рыбу сколько твоей душеньке угодно.
Учительница прижимала обе руки к груди, бегала от одного к другому, кричала, волновалась, описывала все прелести городской безопасной жизни, но все ее слова отбрасывались упруго и ловко, как мячик. Оба лагеря совершенно не понимали друг друга. Культура явно трещала по всем швам, энергично осажденная, атакованная индейцами, кострами, пантерами и баобабами…
– Просто вы все скверные мальчишки, – пробормотала уничтоженная учительница, лишний раз щегольнув нелогичностью, столь свойственной ее слабому полу. – Просто вам нравятся дикие игры, стреляние из ружья – вот и все. Вот мы спросим девочек… Клавдия Кошкина – что ты нам скажешь? Когда лучше было – тогда или теперь?
Ответ был ударом грома при ясном небе.
– Тогда, – качнув огрызком косички, сказала веснушчатая, бледнолицая Кошкина.
– Ну почему? Ну, скажи ты мне – почему, почему?..
– Травка тогда была… я ллюблю… Цветы были.
И обернулась к Кругликову – признанному специалисту по дикой, первобытной жизни:
– Цветы-то были?
– Сколько влезет было цветов, – оживился специалист, – огромадные были – тропические. Здоровенные, пахнут тебе – рви сколько влезет.
– А в городе черта пухлого найдешь ты цветы. Паршивенькая роза рубль стоит.
Посрамленная, уничтоженная учительница заметалась в последнем предсмертном усилии:
– Ну, вот пусть нам Катя Иваненко скажет… Катя! Когда было лучше?
– Тогда.
– Почему?!!
– Бизончики были, – нежно проворковала крохотная девочка, умильно склонив светлую головенку набок.
– Какие бизончики?.. Да ты их когда-нибудь видела?
– Скажи – видела! – шепнула подталкиваемая бесом Пашкова.
– Я их не видела, – призналась простодушная Катя Иваненко. – А только они, наверное, хорошенькие… – И, совсем закрыв глаза, простонала: – Бизончики такие… Мохнатенькие, с мордочками. Я бы его на руки взяла и в мордочку поцеловала…
Кругликов – специалист по дикой жизни – дипломатически промолчал насчет неосуществимости такого буколического намерения сентиментальной Иваненко, а учительница нахмурила брови и сказала срывающимся голосом:
– Ну хорошо же! Если вы такие – не желаю с вами разговаривать. Кончайте решение задачи, а кто не решит – пусть тут сидит хоть до вечера.
И снова наступила тишина.
И все решили задачу, кроме бедной, чистой сердцем Катерины Иваненко: бизон все время стоял между ее глазами и грифельной доской…
Сидела маленькая до сумерок.
Деловая жизнь
Ознакомившись с городом, я решил заняться делами. Узнав, что все деловые люди собираются в специальном кафе на Пере, я пошел туда, потребовал чашку кофе и уселся выжидательно за столик – не наклюнется ли какое дельце.
На ловца, как говорится, и зверь бежит. Ко мне подсел неизвестный господин, потрепал меня по плечу и сказал:
– Здравствуйте, господин писатель! Не узнаете меня?
– Как не узнаю, – с вялой вежливостью возразил я. – Очень даже хорошо узнаю. Как поживаете?
– Дела разные ломаю. А вы?
– Я тоже думаю каким-нибудь делом заняться.
– Лиры есть?
– Немножко есть, – хлопнул я себя по карману. Лицо моего собеседника выразило напряженное внимание.
– Гм… Что мне для вас придумать?.. Гм… Есть у меня одно дельце, да. Впрочем, поделюсь с вами. Скажите, вы знаете, сколько весит баран?
– Какой баран? – удивился я.
– Обыкновенный. Знаете, сколько он весит?
– А черт его знает! Я до сих пор писал рассказы, а не взвешивал баранов.
– Как же вы не знаете веса барана! – с упреком сказал незнакомец.
– Не приходилось. Впрочем, если нужно, я как-нибудь на днях, когда будет свободное время…
– Ну так знайте же, что средний баран весит три пуда.
Я изобразил на своем лице напряженное удовольствие.
– Смотрите-ка, кто бы мог подозревать!
– Да, да. Три пуда. А вы знаете, сколько стоит фунт баранины? Пятьдесят пиастров!
– Да, вообще сейчас жизнь очень запуталась, – неопределенно заметил я.
– Ну, для умного человека жизнь проста, как палец. Итак, продолжаю. А знаете ли вы, сколько стоит целый баран в Кады-Кее? Десять лир. Итак, вот вам дело: вы даете двадцать лир и я двадцать лир. Я покупаю двух овец, режу их…
– Не надо их резать, – сентиментально заметил я, – они такие хорошенькие.
– А как же иначе мы их на мясо продадим? Я их сам зарежу, не бойтесь. Итак, на ваши двадцать лир вы будете иметь шесть пудов овечьего мяса. По розничной цене – шестьдесят лир. Да шкура в вашу пользу, да рога.
Хотя я до сих пор рогатых овец не встречал, но это, очевидно, была местная порода.
Я кивнул головой с видом знатока:
– Очень хорошее дельце. А когда прикажете внести деньги?
– Да хоть сейчас: чем скорей, так лучше. Сколько тут у вас? Ровно двадцать? Ну вот и спасибо. Завтра утром бараны будут уже у нас. Хотите, я приведу их к вам показать?
– Не знаю, удобно ли это. Вдруг ни с того, ни с сего бараны заходят на квартиру… Да еще моя хозяйка против этих посторонних визитов… Нет, лучше их просто зарежьте. Только не мучьте. Хорошо?
Мой новый компаньон заверил, что смерть этих невинных созданий будет совершенно безболезненна и легка, как сон, и, пожав мне руку, умчался с озабоченным лицом.
С тех пор прошло восемь дней. Пока я не вижу ни моего компаньона, ни баранов, ни прибыли.
Очевидно, с компаньоном что-нибудь случилось.
Иногда по ночам меня мучит совесть: прав ли я был, поручив этому слабосильному человеку опасную процедуру умерщвления баранов? А что, если они по дороге сбежали от него? А что, если перед смертью они вступили с ним в борьбу и, разъяренные предстоящей участью, растерзали моего бедного компаньона?
Вчера со мной произошел удивительный случай: иду по улице, вдруг вижу – мой компаньон навстречу.
Я радостно кинулся к нему:
– Здравствуйте, голубчик! Ну, что слышно с баранами?
Он удивленно взглянул на меня:
– Какие бараны? Простите, я вас совершенно не знаю.
– Ка-а-ак?.. Да ведь мы же вместе хотели зарабатывать на баранах!
– Простите, я вас в первый раз вижу. Я иногда зарабатываю на баранах, но зарабатываю один.
И, отстранив меня, он пошел дальше.
«Однако какое удивительное сходство!.. – бормотал я себе под нос, провожая его взглядом. – То же лицо, тот же голос и даже на баранах зарабатывает, как и тот!»
Много тайн хранит в себе чарующий, загадочный Восток!
Русское искусство



