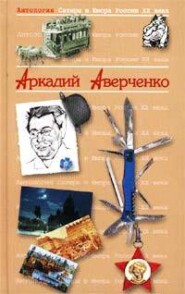 Полная версия
Полная версияКороль смеха
Явление 6
Ард. В экипажах и пешком.
А, княжна Мэри.
Ард. Этого несчастья.
Спасибо, я вам очень обязан.
Ард. Его нужно пить.
Это вы так о ней выражаетесь…
Ард. Капризам.
В таком случае я способен переступить все границы.
Гриб. Две чечетки.
Надо быть во фраке.
Кто эти «Ард.» и «Гриб.»? Родственники мои, враги, старые камердинеры или светские молодые люди?..
Я швырнул роль на стол и, хотя было уже поздно, побежал к одному своему другу, который отличался тем, что все знал. Это был человек, у которого слово «нет» отсутствовало в лексиконе.
– Ты знаешь, что нужно, чтобы играть на сцене?
– Знаю.
– Что же? Скажи, голубчик!
– Только нахальство! Если ты вооружишься невероятной, нечеловеческой наглостью, то все сойдет с рук. Даже, пожалуй, похлопают.
– По ком? – боязливо спросил я.
– До тебя не достанут. Ладошами похлопают. Но только помни: нахальство, нахальство и еще раз оно же.
Ушел я успокоенный. На репетиции я заметил, что героем дня был суфлер. К нему все относились с тихим обожанием. Простак даже шепнул мне:
– Ах, как подает! Чудо!
Я удивленно посмотрел на суфлера: он ничего никому не подавал, просто читал по тетради. Однако мне не хотелось уронить себя:
– Это что за подача! Вот мне в Рязани подавали – так с ума сойти можно!
Я совсем не знал роли, но с некоторым облегчением заметил, что вся труппа в этом отношении шла со мной нога в ногу.
Актер, игравший старого графа, прислушался к словам суфлера и после монолога о том, что его сын проиграл десять тысяч, вдруг кокетливо добавил:
– Ах, я ни за что не выйду замуж!
– Это не ваши слова, – сонно заметил суфлер. – Дочка, вы говорите: «Ах, я ни за что не выйду замуж».
Дочка рабски повторила это тяжелое решение.
В путанице и неразберихе я был не особенно заметен, как незаметен обломок спички в куче старых окурков.
* * *– Побольше нахальства! – сказал я сам себе, когда парикмахер спросил, какой мне нужен парик.
– Видите ли… Я вам сейчас объясню… Представьте себе человека избалованного, легкомысленного, но у которого случаются минуты задумчивости и недовольства собой, минуты, когда человек будто поднимается и парит сам над собой, уносясь в те небесные глубины…
– Понимаю-с, – сказал парикмахер, тряхнув волосами, – блондинистый городской паричок.
– А? Во-во! Только чтоб он на глаза не съехал.
– Помилуйте! А лак на что? Да и вошьем.
– Побольше нахальства! – сказал я сам себе, усаживаясь в вечер спектакля перед зеркалом гримироваться.
Увы!.. Нахальства было много, а красок еще больше. И куда, на какое место какая краска – я совершенно не постигал.
Вздохнул, мужественно нарисовал себе огромные брови, нарумянил щеки – задумался.
Вся гримировальная задача для новичка состоит только в том, чтобы сделаться на себя непохожим.
«Эх! Приклеить бы седую бороду – вот бы ловко! Пойди-ка тогда, узнай. Но раз по смыслу роли нельзя бороды – ограничимся усами».
Усы очень мило выделялись на багровом фоне щек.
* * *В первом акте я должен выбежать из боковых дверей в белом теннисном костюме. Перед выходом мне сунули в руку какую-то плетеную штуку вроде выбивалки для ковров, но я решил, что эта подробность только стеснит мои первые шаги, и бросил плетенку за кулисами.
– А вот и я! – весело вскричал я, выскочив на что-то ослепительно яркое, с огромной зияющей дырой впереди.
– А, здравствуйте, – пропищала инженю. – Слушайте, тут пчела летает, я бою-юсь. Дайте вашу ракетку – я ее убью!..
Я добросовестно, как это делалось на репетициях, протянул ей пустую руку.
Она, видимо, растерялась.
– Позвольте… А где же ракетка?
– Какая ракетка? (Побольше наглости! Как можно больше нахальства!) Ракетка? А я, знаете, нынче именинник, так я ее зажег. Здорово взлетела. Ну как поживаете?
– Сошло! – пробормотал я, после краткого диалога вылетая за кулисы. – До седьмого явления можно и закурить.
* * *– Вам выходить! – прошипел помощник режиссера.
– Знаю, не учите, – солидно возразил я, поглаживая рукой непривычные усы.
И вдруг… сердце мое похолодело: один плохо приклеенный ус так и остался между моими пальцами.
– Вам выходить!!!
Я быстро сорвал другой ус, зажал его в кулак и выскочил на сцену.
Первые мои слова должны быть такие:
– Граф отказал, мамаша.
Я решил видоизменить эту фразу:
– А я, мамаша, уже успел побриться. Идет? Не правда ли, моложе стал?
Усы в кулаке стесняли меня. Я положил их на стол и сказал:
– Это вам на память. Вделайте в медальон. Пусть это утешит вас в том, что граф отказал.
– Он осмелился?! – охнула мать моя, смахнув незаметно мой подарок на пол. – Где же совесть после этого?
Сошла и эта сцена. Я в душе поблагодарил своего всезнающего друга.
* * *В третьем акте мои первые слова были:
– Он сейчас идет сюда.
После этого должен был войти старый граф, но в стройном театральном механизме что-то испортилось.
Граф не шел.
Как я после узнал, он в этот момент был занят тем, что жена била его в уборной зонтиком за какую-то обнаруженную интрижку с театральной портнихой.
– Он сейчас придет, мамаша, не волнуйтесь, – сказал я, покойно усаживаясь в кресло.
Мы подождали. На сцене секунды кажутся десятками минут.
– Он, уверяю вас, придет сейчас! – заорал я во все горло, желая дать знать за кулисы о беспорядке.
Граф не шел.
– Что это, мамаша, вы взволнованы? – спросил я заботливо. – Я вам принесу сейчас воды. – Вылетел за кулисы и зашипел: – Где граф, черт его дери?!!
– Ради бога, – подскочил помощник, – протяните еще минутку: он приклеивает оторванную бороду.
Я пожал плечами и вернулся.
– Нет воды, – грубо сказал я. – Ну и водопроводец наш!
Мы еще посидели…
– Мамаша! – нерешительно сказал я. – Есть ли у вас присутствие духа? Я вам хочу сообщить нечто ужасное…
Она удивленно и растерянно поглядела на меня.
– Дело в том, что когда я вышел за водой, то мимоходом узнал ужасную новость, мамаша. Автомобиль графа по дороге наскочил на трамвай, и графа принесли в переднюю с проломленной головой и переломанными ногами… Кончается!
Я уже махнул рукой на появление графа и только решил как-нибудь протянуть до тех пор, пока кто-нибудь догадается спустить занавес.
Мы помолчали.
– Да… – неопределенно протянул я. – Жизнь не ждет. Вообще, эти трамваи… Вот я вам сейчас расскажу историю, как у меня в трамвае вытянули часы. История длинная… так минут на десять, на пятнадцать, но ничего. Надо вам сказать, мамаша, что есть у меня один приятель – Васька. Живет он на Рождественской. С сестрой. Сестра у него красавица, пышная такая – еще за нее сватался Григорьев, тот самый, который…
– Вы меня звали, Анна Никаноровна? – вдруг вошел изуродованный мною граф, с достоинством останавливаясь в дверях.
– А, граф, – вскочил я. – Ну как ваше здоровье? Как голова?
– Вы меня звали, Анна Никаноровна? – строго повторил граф, игнорируя меня.
– Я рад, что вы дешево отделались, – с удовольствием заметил я.
Он поглядел на меня, как на сумасшедшего, заморгал и вдруг сказал:
– Простите, Анна Никаноровна, но я должен сказать вашему сыну два слова.
Он вытащил меня за кулисы и сказал:
– Вы что?! Идиот или помешанный? Почему вы говорите слова, которых нет в пьесе?
– Потому что надо выходить вовремя. Я вас чуть не похоронил, а вы лезете. Хоть бы голову догадались тряпкой завязать.
– Выходите! – прорычал режиссер.
* * *Могу с гордостью сказать, что в этот дебютный день я покорил всех своей находчивостью.
В четвертом акте, где героиня на моих глазах стреляется, она сунула руку в ящик стола и… не нашла револьвера.
Она опустила голову на руки, и когда я подошел к ней утешить ее, она прошептала:
– Нет револьвера: что делать?
– Умрите от разрыва сердца. Я вам сейчас что-то сообщу. – Я отошел от нее, схватился за голову и простонал: – Лидия! Будьте мужественны! Я колебался, но теперь решил сказать все. Знайте же, что ваша мать зарезала вашу сестренку и отравилась сама.
– Ах! – вскрикнула Лидия и, мертвая, шлепнулась на пол.
* * *Нас вызывали.
Я же того мнения, что если мы и заслужили вызова, то не перед занавесом, а в камере судьи – за издевательство над беззащитной публикой.
Белая ворона
(из сборника «Рассказы циника»)
Он занимался кристаллографией. Ни до него, ни после него я не видел ни одного живого человека, который бы занимался кристаллографией. Поэтому мне трудно судить – имелась ли какая-нибудь внутренняя связь между свойствами его характера и кристаллографией, или свойства эти не находились под влиянием избранной им профессии.
Он был плечистый молодой человек с белокурыми волосами, розовыми полными губами и такими ясными прозрачными глазами, что в них даже неловко было заглядывать: будто подсматриваешь в открытые окна чужой квартиры, в которой все жизненные эмоции происходят при полном освещении.
Его можно было расспрашивать о чем угодно – он не имел ни тайн, ни темных пятен в своей жизни, пятен, которые, как леопардовая шкура, украшают все грешное человечество.
Я считаю его дураком, и поэтому все наше знакомство произошло по-дурацки: сидел я однажды вечером в своей комнате (квартира состояла из ряда комнат, сдаваемых плутоватым хозяином), сидел мирно, занимался, вдруг слышу за стеной топот ног, какие-то крики, рев и стоны…
Я почувствовал, что за стеной происходит что-то ужасное. Сердце мое дрогнуло, я вскочил, выбежал из комнаты и распахнул соседнюю дверь.
Посредине комнаты стоял плечистый молодец, задрапированный красным одеялом, с диванной подушкой, нахлобученной на голову, и топал ногами, издавая ревущие звуки, приплясывая и изгибаясь самым странным образом.
При стуке отворенной двери он обернулся ко мне и, сделав таинственное лицо, предостерег:
– Не подходите близко. Оно ко мне привыкло, а вас может испугаться. Оно всю дорогу плакало, а теперь утихло… – И добавил с гордой самонадеянностью: – Это потому, что я нашел верное средство, как его развлечь. Оно смотрит и молчит.
– Кто «оно»? – испуганно спросил я.
– Оно, ребенок. Я нашел его на улице и притащил домой.
Действительно, на диване, обложенное подушками, лежало крохотное существо и большими остановившимися глазами разглядывало своего увеселителя…
– Что за вздор? Где вы его нашли? Почему вы обыкновенного человеческого ребенка называете «оно»?!
– А я не знаю еще – мальчик оно или девочка. А нашел я его тут в переулке, где ни одной живой души. Орало оно, будто его режут. Я и взял.
– Так вы бы его лучше в полицейский участок доставили.
– Ну вот! Что он, убил кого, что ли? Прехорошенький ребеночек! А? Вы не находите?
Он с беспокойством любящего отца посмотрел на меня.
В это время ребенок открыл рот и во всю мочь легких заорал.
Его покровитель снова затопал ногами, заплясал, помахивая одеялом и выкидывая самые причудливые коленца.
Наконец, усталый, приостановился и, отдышавшись, спросил:
– Не думаете ли вы, что он голоден? Что «такие» едят?
– Вот «такие»? Я думаю, все их меню заключается в материнском молоке.
– Гм! История. А где его, спрашивается, достать? Молока этого?
Мы недоумевающе посмотрели друг на друга, но наши размышления немедленно же были прерваны стуком в дверь.
Вошла прехорошенькая девушка и, бросив на меня косой взгляд, сказала:
– Алеша, я принесла вам взятую у вас книгу лекций профес… Это еще что такое?
– Ребеночек. На улице нашел. Правда, милый?
Девушка приняла в ребенке деятельное участие: поцеловала его, поправила пеленки и обратила вопросительный взгляд на Алешу.
– Почему он кричит? – строго спросила она.
– Не знаю. Я его ничем не обидел. Вероятно, он голоден.
– Почему же вы ничего не предпринимаете?
– Что же я могу предпринять?! Вот этот господин (он, кажется, понимает толк в этих делах…) советует покормить грудью. Не можем же мы с ним, согласитесь сами…
В это время его взор упал на юную, очевидно, только этой весной расцветшую, грудь девушки, и лицо его озарилось радостью.
– Послушайте, Наташа… Не могли бы вы… А?
– Что такое? – удивленно спросила девушка.
– Не могли бы вы… покормить его грудью? А мы пока вышли бы в соседнюю комнату. Мы не будем смотреть.
Наташа вспыхнула до корней волос и сердито сказала:
– Послушайте… Всяким шуткам есть границы… Я не ожидала от вас…
– Я не понимаю, что тут обидного? – удивился Алеша. – Ребенку нужна женская грудь, я и подумал…
– Вы или дурак, или нахал, – чуть не плача, сказала девушка, отошла к стене и уткнулась лицом в угол.
– Чего она ругается? – изумленно спросил меня Алеша. – Вот вы – человек опытный… Что тут обидного, если девушка покормит…
Я отскочил в другой угол и, пряча лицо в платок, затрясся.
Потом позвал его:
– Пойдите-ка сюда… Скажите, сколько вам лет?
– Двадцать два. А что?
– Чем вы занимаетесь?
– Кристаллографией…
– И вы думаете, что эта девушка может покормить ребенка…
– Да что ж ей… жалко, что ли?
Содрогание моих плеч сделалось до того явным, что юная парочка могла обидеться. Я махнул рукой, выскочил из комнаты, побежал к себе, упал на кровать, уткнул лицо в подушку и поспешно открыл все клапаны своей смешливости. Иначе меня бы разорвало, как детский воздушный шар, к которому приложили горящую папироску…
За стеной был слышен крупный разговор. Потом все утихло, хлопнула дверь, и по коридору раздались шаги двух пар ног.
Очевидно, хозяин и гостья, помирившись, пошли пристраивать куда-нибудь в более надежные руки свое сокровище.
* * *Вторично я увидел Алешу недели через две. Он зашел ко мне очень расстроенный.
– Я пришел к вам посоветоваться.
– Что-нибудь случилось? – спросил я, заражаясь его озабоченным видом.
– Да! Скажите, что бы вы сделали, если бы вас поцеловала чужая дама?
– Красивая? – с цинизмом, присущим опытности, спросил я.
– Она красивая, но я не думаю, чтобы это в данном случае играло роль.
– Конечно, это деталь, – сдерживая улыбку, согласился я. – Но в таких делах иногда подобная пустяковая деталь важнее главного!
– Ну да! А в случае со мной главное-то и есть самое ужасное. Она оказалась – замужем!
Я присвистнул:
– Значит, вы целовались, а муж увидел?!
– Не то. Во-первых, не «мы целовались», а она меня поцеловала. Во-вторых, муж ничего и не знает.
– Так что же вас тревожит?
– Видите ли… Это в моей жизни первый случай. И я не знаю, как поступить? Жениться на ней – невозможно. Вызвать на дуэль мужа – за что? Чем же он виноват? Ах! Это случилось со мной в первый раз в жизни. Запутано и неприятно. И потом, если она замужем – чего ради ей целоваться с чужими?!
– Алеша!
– Ну?..
– Чем вы занимались всю вашу жизнь?
– Я же говорил вам: кристаллографией.
– Мой вам дружеский совет: займитесь хоть ботаникой. Все-таки это хоть немного расширит ваш кругозор. А то – кристаллография… она, действительно…
– Вы шутите, а мне вся эта история так неприятна, так неприятна…
– Гм… А с Наташей помирились?
– Да, – пробормотал он, вспыхнув. – Она мне объяснила, и я понял, какой я дурак.
– Алешенька, милый… – завопил я. – Можно вас поцеловать?
Он застенчиво улыбнулся и, вероятно, вспомнив по ассоциации о предприимчивой даме, сказал:
– Вам – можно.
Я поцеловал его, успокоил, как мог, и отпустил с миром.
* * *Через несколько дней после этого разговора он робко вошел ко мне, поглядел в угол и осведомился:
– Скажите мне: как на вас действует сирень?
Я уже привык к таинственным извивам его свежей благоухающей мысли. Поэтому, не удивляясь, ответил:
– Я люблю сирень. Это растение из семейства многолетних действует на меня благотворно.
– Если бы не сирень – ничего бы этого не случилось, – опустив глаза вниз, пробормотал он. – Это «многолетнее» растение, как вы называете его, – ужасно!
– А что?
– Мы сидели на скамейке в саду. Разговаривали. Я объяснял ей разницу между сталактитом и сталагмитом – да вдруг – поцеловал!
– Алеша! Опомнитесь! Вы? Поцеловали? Кого?
– Ее. Наташу.
И, извиняясь, добавил:
– Очень сирень пахла. Голова кружилась. Не зная свойств этого многолетнего растения – не могу даже разобраться: виноват я или нет… Вот я и хотел знать ваше мнение?..
– Когда свадьба? – лаконически осведомился я.
– Через месяц. Однако, как вы догадались?! Она меня… любит!..
– Да что вы говорите?! Какое совпадение?! А помните, я прошлый раз говорил вам, что ботаника все-таки выше вашей кристаллографии. О зоологии и физиологии я уже не говорю.
– Да… – задумчиво проговорил он, глядя в окно светлым, чистым взглядом. – Если бы не сирень – я бы так никогда и не узнал, что она меня любит.
* * *Он сидел задумчивый, углубленный в свои новые, такие странные и сладкие переживания, а я глядел на него, и мысли – мысли мудрого циника – копошились в моей голове.
«Да, братец… Теперь ты узнаешь жизнь… Узнаешь, как и зачем целуются женщины. Узнаешь на собственных детях, каким способом их кормить, а впоследствии узнаешь, может быть, почему жены целуют не только своих мужей, но и чужих молодых человеков. Мир твоему праху, белая ворона!..»
Дюжина ножей в спину революции
Предисловие
Может быть, прочтя заглавие этой книги, какой-нибудь сердобольный читатель, не разобрав дела, сразу и раскудахчется, как курица:
– Ах, ах! Какой бессердечный, жестоковыйный молодой человек – этот Аркадий Аверченко!! Взял да и воткнул в спину революции ножик, да и не один, а целых двенадцать!
Поступок – что и говорить – жестокий, но давайте любовно и вдумчиво разберемся в нем.
Прежде всего спросим себя, положа руку на сердце:
– Да есть ли у нас сейчас революция?..
Разве та гниль, глупость, дрянь, копоть и мрак, что происходит сейчас, – разве это революция?
Революция – сверкающая прекрасная молния, революция – божественно красивое лицо, озаренное гневом рока, революция – ослепительно яркая ракета, взлетевшая радугой среди сырого мрака!..
Похоже на эти сверкающие образы то, что сейчас происходит?..
Скажу в защиту революции более того – рождение революции прекрасно, как появление на свет ребенка, его первая бессмысленная улыбка, его первые невнятные слова, трогательно умилительные, когда они произносятся с трудом лепечущим, неуверенным в себе розовым язычком…
Но когда ребенку уже четвертый год, а он торчит в той же колыбельке, когда он четвертый год сосет свою всунутую с самого начала в рот ножку, превратившуюся уже в лапу довольно порядочного размера, когда он четвертый год лепечет те же невнятные, невразумительные слова, вроде: «совнархоз», «уезземельком», «совбур» и «реввоенком» – так это уже не умилительный, ласкающий глаз младенец, а, простите меня, довольно порядочный детина, впавший в тихий идиотизм.
Очень часто, впрочем, этот тихий идиотизм переходит в буйный, и тогда с детиной никакого сладу нет!
Не смешно, а трогательно, когда крохотный младенчик протягивает к огню розовые пальчики, похожие на бутылочки, и лепечет непослушным языком:
– Жижа, жижа!.. Дядя, дай жижу…
Но когда в темном переулке встречается лохматый парень с лицом убийцы и, протягивая корявую лапу, бормочет: «А ну, дай, дядя, жижи, прикурить цигарки или скидывай пальто», – простите меня, но умиляться при виде этого младенца я не могу!
Не будем обманывать и себя и других: революция уже кончилась, и кончилась она давно!
Начало ее – светлое, очищающее пламя, средина – зловонный дым и копоть, конец – холодные обгорелые головешки.
Разве мы сейчас не бродим среди давно потухших головешек – без крова и пищи, с глухой досадой и пустотой в душе.
Нужна была России революция?
Конечно, нужна.
Что такое революция? Это – переворот и избавление.
Но когда избавитель перевернуть – перевернул, избавить – избавил, а потом и сам так плотно уселся на ваш загорбок, что снова и еще хуже задыхаетесь вы в предсмертной тоске и судороге голода и собачьего существования, когда и конца-краю не видно этому сиденью на вашем загорбке, то тогда черт с ним и с избавителем этим! Я сам, да, думаю, и вы тоже, если вы не дураки, – готовы ему не только дюжину, а даже целый гросс «ножей в спину».
Правда, сейчас еще есть много людей, которые, подобно плохо выученным попугаям, бормочут только одну фразу:
– Товарищи, защищайте революцию!
Позвольте, да вы ведь сами раньше говорили, что революция – это молния, это гром стихийного божьего гнева… Как же можно защищать молнию?
Представьте себе человека, который стоял бы посреди омраченного громовыми тучами поля и, растопырив руки, вопил бы:
– Товарищи! Защищайте молнию! Не допускайте, чтобы молния погасла от рук буржуев и контрреволюционеров!!
Вот что говорит мой собрат по перу, знаменитый русский поэт и гражданин К. Бальмонт, мужественно боровшийся в прежнее время, как и я, против уродливостей минувшего царизма.
Вот его буквальные слова о сущности революции и защите ее:
«Революция хороша, когда она сбрасывает гнет. Но не революциями, а эволюцией жив мир. Стройность, порядок – вот что нужно нам, как дыхание, как пища. Внутренняя и внешняя дисциплина и сознание, что единственное понятие, которое сейчас нужно защищать всеми силами, это понятие Родины, которая выше всяких личностей и классов и всяких отдельных задач, – понятие настолько высокое и всеобъемлющее, что в нем тонет все, и нет разнствующих в нем, а только сочувствующие и слитно работающие – купец и крестьянин, рабочий и поэт, солдат и генерал».
«Когда революция переходит в сатанинский вихрь разрушения – тогда правда становится безгласной или превращается в ложь. Толпами овладевает стихийное безумие, подражательное сумасшествие, все слова утрачивают свое содержание и свою убедительность. Если такая беда овладевает народом, он неизбежно возвращается к притче о бесах, вошедших в стадо свиней»…
«Революция есть гроза. Гроза кончается быстро и освежает воздух, и ярче тогда жизнь, красивее цветут цветы. Но жизни нет там, где грозы происходят беспрерывно. А кто умышленно хочет длить грозу, тот явный враг строительства и благой жизни. И выражение «защищать революцию», должен сказать, мне кажется бессмысленным и жалким. Настоящая гроза не нуждается в защите и подпорках. Уж какая же это гроза, если ее, как старушку, нужно закутывать в ватное одеяло».
Вот как говорит К. Бальмонт… И в одном только он ошибается – сравнивая нашу «выросшую из пеленок» революцию с беспомощной старушкой, которую нужно кутать в ватное одеяло.
Не старушка это – хорошо бы, коли старушка, – а полупьяный детина с большой дороги, и не вы его будете кутать, а он сам себя закутает вашим же, стащенным с ваших плеч, пальто.
Да еще и ножиком ткнет в бок.
Так такого-то грабителя и разорителя беречь? Защищать?
Да ему не дюжину ножей в спину, а сотню – в дикобраза его превратить, чтобы этот пьяный, ленивый сутенер, вцепившийся в наш загорбок, не мешал нам строить Новую Великую Свободную Россию!
Правильно я говорю, друзья-читатели? А?
И если каждый из вас не бестолковый дурак или не мошенник, которому выгодна вся эта разруха, вся эта «защита революции», то всяк из вас отдельно и все вместе должны мне грянуть в ответ:
– Правильно!!!
Фокус великого кино
Отдохнем от жизни.
Помечтаем. Хотите?
Садитесь, пожалуйста, в это мягкое кожаное кресло, в котором тонешь чуть не с головой. Я подброшу в камин угля, а вы закурите эту сигару. Недурной «Боливар», не правда ли? Я люблю, когда в полумраке кабинета, как тигровый глаз, светится огонек сигары. Ну, наполним еще раз наши рюмки темно-золотистым хересом – на бутылочке-то пыли сколько наросло – вековая пыль, благородная, – а теперь слушайте…
* * *Однажды в кинематографе я видел удивительную картину. Море. Берег. Высокая этакая отвесная скала, саженей в десять. Вдруг у скалы закипела вода, вынырнула человеческая голова, и вот человек, как гигантский, оттолкнувшийся от земли мяч, взлетел на десять саженей кверху, стал на площадку скалы – совершенно сухой – и сотворил крестное знамение так: сначала пальцы его коснулись левого плеча, потом правого, потом груди и, наконец, лба.
Он быстро оделся и пошел прочь от моря, задом наперед, пятясь, как рак. Взмахнул рукой, и окурок папиросы, валявшийся на дороге, подскочил и влез ему в пальцы. Человек стал курить, втягивая в себя дым, рождающийся в воздухе. По мере курения, папироса делалась все больше и больше и, наконец, стала совсем свежей, только что закуренной. Человек приложил к ней спичку, вскочившую ему в руку с земли, вынул коробку спичек, чиркнул загоревшуюся спичку о коробочку, отчего спичка погасла, вложил спичку в коробочку; папиросу, торчащую во рту, сунул обратно в портсигар, нагнулся – и плевок с земли вскочил ему прямо в рот. И пошел он дальше также задом наперед, пятясь, как рак. Дома сел перед пустой тарелкой и стаканом, вылил изо рта в стакан несколько глотков красного вина и принялся вилкой таскать изо рта куски цыпленка, кладя их обратно на тарелку, где они под ножом срастались в одно целое. Когда цыпленок вышел целиком из его горла, подошел лакей и, взяв тарелку, понес этого цыпленка на кухню – жарить… Повар положил его на сковородку, потом снял сырого, утыкал перьями, поводил ножом по его горлу, отчего цыпленок ожил и потом весело побежал по двору.



