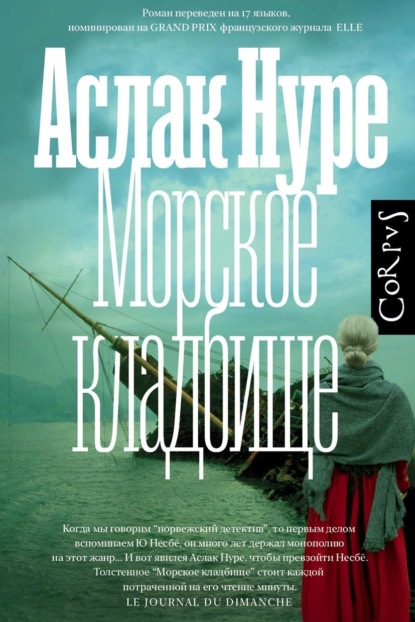
Полная версия:
Морское кладбище
– Позвоните министру здравоохранения в Эрбиль, объясните ситуацию, – сказал Ханс. Отыскал фамилию, протянул телефон начальнику тюрьмы. – Он добрый друг.
Начальник долго, не говоря ни слова, смотрел на дисплей, потом вернул телефон Хансу.
– Позвоните сами.
Ханс позвонил, но попал на автоответчик и тихонько чертыхнулся.
– Невозможно это, – повторил начальник тюрьмы, бросив в чай еще один кусок сахару.
Ханс набрал в грудь воздуху и выложил последний козырь:
– Я приехал в горы Синджар прошлым летом, сразу после резни и этнической чистки, как один из немногих западных врачей. Не знаю, следили вы за международной прессой или нет, но, если вы сомневаетесь в моей лояльности к тем, кто храбро воюет с джихадистами, я скромно скажу, что сделал для курдского дела больше многих. Дайте мне побыть с заключенным, и еще до вечера у вас в тюрьме станет одной проблемой меньше.
Начальник долго смотрел на него.
– Ладно, мистер Ханс, – наконец сказал он. – Даю вам один час.
* * *Здание тюрьмы было выстроено из серого бетона, поверху тянулись стрелковые амбразуры и оконца.
После звонка Веры минуло всего несколько дней. Ханс всегда любил ее, близкие узы связали их еще весной 1970 года, когда Ханс учился в гимназии, а Вера работала над книгой, которая привела ее в старую усадьбу Фалков на Фана-фьорде. В свет книга так и не вышла.
Вера звонила за два дня до самоубийства, но задним числом ему казалось, что говорила она сурово и серьезно, как человек, стоящий перед решающим выбором.
Продолжался разговор минут десять, но она сказала, что некоторые вопросы по телефону обсуждать нельзя.
Это было последнее, что он от нее услышал.
Что-то в этой истории не так, а чтобы докопаться до правды, просто необходимо потолковать с Джонни Бергом. Казалось бы, странно, что молодой норвежец, сидящий в тюрьме как иностранец-джихадист, может играть роль в споре о наследстве 95-летней писательницы. Но дело обстояло именно так.
Часовой отпер решетчатые железные ворота и снова запер за ним. Еще двое ворот – и он перед дверью тюрьмы.
Его провели в коридор. Вонь… с каждым шагом все сильнее несло пóтом, нечистотами и гниющей плотью. В прорези дверей были видны заключенные. Мужчины в оранжевых робах. Свет проникал внутрь сквозь единственное окно под самым потолком. Все проемы зарешечены. Стены бирюзовые и белые. Камеры переполнены, в воздухе висел запах антисептика и нелеченных инфекций. Лекарств явно не хватало, у многих узников недоставало конечностей; одни еще кое-как ковыляли, другие же не то лежали при смерти, не то притворялись. Как врач Ханс привык ко всему, но, когда тюремщик отпер дверцу, его едва не вырвало.
Камера, куда он вошел, была рассчитана на десяток-другой узников, но людей там теснилось во много раз больше. Тощие старики с птичьей грудью играли в карты с молодыми парнями-инвалидами – кто без руки, кто без ноги, – какой-то юнец жалобно тянул песню вроде как на фламандском, одни кашляли, другие обрабатывали увечья: накладывали турникетные жгуты, заматывали раны грязными бинтами. Человек с повязкой на глазу бродил по камере на костылях. Кое-кто пытался перехватить взгляд Ханса, выкрикивая «сахафи! – журналист!», но многие при виде его медленно проводили пальцем по горлу.
В глубине камеры смрад был гуще всего. Там разило смертью. Вокруг дыры в полу, служившей туалетом, висели полотенца и куртки.
– Вот он, – тюремщик пнул мужчину, сидевшего на полу в позе лотоса. – Аль-Джабаль, встань!
Джонни сидел возле бирюзовой стены – с закрытыми глазами, держа руки ладонями вверх, будто медитировал. На нем была оранжевая роба из тех, в какие ИГ обычно одевало заложников перед казнью. Надо полагать, курды не упускали случая показать ИГ средний палец. Хотя правильное лицо посерело и исхудало, парень был красивый. Или мужчина… Джонни было чуть за тридцать. Нос с легкой горбинкой, крупный рот, острые скулы над густой бородой, блестящие темные волосы до плеч. Джонни открыл глаза. Долго смотрел на Ханса, но прочитать по глазам его душевный настрой оказалось невозможно.
Ханс хорошо помнил их последнюю встречу. В 2006-м, когда Израиль бомбил Ливан, Берг, в ту пору молодой журналист-фрилансер, взял у него интервью. Хорошее интервью, одно из лучших. Ханс тогда не заподозрил, что Берг работал на разведку, но теперь был в этом уверен.
– Я пришел осмотреть тебя, – сказал Ханс. – И спасибо за то интервью.
Джонни долго смотрел ему в глаза, по-прежнему не говоря ни слова. Потом опустил веки и спокойно задышал через нос.
Курдский солдат настороженно озирался по сторонам, они начали привлекать внимание других узников.
Несмотря на худобу и изможденность, было заметно, что раньше Джонни был прекрасно тренирован. Наискось по груди тремя неровными полосами тянулись шрамы, прямо под лопаткой следы двух пулевых ранений, кожа там потемнела.
Ханс вооружился стетоскопом, измерил пульс в состоянии покоя, сердечный ритм и давление, потом взял кровь из указательного пальца.
– А теперь слушай внимательно, – сказал он, накрыв его руку обеими своими. – В твои годы я соглашался на любые задания за рубежом. Теперь вот старею. Ты когда-нибудь слыхал, чтобы человек на смертном одре жалел, что не заработал больше денег или не выполнил на Ближнем Востоке больше разведзаданий?
– Что ты хочешь этим сказать? – спросил Джонни.
– У тебя есть дочь, – ответил Ханс.
Джонни наконец поднял на него глаза.
– Не повторяй мою ошибку, – продолжал Ханс. – На основании медицинских показаний я намерен от имени Норвегии потребовать, чтобы тебя освободили. Думаю, мне удастся, курды будут только рады отделаться от иностранца и бациллоносителя.
– Почему ты мне помогаешь? – после долгого молчания спросил Джонни.
– Клятва Гиппократа…
– Сам знаешь, что это чепуха, – перебил Джонни, покачав головой.
– С тобой обошлись очень несправедливо.
– Верно, но ты здесь не поэтому.
– Джонни, Джонни. Ты не сдаешься. Отлично. Когда вернешься в Норвегию, окажешь мне услугу, – прошептал Ханс. – Здесь мы не будем вдаваться в подробности, но я предлагаю тебе свободу в обмен на услугу.
Узник склонил голову набок, будто размышляя.
Ханс продолжил:
– В Норвегии у тебя по-прежнему есть надежные друзья, эти люди думали, что ты погиб, и потрясены тем, как с тобой обошлись. Двое полицейских доставят тебя под конвоем в Норвегию. Делай, как я скажу, и еще до вечера будешь в европейском воздушном пространстве.
– С какой стати я должен тебе верить? – Джонни смотрел на него ясными зелеными глазами.
– Верить ты мне не можешь, – сказал Ханс. – Но, мне кажется, в нынешней ситуации у тебя нет выбора. Договорились?
Глава 7. Выпьем за маму
Вечером накануне похорон на Обрыве послышались шаги. А немного погодя по толстой деревянной двери резко стукнули подковой-колотушкой, и не успела Саша открыть, как дверь распахнулась и кто-то вошел в темный дом.
Улав был в непромокаемых сапогах до колен, флисовом свитере и защитного цвета брюках с кожаными нашивками на коленях.
Он сделал шаг по скрипучему полу.
– Александра, нашла что-нибудь?
С самого раннего детства посещения бабушкина дома всегда казались Саше приключением. Конечно, объективный мир существовал, даже для Веры, однако этот мир инженеров, физиков и врачей интересовал ее меньше, чем его описания. С начала времен мы, сидя у костра, делились друг с другом рассказами о мире, они-то и сделали нас людьми, несчетные истории, что мало-помалу стали книгами, нашедшими приют на Вериных стеллажах здесь, на Обрыве, и из этого мира вне времени отец сейчас вырвал Сашу.
Она провела тут все последние дни. Утром отправляла детей в школу и договаривалась, что после обеда за ними присмотрит приходящая няня. Правда, сегодня забежала домой еще раз, выбрала одежду для похорон: черные бархатные платьица и лаковые туфельки для девочек, темный костюм с подходящим галстуком для Мадса. Он прилетит всего за час-другой до начала и будет рад, что костюм уже наготове. Они оба старались выказывать друг другу небольшие знаки внимания.
Все остальное время она пробыла на Обрыве.
Просматривать каждую книгу большой библиотеки – дело затяжное, а у Веры книг тьма-тьмущая. Все стены на Обрыве сплошь в книгах – на взгляд Саши, не меньше сотни погонных метров. Вдобавок картонные коробки в картофельном погребе и кучи папок переписки с издательством.
Кончики пальцев стерлись, словно от наждачной бумаги, ведь она пролистала множество книг. Иные с дарственными надписями Вере от более-менее известных коллег-писателей. Бесконечное число романов, трудов по истории, социологии и экономике, попадались и эзотерические работы о мифах и астрологии, а со страниц вставали воспоминания.
– Я нахожу все что угодно, – сказала Саша, – только не завещание.
– Я позвонил судье, – сказал отец, – хотел удостовериться, что мама действительно забрала завещание и что Греве нас не обманывает. Но она вправду его забрала.
– Ты не доверяешь Сири? – спросила Саша.
Отец улыбнулся:
– Доверяю больше, чем многим. Но она ведь не член семьи.
Смеркалось, поверхность фьорда иссиня-черная, как нефть. Вдали, на другом берегу, Саша видела на склоне слабые огоньки, словно отброшенные от уреза воды, а дальше серое вечернее небо.
– Ты огорчена, Александра?
Порой, вот как сейчас, взгляд у отца был ласковый, открытый и вызывал детское ощущение защищенности и уюта, словно ты сидишь у него на коленях.
– Да, пожалуй. – Она отвела глаза.
Саша всегда была любимицей бабушки. В детстве Вера обыкновенно давала ей на карманные расходы десять крон. Сверре довольствовался пятью, а то и вовсе ничего не получал, потому что из всей семьи одна только Саша понимала толк в литературе и устных рассказах. Только она одна обладала чутким, приметливым взглядом и спокойной силой, необходимыми писателю. Саша очень этим гордилась и никогда не понимала, почему бабушка перестала писать.
Как-то раз Вера читала ей вслух. Саше было тогда лет десять-одиннадцать, но этот миг она запомнила навсегда. Читали они греческие мифы, о богине Ириде, вестнице богов, и вдруг бабушка насторожилась. Возле Обрыва послышался какой-то звук. Стал громче. Словно плакал младенец, жалобно, душераздирающе. Бабушка заплакала.
– Почему ты плачешь? – спросила Саша. – Это же всего-навсего кошачья свадьба.
Бабушка посмотрела на нее:
– Для других. Но не для нас с тобой. Для писателя правдив тот образ, какой реальность создает в его голове. Если ты думаешь про кошку, ну что ж, а вот я думаю о младенце, которому плохо. И то, и это может оказаться правдой.
Улав полистал альбом с вырезками из старых газет.
– Мама, конечно же, хранила все рецензии на свои книги, – сказал он не то печально, не то радостно и прочел вслух: – «Безупречный и стилистически уверенный дебют, жутковато-прекрасное произведение нового скальда с наших берегов».
В пятидесятые годы два сборника новелл Веры Линн были благосклонно встречены критикой, но по-настоящему большого внимания не привлекли, успех пришел позднее, когда несколько новелл вошли в школьную программу и стали, так сказать, классикой. В шестидесятые она выпустила целый ряд мрачных триллеров («северонорвежская Дафна Дюморье»), которые хорошо продавались, хотя несколько опередили свое время, а примерно в 1970-м литературная деятельность внезапно оборвалась.
– А собственно говоря, насколько известна была бабушка?
– Меньше, чем заслуживала, как она считала, – буркнул Улав.
– Странно, что она перестала писать, – сказала Саша.
Отец не ответил, отошел в кухонный уголок, где нашел пыльную бутылку акевита[21], налил две стопочки и сел у торца письменного стола, придвинув одну стопочку дочери.
– Ты знаешь, что этот домик построили немцы, когда реквизировали Редерхёуген?
Пригубив водку, Саша аж вздрогнула.
– После войны Вера решила использовать его для работы, – невозмутимо продолжал отец. – Рубленые углы и бревенчатые стены по фасаду – результат переделки, но со стороны леса по-прежнему можно видеть оригинальные материалы.
Он стал было показывать, но Саша перебила:
– Я почти ничего не знаю о тех временах. Бабушка не рассказывала, да и ты тоже.
Улав отпил глоток водки, печально посмотрел на нее.
– Это причиняло боль.
– Боль? – Она смотрела прямо в изборожденное морщинами лицо отца, где над кустистыми бровями пролегла мудрая складка.
– А как иначе скажешь?
Он беспокойно глянул в окно.
– Вера не была такой матерью, как ты, Саша. Она была отстраненная, вперемежку то холодная, то ласковая. Обычно за мной присматривала гувернантка, мама часто бывала в отъезде. Однажды на всю зиму уехала в Южную Францию. На всю зиму… Ей надо писать, так она говорила. Помню, как я плакал в день ее отъезда. Мне было девять, можешь себе представить, я стоял на перроне Восточного вокзала и плакал.
Саша прямо воочию увидела маленького Улава на длинном перроне, когда поезд медленно отходил от станции. И накрыла его руку своей.
– По ночам мама кричала, – продолжал он. – Это было задолго до того, как в Редерхёугене навели красоту, в главном доме было тогда пусто и до ужаса холодно, а вдобавок очень гулко, крики эхом разносились по коридорам, достигали моей комнаты. Мама кричала, ни с того ни с сего, каждую ночь сидела на кровати и кричала.
– Ей не помогли?
– Она не хотела помощи, да в ту пору и не знали, что делать, не как сейчас. Однажды, мне было тогда лет двенадцать-тринадцать, я не выдержал. Вышел на балкон в главном доме и накинул петлю на шею. Думал, что освобожусь, если брошусь через перила. Что до смерти всего один шаг. Что смерть черная, черное ничто.
– Ох, папа… – Саша погладила его по плечу.
– Потом стало лучше, всегда становится лучше, Александра. Наутро я проснулся со странным чувством. Конечно, я по-прежнему боялся маминых выходок, всю жизнь боялся. Но был свободен. Что-то во мне уразумело, что свою судьбу мы строим сами.
Саше хотелось спросить о многом, но его слова ошеломили ее.
– Только когда ты подросла, я ощутил тот же страх. Ты была как две капли воды похожа на старые мамины фотографии. Я не хотел, чтобы у тебя была такая же жизнь, как у нее. И ты такой не стала, Александра. В тебе есть то, чем славились мои предки, а может, когда-нибудь прославлюсь и я. Ты, конечно, умная, прозорливая, но одновременно в тебе есть и кое-что много более важное. Характер. Принципы. Лояльность к семье. Спокойствие, когда прижмут. Ты думаешь, прежде чем говорить, и заставляешь людей гадать, что ты имела в виду.
Саша улыбнулась отцу. Да, это чуть ли не патология. В других он видел только отражение себя. Постоянно навязывал другим свои собственные чувства, и, где бы ни находился, атмосфера там была во власти его настроения. Но она все равно любила его, и эта любовь совершенно не сравнима с той, какую она питала к другим. К Мадсу, к брату и сестре. Даже любовь к детям была совсем иная, куда менее сложная.
– Я нашла книгу о том кораблекрушении, – сказала она и взяла со стола «Сборник текстов по поводу гибели „Принцессы Рагнхильд“». – Помимо всего прочего, там есть протоколы опроса свидетелей в Салтенском суде на следующий день после крушения.
– Круто. – Улав полистал книгу, надел очки, висевшие на шее, и прочитал вслух: – «При взрыве нос судна подняло вверх, так что капитан был подброшен в воздух и упал на палубу мостика. Он приземлился на четвереньки, но его снова тряхнуло, и он завалился на левый бок. Капитан предполагает, что судно могло подорваться на мине, но добавляет, что ранее никогда не видел взрывов мин. В прошлую войну видел торпедирования, а этот взрыв был другим. Свое мнение, что взорвалась именно мина, он мотивирует, в частности, глухим звуком…»
– А мы действительно вполне уверены, что это была мина? – спросила Саша.
– Настолько, насколько позволяют исторические факты, – ответил Улав. – Все, кто писал об этом, разделяют данную точку зрения. Смотри, что говорит под присягой капитан Брекхус. – Он медленно прочитал: «По мнению капитана, все указывает на то, что причина взрыва – подводная мина. По-видимому, катастрофа произошло на минном поле, установленном англичанами 8 апреля 1940 года».
– Подумать только, англичане в ответе за смерть дедушки, – сказала Саша.
Отец кивнул и с нежностью посмотрел на нее.
– В любом случае это не самое главное. Ты представь себе, как мама со мной на руках прыгнула в ледяную воду. Не прыгни она, я бы не сидел здесь нынче вечером. – Он улыбнулся, взгляд опять стал мягким и теплым. – И ты тоже.
Саша давно не ощущала такой близости с отцом, чуяла даже его запах.
– При нашей последней встрече я спросила бабушку, может ли она рассказать про то крушение.
Улав вздрогнул, взгляд сделался жестче.
– Мама была писательницей, а не документалисткой.
– Я очень боюсь, не этот ли вопрос заставил ее прыгнуть с обрыва.
– Нет. – Улав, снова полный сочувствия, накрыл ее руку своей. – У убийства мотив простой, ненависть или любовь. Мотив самоубийцы – сама жизнь. А за жизнь мамы ты, Александра, не в ответе.
– Вокруг бабушки столько вопросов, оставшихся без ответа, – сказала Саша. – Где она спрятала завещание, само собой, но и кем она, собственно, была, откуда родом и почему бросила писать.
Лицо отца окаменело.
– Мамина жизнь – это лабиринт. Заплутаешь в нем и никогда больше не выберешься. – Он долго и цепко держал ее взглядом, потом улыбнулся. – Давай выпьем за маму.
Немного погодя Улав встал, отставил стопки на рабочий стол.
– Ты успеваешь дописать свою завтрашнюю речь?
Саша кивнула.
– Думаю, да.
– Скорей бы уж похороны остались позади. Ведь вместе с ними завершится целая глава нашей семейной истории. Сколь ни соблазнительны тайны в жизни Веры и как ни хочется мифоманам извлечь их на поверхность, ты, Александра, должна кое-что мне обещать.
Саша почувствовала, как ее обдало холодом.
– Что именно?
– Что не станешь ворошить камни. Ведь если стронешь с места хоть один, все, что мы здесь построили, может рухнуть.
Глава 8. Боевой крест с двумя мечами
Ссылаясь на безопасность государства, прокуратура ходатайствовала о рассмотрении дела в закрытом судебном заседании; ходатайство удовлетворили.
Адвокат Ян И. Рана занял место рядом с обвиняемым. Джон Омар Берг, или Джонни Берг, как он представился, находился в стране всего несколько дней, его под конвоем доставили из Курдистана; лицо по-прежнему изможденное, с острыми скулами. Он походил на ящерицу, но на сей раз длинные черные волосы были аккуратно зачесаны назад и падали на вязаную кофту.
Одеть подсудимого в вязаную кофту или, того хлеще, в традиционный норвежский свитер, конечно, довольно-таки карикатурно. Но шаблоны действуют, на то они и шаблоны, подумал Рана.
Судья – стройный флегматичный мужчина в темном костюме – с самоуверенным видом, который адвокат Рана отнес на счет четырнадцати поколений предков, обитавших среди пышных яблоневых садов западного Осло, зачитал требование прокуратуры: четыре недели предварительного заключения с запретом на переписку и посещения, согласно УК ст. 133 о террористических организациях и ст. 136 о поездках с террористическими целями.
– Согласен ли обвиняемый Джон Омар Берг с предварительным заключением или просит освободить его? – с деланным безразличием спросил судья.
– Освободить, – сказал Ян И. Рана.
– Тогда слово имеет представитель полиции. – Судья кашлянул.
Встала блондинка лет под сорок.
– Как нам известно, двенадцатого сентября две тысячи четырнадцатого года Джон Омар Берг прилетел в курдский город Эрбиль. Далее, нам также известно, что в последние годы он выражал все более экстремистские взгляды, как, например, в мейле, датированном двадцать третьим июля того же года. Цитирую: «Мне настолько омерзительна роль Запада на Ближнем Востоке, что впору завербоваться в ДАИШ[22]. У них хотя бы есть мозги». Конец цитаты. Берг имеет четкую цель: он примкнет к этой террористической организации.
Она сделала паузу. Рана посмотрел на Джонни, тот сидел неподвижно, как восковая фигура. Никогда Рана не видал, чтобы человек перед судом был спокоен, как тибетские монахи, десять лет кряду проведшие в медитации.
– Итак, намерения у Берга террористические, – продолжила дама из полиции. – В тот день он пересекает линию фронта у североиракского населенного пункта Тель-Скуф, чтобы встретиться с единомышленниками-норвежцами, проживающими в поселке, подконтрольном Исламскому государству, в том числе с находящимся в розыске джихадистом и иностранным добровольцем Абу Феллахом. Что происходит во время встречи Джона Берга с Феллахом, никому неизвестно. Но через иностранную разведку мы знаем, что на следующее утро Берг был арестован курдами из Пешмерга[23]. – Она обратилась к судье: – В данном случае прокуратура настаивает на предварительном заключении по причине серьезности обвинения. Но не менее важны личность Джона Омара Берга и его прошлое.
Судья, похоже, заскучал от бездарной речи представительницы полиции. Она совершенно под стать здешней минималистской меблировке, подумал Рана.
– Берг, – продолжала она, – профессиональный «морской охотник», много лет работал в вооруженных силах, имел высшую форму допуска к секретным материалам. Когда решение примкнуть к террористической организации принимает человек с таким опытом, это значительно усугубляет тяжесть обвинения по статье о добровольном участии в военном конфликте за рубежом. Он обладает террористическим потенциалом. Поэтому есть все причины держать его под арестом: от других европейских стран нам известно, что многие узники, освобожденные из той тюрьмы, где сидел Берг, находятся под следствием по подозрению в планировании терактов. Далее, по мнению прокуратуры, в данном случае существует конкретный и прямой риск уничтожения доказательств. К тому же его освобождение может быть воспринято обществом как оскорбление чувства справедливости.
На этом она закончила свое выступление, закрыла папку с документами и села на место, скромно сложив руки на коленях.
Ян И. Рана поправил галстук, одернул темный пиджак.
Изначально его звали Мухаммед Икбаль Рана, только вот, к его досаде, это имя легко сокращалось до Му-И-Рана, на слух не отличимое от названия области Му-и-Рана. В детстве это здорово его доставало, плюс Му-И-Рана быстро смекнул, что, если он намерен чего-то добиться в жизни, надо завязывать с обчисткой чуваков на задворках Тосена[24], лучше косить под норвежца. Мухаммедов в городе пруд пруди. Ему необходимо норвежское имя. Например, Турмуд. Или Бьёрн. Нет, не то. Для него не подходит.
В конце концов он обнаружил очень простой факт: самое обычное имя в Норвегии – Ян. А вдобавок это персидское слово, означающее «душа».
Отличное имя. То, что надо.
Ян И. Рана стал книжным червем. На юридическом держался особняком. Честолюбивые пакистанцы, мало-помалу наводнившие факультет, относились к нему с подозрением. А для сокурсников из роскошных вилл с яблочным садом он был обыкновенным иностранцем, мигрантом, сиволапым, деревенщиной. Куда ему до них! Булль, Станг, Смит, Люткен, Стоуд Плату, Колетт, Фалсен… Их родословные восходили к знати, к депутатам первого национального собрания, к председателям верховного суда, а его – к индийским раджпутам[25], да-да, к военной касте, но никто из норвежцев об этом и понятия не имел.
Тогда Ян И. Рана принялся культивировать имидж исконно норвежского работяги. В пивном погребке он хвастался перед девчонками с юридического, что ведет происхождение от строителей Бергенской железной дороги. Что Рана – обычная фамилия среди шведов и лесных финнов. Довольно скоро его догадки подтвердились: большинство сокурсников оказались ленивы и невежественны. Им что угодно можно впарить, лишь бы история была подробная и интересная.
Постепенно он понял, что на самом деле происхождение сулит ему выгоду. Друзьям детства постоянно требовались защитники-адвокаты, вдобавок подрастали новые поколения. Халифат стал для адвокатов золотой жилой, впору слать халифу открыточку от фирмы на Рождество. Они процветали за счет его больных идей. Потому-то Рана и бросил все дела, когда знаменитый доктор Ханс Фалк позвонил в адвокатскую фирму «Рана & Анденес» и попросил Яна И. Рана взять на себя защиту норвежца, которого «безосновательно подозревают» в том, что он был иностранным добровольцем.
Yeah, right, подумал тогда Рана.
В большинстве случаев с иностранными наемниками достаточно было повторить старую басню, что они, мол, отправились помогать женщинам и детям, и надеяться, что у прокуратуры не слишком много доказательств обратного. Однако в этом Джон Омар Берг не был заинтересован. Он дал Ране записку с инициалами «Х.К.» и номером телефона. Обладатель инициалов снабдил Рану столь ценной информацией, что сейчас он с нетерпением ждал, когда получит слово.



