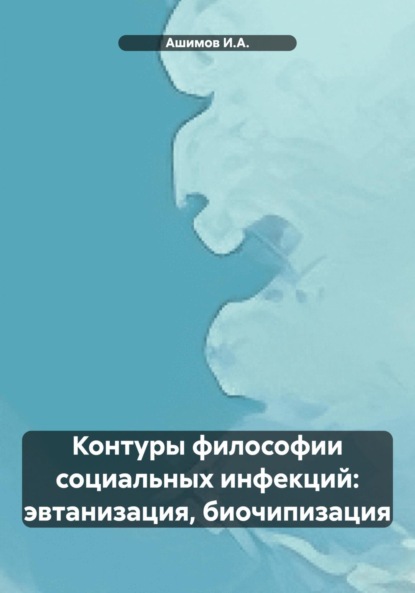
Полная версия:
Контуры философии социальных инфекций: эвтанизация, биочипизация
Субъектом массовой культуры является особая профессиональная группа, которая создает ее артефакты в соответствии с законами социальной психологии и рыночных отношений. Соответственно массовая культура, массовизация представляется нам явлением иного порядка, чем архаизация, которая не проектируется, не создается специально, не имеет специального управления и может захватывать собой в итоге и инициатора реформ в обществе – власть. Такой исход вполне возможен, тем и опасен как социальная инфекция. С другой стороны, причинами архаизации общества могут стать ошибочные кардинальные реформы, инициированные властью с целью модернизации общества и не согласующиеся с культурными традиционными особенностями модернизируемого общества. Итоговым последствием такой социальной инфекции является социальная анархия и соответственно – дезориентация, дезорганизация значительной части общества, которая становится носителем архаизационных тенденций и в конечном счете субъектом архаизации, поскольку вынуждена с целью выживания обратиться к архаическим культурным смыслам и социальным практикам. Субъекты архаизации могут принадлежать ко всем социальным слоям, и общим для них является ориентация на архаику. В структуре феномена архаизации общества выделяются на начальном уровне изменения в состоянии социальных объектов – распространение в обществе определенного социального самочувствия (ощущения разного рода потерь). Следующий уровень – оценка обеспеченности людьми своих базовых потребностей (которые можно рассматривать на основе известной пирамиды потребностей А.Маслоу) и ориентация на действия с их скорейшим удовлетворением, которая осуществляется в условиях социальной анархии и соответственно в форме наиболее простых, эффективных, надежных архаических социальных практик. В общественном сознании распространяются архаические мифы, образы, концепты, смыслы. В современной литературе архаизации часто отводится роль деструктивного процесса, выражающегося в отсутствии резервов общества для решения задач реформирования. Он внешне выступает как противодействие реформам, задачам осовременивания общества. И при определенных условиях может действительно привести к определенному тупику развития. Но архаизация, как и прочие архаизационные тенденции, реализует функцию самосохранения системы в условиях кризиса социальной трансформации. Она диктует необходимость корректировки социального реформирования с целью сохранения социокультурных основ самобытности общества. В процессе архаизации, по сути, заложен потенциал двух типов – деструктивный и конструктивный. Но старое есть старое, как изжитое прошлое. Тем не менее, процессы архаизации четко определяются в жизни ряда стран, в том числе и в центральноазиатском регионе. Как заразный процесс такое явление начинает кочевать из одного народа в другую, приобретая черты эндемии и даже эпидемии.
Крайне опасной социальной инфекцией является особо заразная и особо опасна, по сути, фашизация. Фашизм – это политическая идеология и движение, характеризующееся диктаторским лидером, централизованной автократий, милитаризма, насильственным подавлением оппозиции, верой в естественную социальную иерархию, подчинением индивидуальным интересам предполагаемому благу нации или расы и жесткой регламентацией общества и экономики. Эта разновидность социальной инфекции рассматривает формы насилия, включая политическое и империалистическое насилие и войну, как средства национального возрождения. Фашисты часто выступают за создание тоталитарного однопартийного государства и за рыночную экономику, в которой государство играет сильную директивную роль посредством интервенциионистскую политики, с главной целью достижения автракии – национальной экономической самодостаточности. Крайний авторитаризм и национализм фашизма могут проявляться как вера в некое божественное предначертание или возрождение исторического величия. Несмотря на всю пагубность такой политики, а также опыт сакральных исторических поражений, сопровождающиеся трагедией многих народов, такая социальная инфекция также отличается своей заразительностью. Подобный стиль как политическая эстетика романтического символизма, массовой мобилизации народа под лозунгом «Слава Украине – Украине слава!» характерно для Украины. Культ лидера, обещающего национальное возрождение перед лицом унижений, причиненных той или иной империей обретает популярность в некоторых ультранационалистических государствах, где перед населением ставится дилемма: «Кто не за нас, тот против нас». Народ покупается на эти лозунги и мифы о возрождении нации, о декадансе, о восстановлении исторической справедливости. Вот почему важно выстроить единую мировую стратегию против «фашистской ползучести». Фашистские лидеры часто поддерживают культ личности и стремятся вызвать энтузиазм в отношении режима, сплачивая огромные толпы. Истоки фашизма сложны и включают в себя множество, казалось бы, противоречивых точек зрения, в конечном итоге сосредоточенных на мифе национального возрождения из упадка. Ряд фашистских движений описывают себя как третью позицию за пределами традиционного политического спектра. В этом аспекте, вирулентность такой социальной инфекции, а также ее заразительность вполне очевидны. В мире сторонников фашизации становится все больше. Причем, даже в тех странах, в которых население в наибольшей степени пострадало от немецкого фашизма. Здесь историческая память не срабатывает, а западная идеология всячески пытается исказить суть фашизма и переиначивает последствия этой пандемии.
Одним из важных социальных недугов является, как ни странно, бедность как состояние человека, в котором у него недостаточны условия для физиологического выживания. По мнению многих комментаторов, бедность одновременно является причиной ухудшения состояния окружающей среды, а бедные страдают больше всего от ухудшения состояния окружающей среды, вызванного неосторожной эксплуатацией природных ресурсов богатыми. Такой феномен особенно характерно для нашей страны, где уровень бедности остается достаточно высокой. Бедняки как члены общества постоянно несут бремя бедности, что приводит к формированию автономной субкультуры. Это происходит, потому что дети вырастают в этой среде, и, соответственно, их система поведения и отношений постоянно воспроизводит чувство неспособности выйти из этого самого низкого класса общества. Люди, принадлежащие к культуре бедности, имеют стойкое чувство маргинальности, беспомощности, зависимости и непринадлежности. Они, как чужестранцы в собственной стране, убежденные в том, что существующие институты не удовлетворяют их интересы и потребности. Вместе с чувством, что их интересы не представлены в государственных структурах, широко выражается чувство собственной неполноценности и личной бесполезности с точки зрения общественного блага. Представители культуры бедности очень часто не чувствуют своих корней. Это маргинальные люди, которые знают только свои собственные беды, видят только свои собственные условия проживания, свое окружение и принимают только свой жизненный путь. Обычно у них не хватает знаний, представлений и образа мысли, чтобы заметить сходства между своими проблемами и проблемами тех, кто живет в других уголках мира. Считается, что среди бедных имеет место цикл депривации, когда родители многодетных семей, которым самим не удалось достичь успехов в жизни, не в состоянии привить своим детям ценности и поведение, ориентированные на успех. В результате их дети плохо учились в школе, что в свою очередь не позволяло им материально обеспечить себя и своих детей. И так повторялось из поколения в поколение. В случае, когда реальные доходы всего населения растут, а их распределение не меняется, относительная бедность остаётся прежней. Между тем, без участия таких людей в процессе совершенствования социальной, политической, экономической жизни они остаются наедине со своими проблемами. Причем, такое явление заразительна, умножая число бедных и бесперспективных маргиналов.
Таким образом, концепция относительной бедности является составляющей концепции неравенства. В настоящее время сложилось два направления: во-первых, основной упор делается на средства к существованию, на способность покупать товары, необходимые для удовлетворения основных потребностей; во-вторых, бедность измеряется через лишения в широком смысле этого слова. Измерение уровня бедности может осуществляться также с использованием депривационного подхода. Согласно ему, бедными считаются индивиды, чьё потребление не соответствует принятому в обществе стандарту, у которых нет доступа к определённому набору благ и услуг. То есть при данном подходе бедность определяется не только недостаточным доходом или низким потреблением товаров и услуг первой необходимости, но и низкокачественным питанием, недоступностью услуг образования и здравоохранения, отсутствием нормальных жилищных условий и прочее. Бедность – это состояние, когда индивид не может обеспечивать более-менее приличное существование с учётом сложившихся в обществе социальных норм и общепринятых стандартов. Именно в связи с таким пониманием бедности во многих источниках используют не доходы населения, а потребление. Потому сегодня социологи рассматривают ряд альтернативных определений для бедности, самым распространенным является: неспособность приобрести или иметь доступ к базовой корзине услуг. Список услуг из корзины в Кыргызстане не покрывает, к примеру, бесплатное медицинское обслуживание, высшее образование, ряд социальных услуг.
Одним из социальных инфекций, в противоположность бедности, является олигархизация. Эта болезнь охватила всех представителей мировой элиты. Причинами считается объективная необходимость лидерства в финансовых возможностях людей, стремление их ставить во главу угла свои собственные интересы, доверие толпы к лидерам и общую пассивность масс. Из железного закона олигархии следует, что демократическое управление невозможно в сколько-нибудь крупных сообществах индивидов. Чем больше организация – тем меньше в ней элементов демократии и больше элементов олигархии. В любой бюрократической системе те, кто работает на благо самой бюрократии, всегда захватывают власть, а те, кто выполняет задачи, ради которых бюрократия и существует, делают всё меньше и меньше работы, а иногда и исчезают полностью. Например, в медицине есть врачи, которые работают и жертвуют собой, вылечивая больных, и есть управленцы от медицин либо члены профсоюза, которые проводят политику медицинских систем (управленцы) или защищают права медицинских работников (профсоюз). Железный закон заявляет: люди второго типа всегда захватят в организации власть, и всегда будут писать правила, по которым организация работает. Причем, чем больше по масштабу учреждение или медицинская система в целом, тем могущественнее они становятся. Разумеется, мы далеки от мысли, что в системе медицины и здравоохранения проявится этот феномен. Однако, в других капиталосоздающих сферах каждый богатый человек, непременно имеет замашки стать олигархом, чтобы защищать и преумножать свое богатство, увелчит свой рейтинг в политической системе страны.
Выше говорилось о том, что в условиях глобализма и экстропии, на фоне общего упадка нравственности и морали появились ряд социальных инфекций, имеющих потенциал перерасти в эпидемию. К таким социальным инфекциям можно отнести эвтанизацию, биочипизацию, биотехнологизацию, обуславливающие деморализацию человека и человеческого сообщества, деперсонализацию мира и окружающей действительности. Джером Д. Франк определил состояние деморализации как чувство несостоятельности, переживаемое в ситуации дистресса, описывая его как «этическую тень» тревожной депрессии: во-первых, низкая самооценка; во-вторых, безнадежность, беспомощность; в-третьих, страх, тревога, уныние. Синдром деморализации – это нарушения формирования и развития нравственных чувств и облика, позиции и поведения. Как отмечает П.И.Сорокин (2014) в патогенезе социальных эпидемий важное место занимает аномия нравственно-психологического статуса общественного и индивидуального сознания: во-первых, разложение прежней системы ценностей; во-вторых, противоречия между провозглашаемыми целями и невозможностью их реализации традиционными способами для большинства граждан страны; в-третьих, психологическая изоляция личности от общества и депрессивная разочарованность в жизни. Автор выделяет три главных направлений аномии: во-первых, межличностное – усиление взаимного недоверия, враждебности, соперничества и агрессивности, реакций изоляции, расслоения общества на субкультуры, включая экстремистские организации и секты парарелигиозного толка; во-вторых, культурное – крах прежних культурных ценностей и приоритетов, изменение устоявшихся правил интерпретации событий, возникновение конфликтных систем ценностей, со стояние идентификационной пустоты при отсутствии альтернативы; в-третьих, социальное – дезинтеграция и поляризация общества, кризис доверия к государственным институтам. Автор выделяет следующие блоки синдрома деморализации человеческого общества и дереализации окружающего мира.
Первое. Нарушение формирования и развития духовно-нравственных чувств: задержка и дисгармония формирования основных нравственных чувств: совести и долга, веры и ответственности; нарушения духовного развития; искажение самооценки и непонимание смысла жизни; y неготовность к полноценному индивидуально ответственному поведению; неразвитость нравственного самосознания личности и совести; неразвитость чувства патриотизма и гражданской солидарности; y моральная безответственность перед семьей и обществом, страной и будущими поколениями.
Второе. Нарушение формирования и развития духовно-нравственного облика: задержка и дисгармония формирования основ нравственного облика: терпения и толерантности, милосердия и гуманизма, чести и достоинства, свободы и независимости; дефицитарность творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; неготовность к социальной и профессиональной мобильности из-за низкой моральной мотивации y неспособность к непрерывному образованию «через всю жизнь»; истощаемость и несовершенство механизмов самосовершенствования и саморазвития; низкая толерантность и манипулятивность национального сознания, подверженность националистическим провокациям, взрывающим межэтнический мир и согласие.
Третье. Нарушение формирования и развития духовно-нравственной позиции: задержка и дисгармония формирования основ нравственной позиции: способности различения добра и зла, преодоления жизненных трудностей и испытаний, проявления дружбы и любви; неспособность принять базовые национальные ценности, национальные обычаи и традиции; снижение способности выражать и отстаивать свою личную позицию; некритичность оценок собственных мотивов и установок, намерений и мыслей; утрата видения перспективы жизни, пессимистично-катастрофическое восприятие мира и капитуляция перед трудностями; неспособность осознать личностную ценность других людей, ценность человеческой жизни, ментального здоровья и духовной безопасности личности; y неспособность к сознательному личностному, профессиональному и гражданскому самоопределению; девальвация веры в народ и страну из-за дефицита личной ответственности; y неготовность солидарно противостоять внешним и внутренним вызовам; непонимание безусловной ценности семьи и ее нравственных устоев: любви и взаимопомощи, уважения к родителям, заботы о младших и продолжении рода; нарушение духовной, культурной и социальной преемственности поколений.
Четвертое. Нарушение формирования и развития этики поведения и общения: задержка и искажение формирования морали как осознанной личностью необходимости определенного поведения, основанного на принятых в обществе представлениях о добре и зле, должном и недопустимом; истощение внутренней установки личности по ступать согласно своей совести из-за сниженной моральной мотивации свободы и воли; неспособность формировать собственные моральные обязательства и осуществлять нравственный самоконтроль, давать нравственную самооценку своим и чужим поступкам, требовать от себя выполнения моральных норм и соблюдать этику делового общения; деформация и утрата личностной и социальной идентичности; несамостоятельность и безответственность поступков и действий; повышенная внушаемость и зависть, конформизм и уход от личного морального выбора y низкая целеустремленность и трудолюбие, производительность труда и настойчивость в достижении результата; девальвация правосознания и законопослушности.
Согласно принцип «Пять W» – инструмента для сравнительного описания и интерпретации результатов «анализ-синтеза» конкретного вида социальной инфекции. Социальной эпидемией называется прогрессирующее во времени и пространстве той или иной идеи, концепций, системы взглядов среди значительного количества населения, обуславливающих с их стороны одинаковых стилей мышления и действий. В основе возникновения эпидемии лежит возбуждение и влечение как проявление основного психофизиологического явления, заключающегося в том, что люди испытывают повальное влечение к этой идее, суждения, концепции в качестве модного поветрия или давления обстоятельства. Здесь особую значимость приобретает сама идея, индуцирующая такое стремление людей. В связи со сказанным выше, если исходить из принципа «Пять W», то первый вопрос «Что?» – это сама по себе идеология «эвтанизации» и «биочипизации» как разновидности социальной инфекции современности. Именно эти идеи и соответствующие концепции являются первым звеном эпидемического процесса и составляют суть I фазы – фазы резервации. Как известно, резерватами вышеуказанных социальных инфекций являются не только определенные социальные группы людей (безнадежные тяжелобольные, старые беспомощные люди), а ткже общество, но и исследовательские подразделения, специализированные научные институты и центры, которые создаются с целью обеспечения необходимых условий для разработки соответствующих биочипов, а также социальная канализирования усилий определенной группы новаторов биотехнологического направления. Согласно концепции эпидемического процесса появление самой идеи, суждений и концепции по добровольному смертобеспечению, а также формирования их сторонников, с одной стороны, внедрение научно-технологического нововедения в виде биочипизации, с другой стороны, следует считать “возбудителями инфекции”.
Как известно, присутствие многих людей в одном пространстве уже само по себе действует на каждого из них возбуждающим образом. В настоящее время, «скопление людей» в интернет-пространстве также действует аналогичным возбуждающим эффектом на каждого человека. При этом каждого человека в такой сети следует воспринимать как источника, индуцирующего помешательство идеей эвтанизации и биочипизации. В связи со сказанным, если исходить из принципа «ПятьW», то вопрос «Кто?» – это человек, человеческая популяция, которые являются, с одной стороны, сторонниками и своеобразными проводниками идей эвтанизации, а с другой стороны, потребителями информационно-технологической продукции указанных двуединых социальных инфекций и звеном их распространения в обществе. Человек и общество являются главным проводником эпидемического процесса, именно они представляют собой II фазу – фазу эпидемического преобразования. На этом этапе развития социальной инфекции, бывшая однородной в фазе резервации со временем становится все более неоднородной вследствие появления восприимчивых к таким инфекциям лиц и увеличения их количества. Именно на этом этапе начинается непрерывное взаимодействие на видовом (человеческом) уровне «возбудителя инфекции» и человеком. Итак, уже на этапе резервации и преобразования вскрывается сущность эпидемического процесса, то есть внутренняя причины их развития, а также условия, в которых протекает действие причины. Нужно отметить, что систематизация материалов этих фаз позволяет ответить в общих формулировках на вопрос, почему развивается эпидемический процесс.
П.И.Сорокин (2014) приводит прогредиентный вариант развития эпидемической аддикции в четырех многомерных взаимозависимых плоскостях: социогенеза, психогенеза, соматогенеза и анимогенеза. Социогенез в определенной мере предопределяется нарушением структуры и функции родительской семьи, нарушением созревания и социализации личности в дисгармоничной среде. Патологическое зависимое поведение отличается наличием эпизодов измененных состояний сознания при реализации психической и физической зависимости, непреодолимостью и компульсивностью зависимости, стереотипизацией криминального стиля жизни, синдромом отмены. В исходе – тотальная социальная дезадаптация. Траектория эпидемического развития может измениться в точках бифуркации при мобилизации ресурсов адаптации, компенсации или защиты. В этом случае может меняться объект или стиль реализации зависимости. Ремиссия в синергетическом контексте означает переключение зависимой личности на иную модальность и поведенческую траекторию при со хранении зависимого паттерна. Психогенез в существенной мере предопределен преморбидной психопатологической отягощенностью, отличающейся эмоциональной и коммуникативной дефектностью, которые в дальнейшем проявляются аддиктивным радикалом психопатизации и деформации личности. У зависимой личности вне личностного расстройства появляются яркие реалистические реминисценции и фантазии на фоне инфантильности и внушаемости, простодушия, чувственной непосредственности, любопытства или высокой поисковой активности, максимализма и эгоцентризма, впечатлительности и нетерпеливости, склонности к риску и вызову опасности. Зависимые личностные расстройства характеризуются оскудением нормативной социальности, деформированием личности и эмоциональным выгоранием, неспособностью самостоятельно принимать решения за пределами криминального стиля жизни, сочетанием шизоидных черт личности с плохой переносимостью одиночества, что поддерживает развитие тревожной депрессии и толкает к совершению деликта, дающего временную психоэмоциональную разрядку.
В рамках вышеизложенного обращаем внимание на существование ряда моментов патогенеза. Соматогенез – нормативные психосоматические реакции, которые в дальнейшем переходят в функциональные психосоматические расстройства (органные неврозы) и соматоформные расстройства, клинически описывающие индивидуальные особенности формирующегося «синдрома отмены». Признаки зависимости могут обусловливать опасные агрессивные действия в рамках само- и взаимоиндукции при социальных эпидемиях и проявляться в следующих синдромах: во-первых, измененной реактивности; во-вторых, психической зависимости; в-третьих, физической зависимости. Анимогенез проявляется в «аддиктогенной сенсибилизации» внутреннего мира ребенка. Такая семья аномична по своей природе и с высокой вероятностью изначально маргинализирует подрастающее поколение, не оставляя шансов для полноценного формирования нравственных чувств и нравственного облика, предопределяя нарушения в подростковом возрасте моральной социализации и деформируя развитие личности. Уличная компания часто становится полигоном «тренингового закрепления» деформированного нравственного облика, с рудиментарными или несформированными социальными установками и представлениями о гуманизме, милосердии и толерантности. Все это приводит к деформации и деструкции нравственной позиции личности, дегуманизации и деэтизации сознания, утрате способности различения дефиниций добра и зла, про явлений дружбы и любви, готовности к преодолению жизненных испытаний.
Существует интегральная теория как социологической парадигмы П.И.Сорокина, выступающая в качестве системы знания, позволяющей постигнуть множество сложных явлений социокультурного мира в их динамике. Автор приходит к парадоксальному выводу о необходимости рассматривать право как «психическое явление», а правовые нормы – как «материальное воплощение» правовых убеждений, которые объективируются в устных суждениях, письменных законах, символически воплощаются в правовых обрядах, поведении и поступках людей. Автор, расширяя методологическую основу своих работ, включил наряду с эмпирическим и рациональным, интуитивный подход к исследованию социальных феноменов. Новаторство интегрального подхода к исследованию социокультурных изменений состоит в синтезе каузально-функционального и логико-смыслового подходов. Достоинство каузального метода автор видит в возможности упорядочить хаос вселенной посредством нахождения формул унификации или единообразия. Логико-смысловой метод также является одним из способов упорядочения хаоса. С его помощью устанавливается тождественность смысла или идентичность главной стержневой центральной идеи, связывающей вместе социокультурные явления. Новаторство П.И.Сорокина заключалось в том, что интегральная социология стала одной из первых попыток ликвидации противостояния и синтеза структурно-функциональной и интерпретативной парадигм, в значительной степени определившей направленность развития социологии ХХ века.
Нужно отметить, что внушение, постепенно приводимые к вовлечению к идее и действиям все большей массы людей, наблюдаются только в тех случаях, где объединенная рядом причин и побуждений массы является уже организованным целым, имеющим некий центр, от которого исходит внушение – специализированные центры эвтанизации, биочипизации. И чем быстрей и точнее выполняются внушения, чем более эти внушения носят характер внушений прямых – в смысле агрессивного и назойливого настаивания, тем совершенней организация, знаменующая собой наступление то там, то здесь эпидемических вспышек и эпидемического распространения. В этом аспекте, если исходить из принципа «ПятиW» то вопрос «Где?» – это место, очаг, ареол распространения. Как известно, эпидемический очаг – это место нахождения источника инфекции с окружающей его территорией в пределах которой возбудитель способен передаваться в массовом порядке от источника инфекции к людям, находящимся в контакте с ним. Причем, территориальные границы эпидемического очага зависят от трех основных обстоятельств: во-первых, устойчивость возбудителя к различным факторам; во-вторых, возможности контактов источников инфекции с людьми; в-третьих, механизма передачи инфекции. Нужно отметить, что «эвтанизация», «биочипизация» в единстве развития являются, безусловно, устойчивыми технологиями, имеют сверхэффективными средствами и безотказными механизмами распространения в виде интернет-сети и нейросети. Вначале ареал инфекции ограничиваются пределами исследовательской лаборатории или специализированной научно-информационной компании, а затем уже пределами одного населенного пункта, области, региона, страны, а далее континентов и планеты в целом. Они составляют суть III фазы – фазы распространения. Для эффективного заражения необходима масса воспримчивых к идее, концепциям и технологиям людей.



