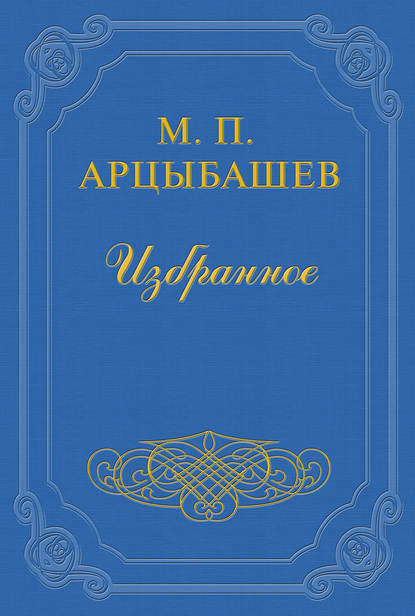 Полная версия
Полная версияБунт
Николай Ивановичъ, отецъ Дмитрія Николаевича, сидѣлъ за работой у себя въ кабинетѣ, хорошо обставленной уютной комнатѣ. Онъ былъ писатель, и теперь кончалъ одинъ изъ своихъ разсказовъ. Увидѣвъ сына, отложилъ перо и, избѣгая смотрѣть на него, что вошло ему въ привычку за послѣдніе дни, когда между ними явилось это невысказанное непріятное чувство, встрѣтивъ его притворно-беззаботнымъ возгласомъ:
– А, это ты… А я думалъ, ты еще не пріѣзжалъ.
– Давно уже дома, – отвѣтилъ Дмитрій Николаевичъ такимъ же притворно-беззаботнымъ голосомъ.
Онъ сѣлъ противъ отца и, взявъ со стола папиросу, сталъ закуривать. Отецъ смотрѣлъ на него искоса съ мучительнымъ и огорченнымъ выраженіемъ. Какъ разъ сегодня онъ говорилъ съ женой о сынѣ, и у нихъ было рѣшено деликатно поговорить съ нимъ. Но ему хотѣлось, чтобы сынъ самъ заговорилъ объ этомъ и тѣмъ доказалъ, что онъ вѣритъ ему и уважаетъ его.
«Кажется, я могу разсчитывать на это?» говорилъ Николай Ивановичъ, намекая не на отцовскія права, а на свою литературную дѣятельность, въ честности и передовитости которой онъ никогда не сомнѣвался. Ему казалось, что написать три книги такихъ разсказовъ, какіе написалъ онъ, хорошее и большое дѣло, и въ правѣ его на уваженіе и довѣріе всѣхъ никто не можетъ сомнѣваться.
И ему было очень пріятно, что сынъ началъ самъ.
– Слушай, папа, – съ усиліемъ заговорилъ Дмитрій Николаевичъ, притворяясь, что небрежно слѣдитъ за клубами дыма: – я замѣтилъ, что ты мною недоволенъ, и знаю, за что, но… только…
Николай Ивановичъ, волнуясь, всталъ и заходилъ по комнатѣ.
– Ну, да… я знаю, я знаю, – перебилъ онъ, мучительно краснѣя, – что жъ, по существу въ этомъ нѣтъ ничего такого… и если мы съ матерью… то только ради тебя…
Дмитрій Николаевичъ былъ очень радъ, что отецъ говоритъ самъ, и молчалъ, уставившись въ узоръ ковра.
«Но если нѣтъ ничего въ этомъ позорнаго, то отчего же мы всѣ такъ волнуемся?» – невольно пришло ему въ голову.
– Видишь ли, – рѣшившись прямо перейти къ этому вопросу, продолжалъ отецъ, – я самъ былъ молодъ, конечно, – онъ робко улыбнулся, – и не безупреченъ въ этомъ отношеніи… да и никто не безупреченъ, всѣ люди, всѣ человѣки, – опять улыбнулся онъ и заторопился, – это физіологическая потребность, тутъ ничего не подѣлаешь, но зачѣмъ же подчеркивать это? Если ты чувствовалъ себя виноватымъ по отношенію къ этимъ жертвамъ общественнаго темперамента, то ты могъ бы принять такое или иное участіе въ обществахъ… благотворительныхъ, но такъ… право, Митя, выходитъ некрасиво!.. Ты прости меня…
Дмитрій Николаевичъ покраснѣлъ и еще упорнѣе сталъ изучать узоръ на коврѣ. Ему ясно припомнилось, что онъ и самъ чувствовалъ все время что-то грязное въ этой исторіи и не могъ понять, что именно.
– Я, ты знаешь, – помолчавъ, точно дожидаясь отвѣта и не дождавшись, проговорилъ отецъ, – самъ не мало поработалъ надъ этимъ вопросомъ, лѣтъ десять тому назадъ меня даже звали въ шутку ангеломъ-хранителемъ этихъ дамъ, и врядъ ли не лучшія мои вещи написаны ради уясненія обществу его отвѣтственности передъ этими несчастными!..
Дмитрій Николаевичъ значительно кивнулъ головой. Хотя онъ и говорилъ сестрѣ о томъ, что отецъ врядъ ли пойметъ его, но въ глубинѣ души чрезвычайно гордился отцомъ, какъ писателемъ.
– Ну, вотъ, – обрадовался отецъ, – и я не могу не радоваться тому, что ты сдѣлалъ, по идеѣ… но это надо было не такъ… И, знаешь, разъ уже ты запутался, я готовъ дать тебѣ денегъ… пристрой ее въ мастерскую… въ какую-нибудь. Но самому тебѣ принимать близкое участіе не стоитъ… Невольно у всякаго является мысль о томъ, гдѣ ты съ ней познакомился и какія у васъ отношенія теперь… Хотя я, конечно, увѣренъ, что теперь ничего нѣтъ… Это было бы уже совсѣмъ… нехорошо! – съ искреннимъ чувствомъ сказалъ Николай Ивановичъ.
Какъ и сынъ, онъ не уяснялъ и не могъ бы уяснить, почему именно это нехорошо, но былъ твердо въ этомъ увѣренъ. А Дмитрію Николаевичу показалось, что онъ ударилъ его этими словами. Онъ безпокойно зашевелился и бросилъ папиросу, но въ слѣдующую минуту, какъ и всегда, когда онъ открывалъ въ себѣ что-нибудь дурное, Дмитрій Николаевичъ подыскалъ оправданіе:
«Но вѣдь теперь совсѣмъ не то, тогда было свинство… развратъ, а теперь я… совершенно искренно, я…» Но это оправданіе испугало его еще больше, чѣмъ слова отца.
И Николай Ивановичъ замѣтилъ это по его лицу и, понимая въ другомъ смыслѣ, заторопился кончить свое объясненіе:
– Я понимаю, что тебѣ это тяжело, и мнѣ самому непріятно… Но ты понимаешь, что я рѣшился только для твоего же блага… Повторяю, исторія, въ основаніи которой лежитъ самое благородное чувство, благодаря обстановкѣ, такъ сказать, принимаетъ некрасивую окраску… Притомъ ты знаешь наши нравы, знаешь, какъ на это посмотрятъ… пойдутъ сплетни и даже, какъ я замѣтилъ, уже и пошли… Объ этомъ постарался Гвоздиловъ, конечно… Ты сдѣлалъ большую ошибку, что заговорилъ съ нимъ… Попросилъ бы лучше Истаманова, что ли.
И, желая приласкать сына и затереть въ немъ дурное впечатлѣніе отъ объясненія, Николай Ивановичъ слегка обнялъ его и ласково проговорилъ:
– Мы съ матерью такъ любимъ тебя и уважаемъ, что намъ больно было бы, если бы твое имя хоть однимъ краемъ волочилось въ грязи… А ты знаешь, что для дурныхъ людей этого достаточно…
Въ сосѣдней комнатѣ раздался голосъ его жены и Нюни. И, торопясь, Николай Ивановичъ быстро договорилъ:
– Не правда ли, съ этимъ вопросомъ покончено?.. Да вѣдь и сдѣлалъ ты совершенно достаточно! Чего жъ еще… Передай ей эти деньги и все прекрасно кончится!
Онъ торопливо отодвинулъ ящикъ стола и, вынувъ, очевидно, заранѣе приготовленную пачку кредитокъ, неловкимъ и боковымъ движеніемъ отдалъ сыну.
– Ты очень добръ! – смущенно пробормоталъ Дмитрій Николаевичъ.
Они пожали другъ другу руки, какъ два друга. Такія отношенія нравились имъ обоимъ.
Провожая сына до дверей, Николай Ивановичъ съ нѣжнымъ удовольствіемъ смотрѣлъ въ его еще нѣжное, но уже мужественное, красивое лицо и хотѣлъ сказать:
«А главное, я боюсь, что ты увлечешься этой… такіе благородные, милые юноши легко увлекаются идеей спасенія этихъ тварей; я самъ когда-то чуть не женился на проституткѣ… А это было бы ужасно!»
Но онъ не сказалъ этого и вернулся къ своей работѣ съ умиленнымъ чувствомъ гордости своимъ сыномъ и воспоминанія о томъ времени, когда онъ искренно мечталъ спасти проститутку и возродить ее къ новой жизни.
«Она ушла тогда отъ меня… а то бы… И слава Богу, во время убѣдился, что если кто желаетъ ихъ спасенія, то это спасающіе, а не спасаемыя!»
И, закуривъ папиросу, Николай Ивановичъ серьезно и вдумчиво сталъ писать.
XI
Въ тотъ же день къ вечеру Дмитрій Николаевичъ пѣшкомъ пошелъ на Васильевскій Островъ къ одному изъ своихъ товарищей, котораго очень любилъ, съ тѣмъ, чтобы разсказать ему все и попросить совѣта, какъ лучше устроить дѣло съ Сашей. Онъ самъ не зналъ, когда именно пришло ему въ голову такое рѣшеніе, но оно уже было непоколебимо, хотя и мучило его.
Дорогой онъ все вспоминалъ, въ какомъ невѣроятно жизнерадостномъ и даже блаженномъ настроеніи вышелъ онъ днемъ изъ больницы. Все казалось ему хорошо, мило, прекрасно. И санки извозчика, и галки на снѣгу, и городовые съ усатыми лицами, и собственное тѣло, въ которомъ было бодрое и куда-то влекущее чувство. Ему было трудно уйти отъ Саши, и была одна минута, когда онъ чуть не назначилъ ей свиданіе, но, уже выйдя, онъ вспомнилъ и застыдился этого желанія, хотя оно было пріятно ему. И всю дорогу онъ вспоминалъ, какъ медленно и жгуче они цѣловались, и у него кружилась голова и напрягалось желаніемъ тѣло.
Теперь онъ шелъ сумрачный и разстроенный.
«Отецъ говоритъ, что теперь это было бы слишкомъ гадко… И я самъ такъ думаю, – съ удовольствіемъ отмѣтилъ онъ, что думаетъ совершенно такъ, какъ умный и писатель отецъ. – А если теперь нельзя, то какое же право я имѣлъ цѣловать ее?.. Какое-то имѣлъ!.. Было пріятно и ничуть не стыдно… А теперь стыдно! Неужели я въ нее былъ влюбленъ тогда?.. Это глупости… Вѣдь, что тамъ ни говори, она – публичная дѣвка! И… не могу же я ее любить!»
Но ему было очень пріятно вспоминать каждое слово и каждое движеніе Саши. Ея бѣленькое платье, такое чистое, пахнущее свѣжей матеріей, и такъ къ ней шедшее, мелькало у него въ глазахъ.
«Просто похоть!» грубо подумалъ онъ, чтобы успокоить себя, и хотя всегда считалъ похоть дурнымъ чувствомъ, но это объясненіе его успокоило, такъ страшна для него была мысль, что онъ могъ бы влюбиться въ бывшую публичную женщину, какова бы она ни была теперь.
«И надо кончить все это сразу… Папа правъ совершенно! И какой я дуракъ, у другого бы это вышло просто, легко и красиво, a y меня вышло такъ грубо, стыдно… и самъ я запутался некрасиво!.. Какой я несчастный! Почему мнѣ ничего не удается?.. Вѣдь я хотѣлъ самаго хорошаго, а выходитъ грязь!.. А почему грязь?.. Это не потому, что я ее вытащилъ, и не потому, что я ее цѣловалъ въ больницѣ… А почему же? – съ отчаяніемъ подумалъ Дмитрій Николаевичъ. – А потому, вѣдь, что на одну минуту я допустилъ возможность какой-то близости между собой и ею, допустилъ какъ будто… что я могу любить женщину, которая всѣмъ отдавалась… Я съ нею какъ бы сталъ рядомъ, и вмѣсто спасителя сталъ близкимъ ей человѣкомъ!.. Вотъ и грязь!.. А вѣдь она въ меня влюблена! – вдругъ спохватился онъ съ ужасомъ. – О, какъ это тяжело все! Надо кончить, надо кончить!.. Конечно, дамъ ей денегъ на машинку, на прожитіе первыхъ мѣсяцевъ… И больше никто отъ меня не можетъ ничего требовать!» – съ ожесточеніемъ противъ чего-то, что смутно, но упорно-тоскливо стояло у него въ груди, чуть не вслухъ проговорилъ Дмитрій Николаевичъ, подходя уже къ дому, гдѣ жилъ студентъ Василій Ѳедоровичъ Семеновъ.
Семеновъ былъ боленъ чахоткой, а потому всегда сидѣлъ дома, и теперь встрѣтилъ пріятеля желтый и сумрачный отъ усилившагося къ вечеру и отъ сырой погоды кашля.
– А, это ты, – сказалъ онъ, отворяя дверь. Въ его комнатѣ, несмотря на открытый отдушникъ, было сильно накурено табакомъ, отъ котораго Семеновъ не отставалъ, хоть и былъ боленъ грудью.
– Опять куришь! – съ дружескимъ и соболѣзнующимъ чувствомъ сказалъ Рославлевъ, снимая шинель и шапку.
– Все равно… – неопредѣленно махнулъ рукой Семеновъ, и въ его голосѣ не было иного чувства, кромѣ тупого равнодушія.
– Ну… – проговорилъ Рославлевъ, сѣлъ и, закуривая папиросу, сейчасъ же заговорилъ о томъ, что его занимало.
– Я къ тебѣ по дѣлу… а?
– Ну? – равнодушно протянулъ Семеновъ, морщась отъ мучительнаго приступа кашля, который онъ старался, напрягая грудь, удержать. Ему все казалось, что его болѣзнь, и кашель, и то, что онъ выплевываетъ мокроту, и его постоянно окровавленный, заплеванный платокъ возбуждаютъ въ людяхъ не состраданіе, какъ они стараются показать, а брезгливое чувство. Когда онъ кашлялъ или шелъ въ переднюю выплюнуть мокроту, онъ чувствовалъ, что на него стараются не смотрѣть, отворачиваются, и самъ себѣ онъ казался тогда грязнымъ, противнымъ, мокрымъ пятномъ, около котораго даже стоять противно. И всегда въ такихъ случаяхъ онъ сознавалъ, что не виноватъ въ болѣзни и въ ея симптомахъ, что имѣетъ право болѣть, плевать, кашлять, что никто не смѣетъ презирать его за это, и все-таки страдалъ и чувствовалъ страшную ненависть ко всѣмъ.
Отъ Рославлева за три шага слышенъ былъ свѣжій, пріятный запахъ холоднаго воздуха, принесеннаго со двора, и молодого, сильнаго человѣка. Этотъ бодрый и сильный запахъ входилъ въ легкія Семенова и былъ пріятенъ имъ и мучительно тяжелъ и ненавистенъ его, измученному болѣзнью и страхомъ, смерти сознанію.
– Ну? – повторилъ онъ и, не удержавшись, закашлялся, брызнувъ тонкими, запекшимися губами.
– О, чортъ! – съ безконечной ненавистью и къ себѣ, и къ кашлю, и къ Рославлеву прохрипѣлъ онъ.
Рославлевъ, именно съ тѣмъ чувствомъ, которое подозрѣвалъ Семеновъ, съ брезгливой жалостью сильнаго и красиваго къ больному и безобразному, смотрѣлъ въ сторону, но думалъ не о немъ, a o томъ, какъ начать.
Когда Семеновъ пересталъ кашлять, отошелъ отъ плевательницы и сѣлъ на кровать, потирая грудь рукою, Рославлевъ заговорилъ:
– Помнишь, я тебѣ разсказывалъ о той проституткѣ, что…
– Помню, – отвѣтилъ Семеновъ, вовсе не помня, сказалъ потому, что ему все хотѣлось перебить здоровый и красивый голосъ. – По проституткамъ ходишь… – зачѣмъ-то прибавилъ онъ.
Рославлевъ вскинулъ на него удивленными глазами и, не смущаясь, весело возразилъ:
– Нельзя… – всѣ люди… – и, уже сказавъ это, вспомнилъ о болѣзни Семенова и неловко замолчалъ.
Молчалъ и Семеновъ, машинально крутя пальцами тощую и маленькую бородку.
– Ну, такъ что, – спросилъ онъ опять.
– Да, – оживляясь, заговорилъ Рославлевъ, – я ее оттуда взялъ и пристроилъ въ пріютъ этотъ… ну, a она… можешь себѣ представить, въ меня влюбилась!
И при этихъ словахъ Рославлевъ вспомнилъ Сашу, такую чистенькую и свѣжую, какою онъ обнималъ и цѣловалъ ее въ больницѣ, и ему стало странно, что онъ о ней говоритъ «проститутка» такимъ смѣющимся и легкимъ голосомъ.
– Что же тутъ удивительнаго, – улавливая его презрительный тонъ и почему-то обижаясь за проститутку, точно за самого себя, возразилъ Семеновъ. – Ты ее «спасъ»… спаситель… хм!..
Рославлеву, хотя онъ былъ увѣренъ, что это прекрасно и что онъ точно – спаситель, стало смѣшно и неловко.
– Нѣтъ, въ самомъ дѣлѣ, – смѣясь, говорилъ онъ, – влюбилась… – И прежде, чѣмъ успѣлъ сообразить, прибавилъ: – и, знаешь, она просто прелесть какая хорошенькая!..
– И ты въ нее влюбился? – усмѣхнулся Семеновъ, и усмѣшка у него вышла добродушная. Рославлевъ сначала улыбнулся, но сейчасъ же и отвѣтилъ:
– Глупости. Какая тутъ можетъ быть любовь! Просто мнѣ жалко стало, когда она руку поцѣловала, ну и… вообще, она хорошенькая, и я же ее зналъ и раньше.
– Значитъ, ты и послѣ «спасенія» съ нею «того»? – спросилъ Семеновъ съ злой насмѣшкой.
– Нѣ-ѣтъ, что ты! – искренно считая это гадкимъ, сказалъ Рославлевъ и покраснѣлъ.
– Чего жъ ты?
Рославлевъ замялся, съ испугомъ припоминая то, что было между нимъ и Сашей въ больницѣ.
– Да что… Я знаю, что это нехорошо! – довѣрчиво прибавилъ онъ, разсказывая Семенову уже все, что съ нимъ случилось.
Семеновъ молчалъ и слушалъ, все такъ же покручивая тонкіе волоски безцвѣтной бородки и такъ же удерживая кашель. И въ этой комнатѣ съ затхлымъ лекарственнымъ запахомъ, около маленькой и плохой лампы, въ присутствіи молчаливаго больного человѣка, съ озлобленнымъ на все лицомъ, было такъ неумѣстно и странно то, что онъ разсказывалъ, что Рославлевъ замолчалъ и смотрѣлъ на Семенова.
– Василій Ѳедоровичъ! – позвала тонкимъ голосомъ мѣщанка, хозяйка Семенова, изъ-за перегородки.
– Чего? – отозвался Семеновъ, не поворачивая головы.
– Чай будете пить?
– Давайте.
Послышалось звяканье посуды, скрипнула дверь, и тощая беременная женщина въ платочкѣ принесла синій чайникъ и другой, – бѣлый, маленькій, два стакана изъ толстаго стекла и ситный хлѣбъ. Пока она устанавливала все это на столъ, студенты молчали.
– Сами заварите?
– Самъ, – отвѣтилъ Семеновъ.
Она ушла, натягивая концы платка на тяжелый, круглый животъ.
Семеновъ досталъ чай и насыпалъ его въ чайникъ. Рославлевъ внимательно смотрѣлъ на это и въ душѣ у него было недоумѣлое и обидчивое чувство.
– «Чего жъ онъ молчитъ?.. Знаетъ, вѣдь, какъ мнѣ трудно было все высказать, и молчитъ!.. А, впрочемъ, чего я отъ него хочу?.. Онъ и не пойдетъ… Лучше просто написать… конечно, лучше написать!»
– Ну, что же ты скажешь? – неловко и противъ воли спросилъ онъ.
– Что? – равнодушно спросилъ Семеновъ.
– Да вотъ… насчетъ всей этой «исторіи»? – притворяясь улыбающимся и уже съ досадой, весь наливаясь кровью и боясь, чтобы Семеновъ этого не замѣтилъ, пробормоталъ Рославлевъ.
– А что я тебѣ скажу? – сердито отозвался Семеновъ. – Глупости все это.
– Какъ?
– Да такъ… Я тебя и не понимаю вовсе: какого ты чорта взялся за это дѣло и чего теперь мучаешься.
– Странное дѣло, – обидчиво возразилъ Рославлевъ. – Чего взялся?.. А ты бы не взялся?
– Нѣтъ, – упрямо сказалъ Семеновъ.
– Тѣмъ хуже для… – усмѣхаясь, сказалъ Рославлевъ.
– Нѣтъ, не хуже! – визгливо крикнулъ Семеновъ и вдругъ опять мучительно и тяжело раскашлялся. Онъ хрипѣлъ, задыхался, плевался и отхаркивался, и все его тщедушное тѣло дрожало и извивалось.
Рославлевъ, не глядя на него, ждалъ, когда это кончится, и ему было досадно отъ нетерпѣнія и невольно хотѣлось крикнуть: «Да перестань ты!..»
Семеновъ, тяжело дыша, замолчалъ, вытеръ наполнившіеся слезами глаза и холодный мокрый лобъ и всталъ.
– Какое ты-то право имѣлъ ее «спасать»? – заговорилъ онъ, задыхаясь. – Подумаешь, спаситель!.. Спасители…
– Когда человѣкъ тонетъ…
– А другой по уши увязъ, – съ насмѣшкой перебилъ Семеновъ. – Скажи мнѣ, пожалуйста, ты-то живешь добродѣтельно?
– Странное дѣло… сравнительно, – почему то смущаясь, пробормоталъ Рославлевъ.
– Сравнительно!.. – визгливо передразнилъ Семеновъ. – Всякій человѣкъ сволочь, и ты сволочь и она сволочь. Ты самъ, какъ и всѣ, такъ же далекъ отъ идеала нравственной чистоты, какъ и она, а небось, если бы тебя спасать вздумали, ты бы даже въ негодованіе пришелъ…
– Ну, это что! – протянулъ Рославлевъ, – можно все сравнять, а… все-таки она – публичная женщина, а я…
– А ты – человѣкъ, который этой публичной женщиной пользуешься!.. А впрочемъ и не въ томъ дѣло… Скажи ты мнѣ на милость, за что мы это такъ презираемъ эту самую «публичную женщину»? Что онѣ… зло кому-либо дѣлаютъ?.. Вѣдь у насъ воровъ, убійцъ и насильниковъ всякихъ меньше презираютъ… Себя-то презирать трудно, такъ давай другого презирать за свои же… А впрочемъ и это не то, – перебилъ себя Семеновъ, махнулъ рукой и сталъ наливать чай.
– А, что? – глядя на него съ удивленіемъ, спросилъ Рославлевъ.
«Нѣтъ, его нельзя просить объ этомъ!» – сказалъ онъ себѣ съ досадливымъ чувствомъ.
– Да что… ни къ чему все это! – грустно проговорилъ Семеновъ и замолчалъ. Рославлевъ помолчалъ тоже.
– Вотъ ты говоришь, кому онѣ зло дѣлаютъ, – нерѣшительно заговорилъ онъ, подыскивая слова, чтобы высказать свою просьбу, и не находя ихъ: – а сифилисъ развѣ не зло?
Семеновъ вдругъ сдержанно и грустно улыбнулся.
– Болѣзнь, братъ, всякая – зло, самое скверное зло… это я тебѣ скажу! И сифилисъ – зло… но только, если бы я могъ, – вдругъ опять озлобляясь, заторопился онъ, расширяя зрачки, – такъ я бы эту дрянь, которая слюнки распускаетъ за всякой бабой, заражается, а потомъ еще и хнычетъ, и лѣчить бы не сталъ!..
«Нѣтъ, его нельзя просить», – опять подумалъ Рославлевъ и всталъ.
– Ну, ты, братъ, сегодня какой-то… Пойду я лучше на бильярдѣ поиграю…
– И я тебѣ еще вотъ что скажу, – машинально подавая ему руку и не замѣчая, что онъ уходитъ, продолжалъ Семеновъ: – если люди хотятъ и считаютъ нужнымъ исправлять другихъ, такъ это прежде всего – ихъ собственное желаніе… ну, ихъ собственная потребность тамъ, что-ли… А въ такомъ случаѣ не ихъ должны униженно благодарить за это, а они должны прилагать всѣ старанія, чтобы еще удостоились другіе исправляться-то по ихнему!.. Вотъ!
Рославлевъ, уже надѣвшій шинель и фуражку, безсмысленно посмотрѣлъ на него и сказалъ:
– Къ чему это ты?
– Да ты же вотъ… самъ лѣзешь съ исправленіями и самъ же…
– Да она сама попросила.
– Сама?.. Да ты же разсказываешь, что она въ тебя влюбилась… Она… она у тебя счастья, человѣка искала… ей постоянное животное презрѣніе опротивѣло… А ты что ей преподнесъ? Добродѣтель картонную… Да развѣ нужна добродѣтель несчастному человѣку? Эхъ, вы!..
– Что ты говоришь, ей-Богу..?! – съ досадой сказалъ Рославлевъ, уходя.
Но Семеновъ со злобой и съ накипающими почему-то слезами жалости къ самому себѣ пошелъ за нимъ въ темную переднюю. Рославлевъ возился съ калошами, а Семеновъ продолжалъ говорить.
– Неужели ты до сихъ поръ не понимаешь, что добродѣтель нужна и хороша только сытому брюху!
– Слыхали мы это! – пробормоталъ Рославлевъ, котораго начало тяготить это, непонятное ему, озлобленіе и хриплый, тонкій голосъ больного.
– Нѣтъ, не слыхали! – закричалъ Семеновъ со злыми слезами въ голосѣ и размахивая руками. – А это правда! Я тебѣ это говорю… Я вотъ умираю и знаю это теперь… теперь меня никто не надуетъ жалкими словами! Счастье нужно, здоровье нужно, но умирать нужно, а не… вотъ…
Рославлевъ взялъ его за пуговицу и, глядя ему въ лицо сверху внизъ, добродушно проговорилъ:
– Ну, счастье… Я тебя и хочу просить… Я больше всего хочу, чтобы она была счастлива… – и лицо у него стало самодовольно-скромное.
– А ты женись на ней… любитъ тебя и женись!.. Вотъ и счастье… пока, на первый случай!..
– Глупости, – искренно и машинально засмѣялся Рославлевъ, – а мнѣ въ самомъ дѣлѣ кажется, что она не на шутку того… Голубчикъ, пойди къ ней завтра… она въ больницѣ теперь сидѣлкой… Отдай ей деньги и скажи, что это отъ меня на машинку и тамъ… А то, ей-Богу, невозможное положеніе получилось… Чортъ знаетъ, что такое… Вѣдь не могу же я на ней въ самомъ дѣлѣ жениться!
Семеновъ молча посмотрѣлъ въ его покраснѣвшее, пухлое и здоровое лицо.
– И какая же ты дрянь! – съ страшной ненавистью задавленнымъ голосомъ проговорилъ онъ.
– Что? спросилъ, не разслышавъ Рославлевъ. Онъ былъ почти вдвое больше Семенова, и отъ всего его здороваго тѣла дышало страшной силой и самоувѣренностью.
– Дрянь ты, говорю! – повторилъ Семеновъ, но противъ воли его голосъ былъ уже шутливый и игривый.
– Ну, пускай! – самодовольно и весело улыбнулся Рославлевъ. – А ты все-таки будь другомъ, устрой это дѣло… а?
Жидкіе волосы прилипли къ холодному лбу Семенова, ему было трудно стоять, жалко себя и стыдно того, что онъ сказалъ.
– Хорошо, – проговорилъ онъ и скосилъ глаза въ уголъ.
Рославлевъ крѣпко и дружелюбно пожалъ ему руку.
– Ну, вотъ спасибо! А теперь я пойду… Такъ сходишь завтра?
– Схожу.
– Ну, до свиданья.
– До свиданья,
Рославлевъ отворилъ дверь и вышелъ на лѣстницу, оборачиваясь и улыбаясь Семенову. Дверь затворилась, и слышно было, какъ онъ медленно спускался внизъ. Семеновъ остался одинъ въ полутемной передней. Съ минуту онъ стоялъ неподвижно и все больше и больше блѣднѣлъ, а потомъ вдругъ сорвался съ мѣста, выскочилъ на холодную лѣстницу и, перегнувшись всѣмъ тѣломъ черезъ перила, сорвавшимся голосомъ, съ невѣроятной злостью и презрѣніемъ изо всѣхъ силъ крикнулъ въ пустоту:
– Сволочь проклятая!
Голосъ гулко задробился въ пустыхъ пролетахъ лѣстницы, а Семеновъ, дрожа всѣмъ тѣломъ и отъ пронизывающаго холода, и отъ злого возбужденія, долго прислушивался, свѣсившись внизъ, пока ему не стало чего-то жутко въ этомъ пустомъ молчаливомъ мѣстѣ, слабо освѣщенномъ плохими коптящими лампочками.
XII
Дежурная сидѣлка, измучившаяся за ночь, разбудила Сашу и прошла будить другихъ. Было еще совсѣмъ темно, въ окна проникалъ только слабый, тоскливый и тусклый сѣрый свѣтъ, было сыро и холодно въ огромномъ, остывшемъ за ночь, сыромъ зданіи. Вся дрожа такъ, что зубы дробно стучали, и чувствуя какъ все тѣло сжимается, покрываясь непріятными пупырышками, Саша торопливо одѣлась. На другихъ кроватяхъ тоже молча дрожали смутно видныя въ полумракѣ сидѣлки. Та, которая будила, не раздѣваясь, повалилась на сосѣднюю кровать и сейчасъ же заснула; Саша видѣла ея блѣдное, казавшееся мертвымъ и синимъ при блѣдномъ свѣтѣ, лицо, съ замученными, впавшими щеками и темными вѣками.
Все еще дрожа и стараясь собственными движеніями согрѣться и удержать дрожь, Саша пошла внизъ, въ столовую для служащихъ. Столовая была въ подвальномъ этажѣ и въ ней было еще холоднѣе и сырѣе и такъ темно, что горѣли электрическія лампочки, подвѣшенныя къ низкому сводчатому потолку.
За такимъ же точно зеленоватымъ столомъ, какіе были въ пріютѣ, Саша, торопясь и обжигая губы, напилась чаю, грѣя лицо и руки надъ горячимъ паромъ.
– Рукъ не отогрѣешь! – проговорила она.
Сидѣвшая рядомъ толстая и старая сидѣлка молча посмотрѣла на посинѣвшія руки Саши и равнодушно отвернулась.
«Экія всѣ непривѣтливыя!» – подумала Саша. – «Всѣ тутъ такія!».
Она уже замѣтила это и поняла, что это оттого, что работа тутъ очень тяжелая, скучная, противная, и живутъ сидѣлки скучно, однообразно, постоянно другъ у друга на глазахъ, среди однообразно мучающихся, тяжело пахнущихъ, капризничающихъ, однообразно умирающихъ людей.
«Ну, и жизнь!» – подумала она, вставая и относя свою кружку на мѣсто. – «Вотъ ужъ ни за что не осталась бы тутъ!.. А вонъ живутъ же, тутъ и старѣютъ… ни свѣта, ни радости! Господи… Кабы не Митенька, такъ бы и плюнула на все…»
– Козодоева, васъ больная зоветъ! – сказала сидѣлка и прошла, звякая пузырьками.
Саша вздохнула, поправила волосы и пошла опять наверхъ по пустой, черезчуръ широкой и чистой лѣстницѣ, по которой странно-дико отдавались ея шаги.

