
Полная версия:
До свадьбы доживет
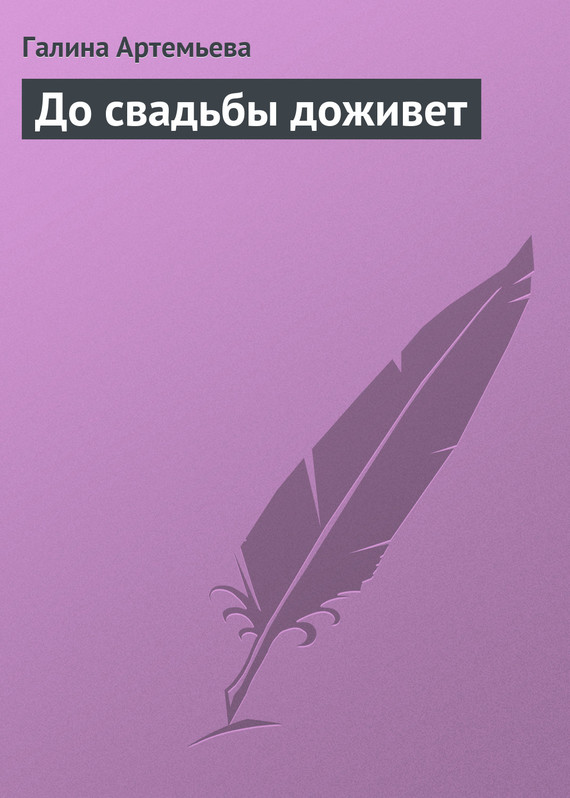
Галина Артемьева
До свадьбы доживет
«О несчастье! Оно является опорой счастья. О счастье! В нем заключено несчастье. Кто знает их границы? Они не имеют постоянства.»
Лао-Цзы.Пакт о нерычании
– Я ухожу! Не беги за мной! Ложись спать! В домик, в домик! Иди! Ты почему не спишь в своем домике, диво дивное, а? Иди быстро в домик!
– Уааааа! Гаааав!
– Нет, ну так мы не договаривались! Ты же обещала! Мы же с тобой пакт составили еще вчера! Ну-ка, давай еще раз: «У меня, распрекрасной собаки по имени Клава, есть собственный домик по адресу Садовая Кудринская улица, дом 23, пятый этаж, квартира со звонком, до которого я дотягиваюсь и сама звоню.» Так? Было дело? Составляли пакт?
– Гааааафффффррррр!
– Подтверждаешь, значит? А что дальше – помнишь? «Я, распрекрасная и любимая собака по имени Клава, проживающая по тому же адресу, что и мой домик, обязуюсь в нем спать, когда остаюсь одна в квартире. Я не вою, не лаю, не рычу под дверью, а тихо сплю в своем собственном домике. Честно и верно.» Ну? Чего смотришь? Ведь мы договаривались? Да! Иди уже, спи. И Лукаша твоя скоро-скоро придет. Нет смысла затеваться с вытьем. Тебя тут кто-нибудь бросал? Не кормил? Не любил? Вот! То-то же! Самой же стыдно! Ну, давай поцелую на прощанье. Вот так. Ой, ты же мне помаду сожрала, чудовищная любимая собака! Клава! Все! Иди в домик по-хорошему. До скорого!
Клава все-таки послушалась и залезла в свой домик. Ну, «домик» – это скромно сказано. Скорее, большой разноцветный мягкий терем, который пришлось шить на заказ, потому что на Клавин размер собачьи жилплощади в зоомагазине на Арбате не продаются.
Тина повернула ключ в замке и прислушалась. Пока тихо. Клава вроде бы решила соблюдать пакт о нерычании на проходящих по лестничной площадке мимо дверей их квартиры. Или чует хитрюга, что мама еще не ушла? Ума у Клавы было столько, что Тина и Лукаша не уставали удивляться.
Появилось это удивительное существо в самый страшный период их жизни, начавшийся девять месяцев назад. Девять месяцев – срок особенный. За это время можно выносить и родить дитя человеческое. А некоторым вот удается просто не сдохнуть и поверить, что жизнь продолжается. И это тоже великое достижение! К этим некоторым Тина, естественно, относила прежде всего себя. Она глянула на экран телефона и поразилась: 15 июня! Ровно девять месяцев прошло с того сокрушительного сентябрьского дня, и она не только жива, но снова умеет улыбаться и даже шутить.
Девять месяцев назад
О том дне лучше не вспоминать, но пока выгнать его насовсем из памяти у нее не получается. Тина, даже и не вспоминая, знает: в определенном месте ее души гнездятся смертельная боль и тоска. И хотя время лечит, что проверено и подтверждено ею же самой не раз, но рана, нанесенная самым дорогим и близким человеком пятнадцатого сентября – девять месяцев назад, – пока не затянулась, хотя теперь с болью от нее можно как-то договориться и вполне мирно сосуществовать.
Когда подобное случается с другими (а оно случается, и, увы, слишком часто, чтобы кто-то удивился подобной новости), так вот – когда с другими происходит нечто подобное, все воспринимается почти как норма. Ну – теперь так. Теперь – такая жизнь. Белое в один миг становится черным. И нечего из-за этого с ума сходить. Надо пережить, подняться, отряхнуться и – шагай себе по просторам дальше, как ни в чем не бывало! Но это – когда с другими. А вот, когда с тобой происходит такое – тут все рассуждения отменяются, разум отключается, и ничего наперед неизвестно: как встать, от чего отряхнуться и – зачем дальше жить, если позади пропасть, а впереди бездна?
Хорошо начинался тот сентябрьский день. Дочь Лукерья, она же Лука, она же Лушка, она же Лю, умчалась поутру в университет, они с мужем проснулись часов в одиннадцать: только позавчера вернулись из Греции, впервые за последний год провели десять дней вдвоем – хорошие, мирные десять дней, без мужниных колкостей и раздражения по пустякам. Конечно, он уставал, конечно, ему много приходилось тянуть на своих плечах, к тому же – критический возраст: им как раз минуло сорок пять. То есть, по всем правилам, она, Тина, становилась «ягодка опять», а муж ее Юра должен был переживать кризис под названием «как – и это все?» Что-то с ним явно происходило непривычное. Тина и подругам жаловалась, что Юрка стал «прямо как не родной», огрызается непонятно на что, доброго слова от него не дождешься. И как бы она ни старалась, ничем ему было не угодить. Прямо другой человек появился на месте ее любимого Юрки. Двадцать два года вместе, срослись намертво, все друг про друга знают, понимают, чувствуют, но вдруг – колючие взгляды, слова, огрызания. И обнять себя не дает, отстраняется, и иронизирует над каждым ее словом.
– Устал, – осознавала Тина, – от всего устал. Так устал, что и отдыхать не заставишь, отмахивается только, бурчит, что не до того ему.
Она на свой страх и риск взяла тур в Грецию, а ему об этом сказала, когда все было оформлено: и визы, и билеты. Отказаться бы не получилось. Нет, конечно, получилось бы, но деньги пропали бы точно. Тина внутренне трепетала, когда воркующим голоском, с улыбкой на нежных устах сообщала мужу о предстоящем им совместном райском отдыхе. Но он на удивление легко согласился:
– А, ты уже все подготовила? Ну, хорошо, Тиша. Давай полетим. Пусть.
Он все двадцать два года их совместной жизни звал ее Тиша. Она любила это имя, любила слышать, как он его произносит, любила читать его записки или письма, который всегда начинались словами «Милая Тиша, Тишенька».
Вообще-то по паспорту звалась она Валентиной. Так почему-то решили родители, когда она у них появилась. У ребенка ведь не спрашивают, нравится ему имя, которым его нарекают. Сами выбирают по своему вкусу, а человеку приходится приспосабливаться. В старших классах Валентина всем новым знакомым представлялась именем, которое, как она считала, подходит ей гораздо больше – Тина. И почему бы нет? Это ведь даже более точное сокращение ее полного имени, чем Валя. Тина – четыре последних буквы, не прибавить, не отнять. Зато в этом имени чувствовался какой-то шик, ощущалась загадка. Она здорово изменилась вместе с новым именем. И профессию уверенно выбрала – искусствоведение, и потом дело нашла по душе, в соответствии с именем. Счастливое она изобрела себе имя. Так ей казалось. А уж когда влюбилась как сумасшедшая и услышала от того, к кому ее тянуло с нечеловеческой силой: «Тиша, послушай, что я тебе скажу. Я тебя люблю. И мы должны пожениться, Тиша. Что скажешь?» – вот тогда звуки ее имени стали восприниматься ею, как объяснение в любви. Имя Тиша, произнесенное мужем, она воспринимала как теплый светлый луч, направленный в ее сторону, луч, который защищает, дарит счастье и покой.
Вот потому-то, когда Юра сказал «Хорошо Тиша. Давай полетим», она решила, что все к лучшему и что все у них будет хорошо, как было прежде.
В Греции действительно было замечательно. Муж отдыхал, дремал, читал своего нескончаемого Пруста на французском (несколько лет читал, а теперь книга подходила к концу – похоже было, что он как раз на берегу Эгейского моря и закончит свое эпохальное чтение). Она купалась, заплывала далеко-далеко, поворачивалась на спину и любовалась небом Эллады, удивляясь тому, что по этому самому морю плавали мифические древние греки и видели ту же небесную лазурь, что и она сейчас. Такие же рыбы плавали вокруг, такое же счастье разливалось в воздухе. Жизнь казалась ей бесконечной, а все обиды – мелочными и недостойными. Она совершенно успокоилась тогда. Муж по-прежнему был замкнут, погружен в себя, но колкостей не допускал, улыбался ей по-доброму и даже порой обращался к ней так, как она больше всего любила.
Они вернулись в Москву умиротворенными, день отсыпались, Тина разбирала и стирала вещи, с новыми силами наводила порядок в доме. Еще бы – Лушка такой бардак развела за время их отсутствия! А пятнадцатого, как много лет подряд, отправились на день рождения к друзьям, в известную театральную семью, в которой и муж, и жена родились в один день, тот самый, который Тина никогда-никогда не забудет. Они каждый год собирались в этом веселом хлебосольном доме, болтали, шутили, строили всякие общие планы, пили-ели всякие деликатесы и чувствовали себя великолепно.
И в тот вечер Тина хохотала до упаду. Ее всегда легко было рассмешить, а тут гости наперебой рассказывали об актерских оговорках на сцене – вот уж где можно было сгибаться в три погибели от смеха, просто рыдать. Странно, что она, постоянно имея дело с режиссерами, хорошо зная закулисную жизнь, почему-то раньше особого внимания на такие мелочи, как неверно произнесенные со сцены реплики, внимания не обращала. Что-то доводилось слышать, но, видно, настроение тогда было не то. А тут все принялись рассказывать, кто что мог. И одно за одним, по нарастающей.
Ну, про то, как вместо «Гонец из Пизы» возвестили про понятно что из Ганы – это она знала. Но в тот сентябрьский вечер до нее как-то по-особому дошло. Она представила себе, как это прозвучало со сцены и что сделалось со зрителями, и зашлась детским смехом – на радость рассказавшему. А дальше посыпалось, как из рога изобилия.
Вот Онегин на балу. Вот он спрашивает у своего друга Гремина, кто, мол, та, в малиновом берете, с послом испанским говорит. Ну, ясное дело, кто. Жена Гремина, в девичестве Ларина Татьяна. Та самая. Но на одном спектакле актер, исполняющий партию мужа, почему-то на вопрос Онегина про даму в малиновом берете вместо «Жена моя» отвечает «Сестра моя».
И Онегин, которому полагалось пропеть «Так ты женат? Не знал я ране», вывел, не дрогнув:
– Так ты сестрат?
И снова Тина представила себя в зале, среди зрителей, и хохотала безудержно.
– А вот еще, – продолжал кто-то из вдохновленных ее смехом гостей, – Катерина в «Грозе» Островского должна броситься в Волгу с крутого берега. Ну, актриса прочитала свой монолог и бросилась топиться. А ей подставили не обычную сетку, а тугой батут. Прыгнула она, а батут ее подбросил. Она, естественно показалась перед зрителями – выше скалы, с которой падала в реку. Снова упала – и снова батут ее вытолкнул. Так она периодически взмывала над скалой. Один из присутствующих на сцене актеров нашел выход из положения:
– Не принимает светлую душу нашей Катерины матушка-Волга!
Смехом Тины заразились все и наперебой принялись вспоминать.
– А помните в «Моем бедном Марате» актер должен сказать: «И заруби себе на носу!» А вместо этого он выдает:
– И заруби себе на суку!
Его партнер мгновенно реагирует:
– И где тот сук?
Так они еще про тот сук потом минут пять импровизировали!
А как по ходу трагедии Шекспира «Король Лир» артистка-дебютантка от волнения вместо простых слов «Сестра писала нам» запуталась и произнесла невообразимое:
– Сестра пистре (пауза) сисьмо сосала!
После такой оговорочки ее партнер, знаменитый Мордвинов, зашелся смехом так, что занавес дали, между прочим. И только когда зал и актеры отсмеялись, продолжилось действие шекспировской трагедии.
Естественно, не обошлось без знаменитой фразы Евстигнеева из «Большевиков». Он играл роль соратника Ленина. И должен был по ходу пьесы сказать про умирающего вождя:
– Захожу, а у него лоб желтый, восковой….
И много раз все получалось, как положено. Все товарищи по партии кручинились, зал вздыхал. А однажды Евстигнеев вместо привычной фразы почему-то произнес:
– Захожу, а у него жоп желтый….
Можно себе представить, что с остальными исполнителями творилось, это ж ни рассмеяться, ни всхлипнуть!
Тина в восторге повторяла известную оговорку. Почему-то не приходилось ей прежде слышать о том прославленном эпизоде.
Когда прощались, хозяева звали бывать у них почаще:
– Тиночка! Мы так любим твой смех!
Ну да! Тина больше всего на свете любила смеяться. Смех дарил ей легкость и беззаботность. И в любом случае – лучше смеяться, чем плакать. Вот она и радовалась любой шутке, не разделяя юмор на тонкий и грубый. Да какая разница, если смешно!
Она улыбалась и повторяла особо рассмешившие ее слова, пока они спускались на лифте и выходили из подъезда. Друзья жили недалеко от их дома: одна остановка на метро или три остановки на троллейбусе. Но вполне можно было и пешком за двадцать минут дойти.
Вечер стоял теплый и тихий, совсем еще летний: ни одного желтого листочка на деревьях, трава на газонах зеленая. Только вот золотые шары в палисадничке и напоминали, что осень – вот она, наступила. У Тины почему-то сжалось сердце при виде этих желтых цветов. Со школьных времен они казались ей вестниками печали, равнодушно покачивающими своими аккуратными круглыми головками:
– Да-да, осень близко, солнышко скоро исчезнет, летние радости уйдут, начнутся трудовые будни и печаль-тоска.
Тина отогнала грустные воспоминания. Где ее школа? О чем это она закручинилась? Уже и дочка на последнем курсе университета! К следующему лету получит диплом – и все, закончится для их семьи тема учения. Если только внуки пойдут. Но до этого еще жить да жить.
– Нет, это надо же! «Жоп желтый»! – вспомнила она и снова рассмеялась, – Это захочешь специально такое выдумать, так и не сообразишь! Мы как? Пешком или на троллике?
Юра молчал. Она привыкла к его молчанию. Последние года полтора, если не больше, он как-то настолько отдалился от нее, что и не заговаривал никогда. На вопросы отвечал, порой хмыкал язвительно, но таких долгих доверительных разговоров, к которым она привыкла за предыдущие годы их жизни, тех самых разговоров, которые давали ей силы справляться с любыми трудностями, потому что есть у нее самый близкий и все понимающий человек, – таких разговоров почему-то давно у них не случалось.
– Так как? – повторила Тина? – Пешком или…
– Я… – проговорил вдруг муж хныкающим полушепотом, – я… я не хочу жить во лжи!
Такая непонятная фраза «не хочу жить во лжи» – ни о чем слова, к тому же совершенно невнятно произнесенные, как в дурном сне. Но почему-то (даже сейчас, спустя столько месяцев, Тина не может себе объяснить причину) – почему-то она тогда все-все поняла, охватила сердцем все и сразу. Не зная деталей, подробностей, она словно звериным чутьем учуяла беду – и испугалась, затосковала смертельно.
– Не надо! – жалобно попросила она, – Не надо!
И добавила почему-то:
– Я на все согласна. Только – не надо. Пожалуйста, не надо.
Проговорив это, Тина быстро зашагала по бульвару. Ей хотелось остаться одной и ничего никогда больше не слышать. И тем более – не знать. Но Юра, решившийся сказать первую – дурацкую и отвратительно лживую – фразу про свое нежелание жить во лжи, словно обрел силу, которой ему раньше недоставало. Он нагнал жену, остановил ее и, глядя ей прямо в глаза, произнес:
– Это Катя. Моя Катя. Я тебе говорил. Помнишь?
– Какая твоя Катя? – рыдая, спросила Тина, – Что я должна помнить про Катю? Когда ты мне говорил?
– Двадцать два года назад. Почти двадцать три, – с гордостью возвестил Юра, – Когда мы познакомились еще. Не помнишь? Я тебе говорил, что в школе был влюблен в Катю Гогибедаридзе. Я сразу после школы сделал ей предложение! Помнишь, я рассказывал? И она отказала!
Тина вдруг вспомнила! Столько лет об этом не думала вообще! Даже тени воспоминаний не мелькало! И вдруг – да, всплыл в памяти тот разговор с Юрой, когда они только-только начали встречаться. Что он тогда сказал? Ах, да! Вот что: он сказал, что сердце его разбито! И она еще смеялась и говорила, что он не похож на человека с разбитым сердцем, такой весь красивый, здоровый, пышноволосый. С разбитыми сердцами так не выглядят. А он все равно упрямо рассказывал, как любил девочку из своего класса, как она сразу после школы родила, он не спрашивал, от кого и что вообще такое случилось, что ей понадобилось рожать. Но он сделал ей тогда предложение, обещал помогать растить ребенка. Они даже целовались! Но она отказала. И потом – они встретились через несколько лет, у нее уже ребенок ходил в детский сад, он несколько раз приходил вместе с ней забирать ее сына из садика, она оставляла малыша на свою маму, а потом шла с Юрой гулять, и они опять целовались. И снова он сделал ей предложение, а она сказала, что у нее рак крови, что ей недолго осталось жить, поэтому не стоит и затеваться. И он плакал, умолял ее, говорил, что ему все равно – хоть месяц с ней прожить, и то счастье на всю жизнь. Но она была непреклонна. Вот такая у него была трагедия в жизни.
– Она что – умерла уже? – ужаснулась тогда Тина.
– Нет. Пока жива. Но нам не быть вместе, – горестно вздохнул Юра.
И она его веселила, веселила. Он постепенно отошел от грустных мыслей. И стали они целоваться, и не только. А потом он предложил ей пожениться. Сказал, что очень-очень ее любит и хочет всю жизнь провести с ней. И она, конечно, хотела того же! И тут же согласилась.
Да! Вот еще что было! Как же она могла забыть! Они с Юркой ходили в его школу на вечер выпускников. Они тогда только-только поженились и всюду ходили вместе. И тогда, на шумном бестолковом сборище недавних одноклассников увидела она ту самую Катю, из-за которой муж ее так отчаянно когда-то убивался. Ничего особенного: темные глаза, широкие брови, крашеная блондинка, стройная, высокая, взгляд – как бы это сказать поточнее – жадный до жизни, вопрошающий, что почем, и быстро определяющий всему цену (по собственной шкале ценностей, конечно). Тина вспомнила, что она тогда легко, вскользь удивилась Юркиному вкусу, но даже говорить об этом не стала – зачем. Они муж и жена, у них – да! – любовь. А то, что было когда-то с этой Катей – полная чепуха. Да и не было ничего. Единственно, что она спросила тогда: неужели у этой Кати действительно был рак крови? Уж очень здоровой и вполне благополучной она выглядела.
– Не знаю – был, не был, – ответил тогда Юрка, – мне без разницы.
К тому же выяснилось, что Катя только что вышла замуж. И муж ее оказался богатым дядькой на двадцать лет ее старше. Тина тогда поняла про Катю все и сразу, уж очень типичный случай представляла собой первая Юркина любовь. Ну, понятно же было, почему она отказала своему ровеснику – ей хотелось прочно устроиться в жизни, хотелось всего и сразу, а у Юрки за душой, кроме чувств, не было ничего. Дело вполне житейское, тем более уже обожглась на чем-то девушка. Единственно, что трудно было понять – зачем про рак крови врала. Хотя – тоже не так уж сложно сообразить: ей хотелось, чтобы ее пожалели и чтобы светлое чувство к ней пронесли, так сказать, через годы и расстоянья.
Ничего не было в Кате, что имело бы смысл запоминать.
Неужели это ту самую называет сейчас муж «моя Катя»?
Тину страшно знобило, ноги сами тащили ее домой, она задыхалась, но неслась со страшной скоростью. Юра едва поспевал за ней, но говорил теперь беспрестанно. Его словно прорвало. Видно, многое накопилось. Он сообщил, что год назад Катя пришла на его концерт, а потом зашла в артистическую поздравить. И с тех пор – они вместе. И дышать не могут друг без друга.
– Год? – почему-то переспросила Тина.
– Год! – уверенно и гордо подтвердил Юра.
– А раньше что было? До этого года? Ты начал раньше! – сказала она, плохо отдавая себе отчет, о чем они говорят.
– Раньше я жил в пустоте. Но – никого! Поверь! Я был совсем один! – патетически воскликнул муж.
Тине хотелось спросить: «Что значит – один? У тебя же была я. И я всегда была рядом. Как это – один?» Но она промолчала, потому что понимала, что вопросы ее не имеют никакого смысла. Вот как оказалось: муж жил с ней, ел с ней, спал с ней, но при этом, оказывается, был совсем один. О чем спрашивать?
И все же – так многое нужно было выяснить! Но с кем выяснять? Рядом с ней почти бежал совершенно чужой и недобрый человек, говоривший жуткие вещи, совершенно не считаясь с тем, какую боль он сейчас причиняет той, с которой прожил вполне мирно и любовно двадцать два года. Он зачем-то говорил о том, как прекрасна его Катя, как наконец-то она поверила ему и доверилась. Тине пришлось услышать и о том, что у нее, у этой великолепной Кати, старший сын учится в Вене, а она все еще замужем за тем самым бизнесменом, который старше нее на целых двадцать лет.
– Значит, мужу ее сейчас шестьдесят пять, – зачем-то подсчитала Тина, продолжая про себя спрашивать Юру о самом главном.
– У нее дочь от этого человека. Ей десять лет. Я буду помогать ей растить ее, – муж просто захлебывался от восторга, как мальчик, пересказывающий захватившую его целиком сказку.
Тут Юра словно слегка запнулся, но тут же продолжил:
– Лукерья уже совершенно взрослый человек. Я ее вырастил до возраста совершеннолетия – не только в нашем определении этого слова, но и в мировом. Ей двадцать один уже исполнился. В Америке спиртное с этого возраста разрешено продавать. Так что долгов перед ней у меня нет.
Тина, услышав имя Лукерья, в который раз подумала, что зря она тогда уступила мужу и согласилась назвать дочку именно так. Ну, не подходило девочке это имя – никак. Ладно уж там Луша, Лука. Но Лукерья – какая-то анекдотическая претензия на оригинальность, какие-то лапти с лакированным бантиком для украшения.
Впрочем, это вопрос не актуальный. А какой актуальный? А – вот: Юра, значит, год уже гужевался с Катей, давно все с той обсудил и решил. Сейчас как раз избавлялся от незначительной помехи на их с Катей светлом пути к счастью. И помеха эта она, Тина.
Как он только что сказал? «Я вырастил ее до совершеннолетия». «Я вырастил». Как будто он один растил. Или вообще какие-то серьезные усилия приложил к воспитанию дочери. Деньги давал. Шутил. А чтоб поговорить, утешить, пойти куда-то вдвоем – не было такого никогда за все эти годы. Никогда!
– Но я же сама, – сказала себе Тина, – я же сама с этим соглашалась. Юрочка, мол, натура творческая, ему нужен покой, тишина, чтобы не прерывалось течение его мысли, его внутреннее слушание музыки. Юрочка не сразу стал успешным композитором, которому предложения поступают со всех концов света. А она в него верила и помогала, как могла. Его дело было – творить. А ее – растить дочь, кормить их, веселить, создавать уют в доме.
Впрочем, он в последнее время очень часто произносил «я» вместо «мы». Вот только что в гостях сообщал: «Я был в Греции». Тоже удивительно было слушать. Однако она, услышав эту фразочку, как часто в последнее время, сказала себе, что это всего лишь оговорка, что не стоит даже внимание обращать. Вот они сидят рядом, пришли вместе – что еще ей надо?
Все это ерунда. Ненужные мелочи. Главное было совсем не в этом. И она, задыхаясь от стремительного движения домой, в родные стены, спрашивала и спрашивала себя об этом главном, зная, что с Юрой об этом говорить не будет. Не сможет она об этом заговорить. А главное было – венчание. Они же повенчались семнадцать лет назад! Причем, настоял на этом муж. Тогда время было такое: все широкомасштабно крестились и венчались. Сначала искали свои духовные пути, читали книжки, подчеркивали ключевые фразы. Потом шли в храм и проникались Богослужением. И стремились стать частью общего, влиться в мейнстрим, ожить от духовного обморока. Шло массовое восстановление разрушенных непутевыми предками храмов и строительство новых. Но постепенно православие стало входить в привычку, и те, кто стремился следовать модным веяниям, взялись поначалу иронизировать, а потом и критиковать то, к чему их поначалу прибило девятым валом.
Тина в детстве много времени проводила на море, и любила наблюдать, как оно перед штормом начинает волноваться, словно охваченное единым мощным порывом, как оно ревет, устремляя волны вверх и вдаль. И все, что только оказывается на поверхности бушующей воды, подчиняется ее власти. А потом шторм утихает, и на берегу обнаруживаются всякие клочки водорослей, бревна, даже непонятно как очутившееся в море тряпье и прочий мусор. Все это случайное барахло грозно вздымалось волнами и, казалось, тоже как-то осмысленно участвовало в общем движении. Но это только казалось. На берегу весь этот хлам не мог ровным счетом ничего. Так и с верой: Тина не осуждала тех, кто заодно со всеми устремился в даль светлую, а потом, не имея ни таланта, ни силы духа, чтобы верить, остались, как щепки, выброшенные прибоем, в пустоте. Но был момент в их с Юрой жизни, когда сердце ее заныло: его тетя, сестра отца, недавно спросила:
– Юр, ты по-настоящему веришь?
И он вдруг произнес:
– Не знаю. Я так…
– Вот и я – так, – засмеялась Юрина любимая тетя.
А сердце Тины после этих невинных фраз дрогнуло и затрепетало. Прежде он говорил иначе. И молился по утрам и вечерам, и на исповедь ходил, и причащался. А теперь – «так». Но она и тогда промолчала, не нашла в себе сил говорить об этом. Может быть, боялась услышать что-то страшное для себя?

