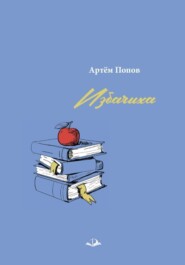скачать книгу бесплатно
Г
н
а
с,
з
а
я
ви
в
ш
и
хс,я
в
д
е
р
е
в
ню
к
б
аб
у
ш
к
е
н
а всё лето.
Ленко, он же дядя Лёня, был соседом и близким родственником одновременно.
– Пришёл попроведать, – зачем-то каждый раз говорил он, словно оправдывая своё появление в гостях. Хотя наши избы стояли друг против друга и весь день он мог наблюдать, чем мы занимались.
– Сиди, сиди, Леонид Иванович, – говаривала бабушка. – Не мешаешь.
Он курил через чёрный мундштук только сигареты «Прима», потому что они были самые дешёвые. Денежку на другое курево Ленко жалел.
Как только он уходил, через минуту, словно сменив его на посту, прибегала Анюшка. Маленькая, почти невесомая старушка всегда была в белом платочке. Садилась тоже на лавку у печки, на то самое место, после Ленко, кажется, ещё не остывшее.
– Как живитё? – Анюшка всегда задавала один и тот же вопрос.
В раннем детстве я считал Ленко и Анюшку мужем и женой. А как же? Они примерно одного возраста, жили в одном доме, говорили друг о друге, об общем хозяйстве. Были как одно целое.
Только много позже, когда Анюшка и Ленко уже ушли на тот свет, я узнал, что они, оказывается, родные брат и сестра, Леонид Иванович и Анна Ивановна. А нашему дедушке – двоюродные.
Леонид Иванович успел захватить Великую Отечественную. Он служил юнгой на Северном флоте. С войны привёз осколок в животе и целый мешок матросских воротников.
– Ну хоть бы что-нибудь ещё, гостинец какой, – вздыхала Анюшка для вида.
Но и воротники не пропали в деревенском хозяйстве. Анюшка наткала из них половичков на весь дом, один и нашей бабушке перепал. Они служили не один десяток лет. «Крепкая материя!» – удивлялись женщины.
Сразу после войны Ленко посадил у дома два тополя, за ними он специально съездил в Устюг.
– Обычно ведь что у всех домов растёт? Черёмуха. То-то же. А тополь – городской житель, – объяснял.
Тополя росли как на дрожжах и превратились в настоящих великанов. Спустя десятилетия они стали заметны издалека, как только деревня показывалась путнику из-за леса. Если виднеется что-то зелёное, громадное, то здесь живут Ленко и Анюшка, а значит, рядом и родной дом. Для нас это были своего рода маяки.
После войны жить бы да жить, жениться, выходить замуж, растить детей… Но не получилось у них создать собственных семей, не дал Бог детей.
Многие за глаза Ленко называли Стари
ще. Прозвищами в деревне, конечно, никого не удивишь: у каждого почти имелось. Вот с Колей Красным понятно. Лицо красное, как из бани всегда. Но почему Старище? Может быть, потому, что молодым Ленко никогда и не выглядел: после возвращения с войны и до самой старости лицо у него было худое и морщинистое.
Один раз, мальцом, при людях, к «дяде Лёне» я добавил «Старище», чтобы посмотреть на его реакцию. Ругаться Леонид Иванович не стал, а сказал только: «Неэтично это». Любил он что-нибудь этакое ввернуть в свою речь. Неделю не приходил к нам в гости – обижался. А потом снова – с порога:
– Давно собирался, вот – пришёл попроведать…
Но я до сих пор краснею, когда вспоминаю этот случай с прозвищем…
Как все деревенские, Леонид Иванович нрава был весёлого, бухтинщик ещё тот – всё шутки да прибаутки. «Тётка, у тебя чёрная серёдка», – это из его самых приличных присказок.
В 1960-е в деревне была общая баня, в которой по «мужским» дням мылись мужчины, по «женским» – женщины и дети. Так Ленко Старище обязательно придёт, когда парились женщины. «Лешак тебя принёс!» – ругались бабы и прогоняли Ленка.
Анюшка всю свою нерастраченную любовь и заботу дарила нам, соседским детям.
– Ромашка – белая рубашка, – говорила она моему брату Роме и, как фокусник, доставала из-под чистого передничка пистешник (пирожок с «пистиками», молодыми ростками полевого хвоща) или шанежку с картошечкой, ещё горячую.
– Только Ленко не говорите. Ругать будет, – просила Анюшка и жаловалась: – Хоть бы пряники магазинские когда разрешил купить, не едала…
Все в деревне и так знали, как Старище был скуп. Говорят, все деньги он откладывал «на книжку». Но сколько их там он накопил, никто не знал.
В деревне мало у кого был телевизор – можно по пальцам одной руки пересчитать. Но Леонид Иванович купил его одним из первых. Из телепередач он, скорее всего, и набрался интеллигентных слов.
В доме Ленко и Анюшки был идеальный порядок – наверное, у хозяина это повелось ещё с флота. Даже мухи у них, кажется, не летали, а телевизор после просмотра обязательно накрывался белой кружевной накидкой.
Анюшка, божий человечек, умела заговаривать грыжу, лечила все болезни живота.
– На сегодняшний денёк смолеватенький пенёк, – гладила сухой ручкой мне, малышу, животик, и боль уходила.
Но вылечить себя она не смогла: умерла внезапно от грыжи. Надорвалась с телятами на ферме.
Ленко после её ухода сильно сдал.
– Я долго без моей Анюшки не проживу, – как-то раз грустно сказал он нашей бабушке.
Так и случилось. Пошёл в больницу «проверяться» – и там через месяц умер. Недолго он смог прожить без сестры. Любил её, оказывается, крепко…
Всё «наследство» досталось племяннику, которого в деревне и видели пару раз всего. Молодой мужчина пришёл с завещанием в сберкассу снимать деньги с книжки Леонида Ивановича, а оказалось – там шиш да ни шиша. Хватало только на похороны да на поминки.
– Не может быть! – рассвирепел племянник.
Не оказалось у Ленка никакого богатства. Да откуда же было ему взяться, когда в колхозе работали за трудодни, а потом в совхозе – за копейки?
Племянник зачем-то срубил оба тополя – может, на дрова, чтобы больше денег поиметь с дядькиного хозяйства.
Не стало Ленко и Анюшки – не стало и тополей. Не видно издалека, где же дом… Лишились мы родных маяков.
На тихом деревенском погосте рядом три могилки – бабушки Сани, Анюшки и Ленка. На памятниках – одна фамилия. Как жили всю жизнь вместе, по-соседски, так и сейчас рядышком.
…В кровь порезал руки, выдирая сорную траву с могилок, – опять перчатки забыл. Поправлю у памятника Леониду Ивановичу выцветшую георгиевскую ленточку. Покрошу для Анюшки городских пряников, которых она так и не наелась досыта.
Помяну и тихо уйду, не оглядываясь…
Дурик
Село Куренное примостилось на склоне реки Вольной. За ней – глубокая зелень лесов переходит в синеву неба. Старожилы уверяют, что когда-то давным-давно вода простиралась до самого горизонта. Вероятно, это было в ледниковый период или позднее, когда царствовало море-океан. Вода ушла, оставив на память гладкие камни.
Потом на берегу появились первые поселенцы, но огромные отполированные валуны продолжали лежать в огородах, на дороге. В прошлые века лошадями их не сдвинули, не убрали потом и тракторами.
На Василия Петровича, жителя села Куренное, давно не обращали внимания. Дурик. Говорит не пойми что, с пятого на десятое. Рассказывать, к примеру, начинает, как охотился с сыном на гуся – и вдруг ни с того ни с сего ввернёт, будто птица так высоко летала, что с «самим Боженькой разговаривала».
А раньше-то какой был Василий Петрович! Умный. Красивый. Служил милиционером, все его уважали да побаивались. От того прежнего Петровича остались только роскошные усы, но и те со временем потеряли форму и торчали как проволока в разные стороны.
На пенсию из-за душевной болезни списали капитана раньше срока. И стали к нему прилипать местные алкаши. Деньги у ветерана всегда водились, благо милицейская пенсия позволяла. Хотя пить было нельзя нисколько: ещё хуже заговаривался бывший капитан. Жена Люба ушла на тот свет, но не это скосило старика.
Зимой он ещё как-то держался: не слышно было его боботания в усы, из дома не вылазил. А летом солнце на него дурно влияло, словно распаляя его болезнь всё больше. Все дни он слонялся по селу с алкашами и говорил, говорил…
И вот что учудил этим летом Василий Петрович: начал валуны на дорогах расписывать. Нет, конечно, все и раньше знали, что он рисует хорошо: наличники у его дома узорчатые, штакетник цветной. Но когда всё это было? Когда ещё ум не потерял старик.
Сельчане сначала не поняли, что за молодых людей он рисует на камнях. Только потом увидели крылышки… Ангелы! И небо на камнях заиграло светло-голубое, и трава яркая-яркая отразилась. Неземные цвета особенно выделялись на грязной дороге.
Сидит себе Василий Петрович день за днём и расписывает камень за камнем.
– Петрович, ты ангелов где научился рисовать? – любопытствуют женщины.
– В Обухове, в церкви.
Обухово – деревня далеко от Куренного, никто там не живёт давно, а старинный храм Живоначальной Троицы стоит. Он лучше других близлежащих храмов уцелел в советское время: здесь был склад зерна, а не клуб и не мастерская. Василий Петрович ходит туда пять километров в одну сторону и столько же обратно.
Росписи на стенах сохранились в целости. Но ещё год-два пройдёт, и крыша на церкви обрушится: кто-то железо украл. Вот и берёзка начинает расти в кирпичах… Однако роспись пока не смыли ни дождь, ни снег.
– Кончай дурью маяться! – не выдержали как-то мужики, заругались на художника.
– Далеко-далеко… за дальними далями… – опять какую-то глупость он им в ответ.
– Баско-то как! Доброе дело делает, – вздыхали бабы. Жалко им Василия Петровича.
Все знали, что почти каждый день он ходил к школе. Там на фасаде установлена мемориальная доска из чёрного гранита с короткой надписью: «Алексею Лоскутову, выпускнику школы, участнику боевых действий в Чеченской республике, кавалеру Ордена Мужества (посмертно)».
– Бриться… бриться… – бормочет невпопад старик.
Хоть и без усов паренёк на той гранитной доске, но похож один в один на Василия Петровича.
Далеко-далеко от реки Вольной боевики убили мальчика, а потом, заметая следы, облили бензином, обложили покрышками… Сослуживцы на похоронах признались: «Прости, отец, ничего в гроб не положили».
Вот и ходит к школе Василий Петрович, раз на кладбище пустота. Ничего не осталось от человека…
Нет!
Есть гранитная доска на школе и ангел на камне у пыльной дороги.
А может, к чёрту любовь?
С утра Никита не побрился: было откровенно лень и голова побаливала после вчерашнего пива. Сколько с корешем Лёхой дёрнули после футбола, точно не помнил. А сегодня надо было двоюродных братанов везти в школу – первое сентября. Как там поётся? Вот лето пролетело, всё осталось позади, но мы-то знаем: лучшее, конечно, впереди…
В их родной деревне школу закрыли год назад: печи и полы провалились. Приходилось ребятам учиться в соседнем селе.
Светлана на этот отпуск у старичков-родителей ничего не планировала: просто хотела выспаться.
«Может, первого сентября сходить в родную школу – вдруг увижу кого-нибудь из знакомых?» – придумала для себя занятие.
Она пришла минут за десять до начала торжественной линейки. У школы, которую окончила пятнадцать лет назад («Уже пятнадцать!»), стояли одиннадцатиклассницы с бантами, переговаривались родители, незнакомые учителя.