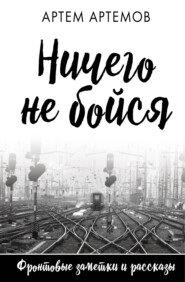скачать книгу бесплатно
– И куда вы поедете?
– Ещё не знаем. Возможно, в Италию или Испанию…
Спать разошлись поздно. Месье и мадам Легран, обрадованные возможностью выговориться, не боясь раскрыть тайны, наперебой рассказывали о своей жизни. Этому рассказу мог бы позавидовать любой историк, но Филипп был всего лишь младшим банковским сотрудником, и его не интересовали особенности придворного этикета конца семнадцатого века, тайны дворцовых интриг и родословная герцогов Анжуйских. Все его вопросы касались принцессы Софии: во что играла, когда была маленькой, какие книжки читала, какое угощение любила больше всего.
Ночью Филипп никак не мог уснуть. Вначале он размышлял об этой удивительной истории, свидетелем которой невольно стал, закрывая глаза, он видел перед собой лицо принцессы. Потом понял, что так не заснёт никогда, и стал считать овец. Сбивался, начинал сначала, но сон не шёл. И тогда он вновь стал вспоминать юную принцессу, которая живёт на земле почти три сотни лет, но при этом всё такая же молодая и красивая. И вдруг ему захотелось увидеть её лицо ещё раз. Он гнал эти мысли, но они возвращались снова и снова. Тогда он зажёг свечу в подсвечнике и аккуратно, чтобы не скрипнула, открыл дверь и спустился на первый этаж. Тихо шагая, он прошёл по коридору к лестнице, ведущей в подвал, спустился, навалился плечом на дубовую дверь и оказался в сводчатом подвале.
У стены по-прежнему похрапывали и посапывали слуги. А в центре возвышалось ложе, на котором спала принцесса. Филипп долго вглядывался сквозь хрустальную крышку, изучая лицо девушки. Иногда ему казалось, что за ним наблюдают, он оглядывался, но в подвале были только спящие. Вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль: а что если поднять крышку гроба? Закрепив свечу в изголовье постамента, он двумя руками поддел крышку, та поддалась и на удивление легко откинулась на серебряных петлях. Теперь между ними не было преграды! Филиппу даже казалось, что он слышит дыхание девушки. Чтобы проверить это, он наклонился. Прямо перед его глазами были нежные губы. В подвале повисла тишина, казалось, даже слуги перестали храпеть. Не отдавая себе отчёта в действиях, Филипп подался вперёд и поцеловал их. Ресницы принцессы дрогнули…
«Что же я наделал?» – подумал Филипп.
И в этот миг принцесса открыла глаза.
– Ах, это вы, принц? – сказала она. – Наконец-то! Долго же вы заставили ждать себя…
Не успела она договорить эти слова, как все кругом пробудились. Зевая, поднялась со своего места одна дама, потягиваясь, присел пожилой мужчина. Все двадцать человек проснулись и протирали глаза, пытаясь понять, где же они. Принцесса тоже приподнялась на своём ложе, и Филипп помог ей спуститься. Её ноги были босы, и чтобы ей не было холодно, он постелил ей одно из одеял, которыми были укрыты слуги.
– Где мы? – раздавалось со всех сторон.
– Что с моей одеждой? – воскликнула придворная дама, стыдливо кутаясь в одеяло.
– Зажгите кто-нибудь свет! – приставал ко всем пожилой мужчина.
И только Филипп и София стояли посередине тёмного подвала и смотрели друг другу в глаза.
На лестнице раздался шум, дверь распахнулась, и в подвал ворвались месье и мадам Легран.
– Что здесь происходит? – начал кричать Бернар, но разглядев в полумраке проснувшихся людей, осёкся.
– Свершилось, Бернар, – шепотом сказала Изабель. – Свершилось!
– Дядюшка Бернар! Тетушка Изабель! – обрадовалась их появлению принцесса. – Может, хотя бы вы объясните, что здесь происходит?
– Милая моя девочка! – Изабель бросилась с объятиями к принцессе. – Всё уже хорошо! Всё уже замечательно…
Началась суета. Все говорили, все старались протиснуться поближе к месье и мадам Легран. А те распоряжались, одновременно объяснялись и плакали от счастья. Филиппа оттеснили в угол, и какое-то время он стоял там, чтобы никому не мешать. Но вскоре ему это надоело, он поднялся и вышел на улицу. Недалеко от колодца стоял, покуривая папиросу, Даниель-Мари.
– Ну что? Проснулась принцесса? – спросил он.
– Да. Там сейчас суета…
Филипп присел на краешек колодца.
– А откуда вы знаете? – спохватился он. – Вы были посвящены?
– Месье и мадам свято хранили от нас эту тайну, – ухмыльнулся Даниель-Мари. – Но у них своя тайна, а у нас своя. В нашей семье из поколения в поколение передаётся легенда о спящей принцессе, а вместе с ней – наказ, чтобы мы были рядом и помогали. Вы же знаете, кто был мой предок?
– Теперь знаю, – пробормотал Филипп. – Это он написал эту сказку.
– Совершенно верно, – довольно ответил шофёр. – Это сейчас к сказкам относятся легкомысленно, а вот раньше им придавали совсем иное значение!
Всю ночь и весь следующий день дом месье и мадам Легран стоял вверх дном. Ещё бы! Им надо было одеть и причесать двадцать человек и принцессу. А вдобавок к тому каждый требовал, чтобы ему рассказали о том, что с ними произошло и что происходило в мире в то время, пока они спали. Несколько раз Филипп пытался увидеться с принцессой, но хозяева поместья отмахивались от него – позже.
На второй день, сделав с утра ещё одну бесплодную попытку увидеть Софию, Филипп собрал свои нехитрые пожитки и постучал в дверь флигеля, где жил водитель.
– Что вам угодно, месье? – вышел тот через минуту.
– Я хотел бы просить вас об одолжении – отвезти меня на станцию. В противном случае мне придётся идти пешком.
– Твёрдо решили уехать?
Филипп кивнул.
Через десять минут их автомобиль пылил по просёлочной дороге по направлению к городу.
– Скажите, ваш предок был сказочником, – прервал молчание Филипп. – А вы сами разбираетесь в сказках?
– Конечно, месье! – Даниель-Мари важно кивнул.
– Я помню эту сказку, мне читали её в детстве, но, кажется, она заканчивается несколько иначе…
– Совершенно верно. Но это же литература! В ней всё должно заканчиваться хорошо. В жизни совсем иначе. В жизни оно всегда интересней! Так говорил мне мой отец, а ему его отец, а ему…
– Спасибо! – не стал слушать до конца Филипп.
Спустя два часа Филипп де Пентьевр сидел в вагоне второго класса поезда Тур – Париж. В руках у него была газета, в которой сообщалось о ходе военных действий на севере Франции, о первом грандиозном сражении возле Мааса, которое окончилось трагически для французских войск. По всем направлениям войска отступали, и многие политики уже трубили о трагедии, постигшей Францию.
В Париже Филипп появился в своём банке, но только для того, чтобы дать отчёт о своей поездке. В нём он указал исключительно положительные отзывы о состоянии поместья, о редких сортах винограда и о многом другом. А сам пошёл записываться добровольцем в армию. Таких, как он, было немного – в основном все бежали из армии, и все дороги были полны беженцев и дезертиров, которые, впрочем, неплохо устроились позже, при оккупационном режиме.
Войска отступали хаотично. Уже в середине июня сдали Париж, правительство поговаривало о капитуляции и уже 25 июня подписало её. Часть войск кораблями было вывезено в Алжир, где под командованием генерала де Голля велись боевые действия против Германии. Среди этих солдат был и Филипп.
К середине сорок четвёртого года Филипп имел звание лейтенанта. Обветренный и загорелый, он командовал штабом батальона. Если бы его сейчас видели знакомые, они бы удивились переменам, произошедшим с ним: в голосе его появилась хрипотца и уверенность, тело налилось силой, волосы выцвели под палящим солнцем. Но удивляться было некому: немногочисленных знакомых разметала война, а родственников у него не было.
Когда войсками союзников после высадки в Нормандии был взят Париж, он с небольшой группой солдат был отправлен в только что освобождённый Тур. В течение пары дней, закончив все дела, он взял машину с водителем и, отпросившись на полдня, поехал в поместье Розе Руж. Память о днях, проведённых там, все эти годы не давала ему покоя, и не воспользоваться таким случаем он не мог.
Издалека поместье казалось таким же, каким он его видел в далёком мае сорокового года. Но, уже подъезжая, Филипп заметил, что дом смотрит пустыми глазницами окон, чёрными от копоти недавнего пожара, крыша обвалилась, и только каменные стены выдержали натиск огня. Целым оказался флигель, по крайней мере, стекла в окнах были целы. Когда машина остановилась во дворе, Филиппу показалось, что шевельнулась занавеска в окне, однако из него никто не выходил.
Он в сопровождении водителя, у которого через плечо была перекинута винтовка, миновав ржавые ворота, вошёл на территорию поместья. Кругом были следы от гусениц танков. Ограда слева от дома была проломлена в двух местах – видимо, танкисты вермахта не сильно утруждались поиском нормального входа. Рядом с липами Филипп увидел свежие могилы – небольшие, аккуратные насыпи с крестами в изголовьях. Их было много. Уже подойдя, он насчитал двадцать один крест.
– Двадцать слуг спало в подвале и одна принцесса… – задумчиво произнёс Филипп вслух.
Водитель недоумённо посмотрел на лейтенанта и на всякий случай кивнул.
За их спинами скрипнула дверь, и из флигеля вышел бородатый мужчина, в котором Филипп не сразу узнал Даниеля-Мари Перро.
– Чем могу быть вам полезен, господа? – спросил Даниель-Мари.
– Вы не помните меня? – спросил Филипп, снимая фуражку. – Я гостил в этом доме в сороковом году, перед самым началом войны…
– Вы? – недоверчиво произнес шофёр. – Это вы?
– Да, я, как видите.
– Неужели?! – радостно завопил Даниель-Мари, бросаясь к Филиппу с объятиями.
– Что здесь произошло? – наконец освободившись, спросил Филипп.
Даниель-Мари помрачнел.
– Они хотели уехать, но не успели – гитлеровцы продвигались слишком быстро. В сорок втором их расстреляли немцы, а дом сожгли. Их обвинили в участии в Сопротивлении.
– А как же ты?
– Я в это время был в деревне. Дело в том…
– Тебе повезло, мой друг… – не дал ему договорить Филипп. – А где месье и мадам Легран?
– Вон они, – Даниель-Мари указал на захоронения. – Их могилы первые слева…
– Но здесь двадцать одна могила? – удивился Филипп.
– Всё правильно. Каждому по одной…
– Но было двадцать слуг, одна принцесса и мадам и месье Легран! Должно быть ещё две могилы.
– Месье, вы не дали мне договорить, – терпеливо стал объяснять Даниель-Мари. – Я, как уже сказал, был тогда в деревне. Но это было не простое совпадение…
– А что же?
– Мой знаменитый предок не случайно попал в замок к месье Леграну, когда тот рассказал ему историю со спящей принцессой. До этого ему тоже повстречалась одна старушка. Она предсказала ему литературную славу и дала наказ – быть всегда рядом с принцессой, но не подавать вида, что тайна замка ему известна. «Из поколения в поколение на вас возлагается миссия служения: что бы ни произошло, будьте рядом», – сказала она тогда. Шарль Перро для этой миссии выбрал своего младшего сына и его потомство. Старший был умный и подавал надежды на политическом поприще, средний неплохо знал банковское дело, ну, а третий… Третий был не так и не сяк… Ему и поручили.
Глаза присутствующего при этом странном разговоре водителя Филиппа стали круглыми, а челюсть отвисла.
– Иди-ка ты, дружище, к машине, – велел ему Филипп. И когда тот отошёл, повернулся к Даниелю-Марии. – И что же?
– Ещё эта старушка сказала: «Наступит день, когда утром вы услышите слова: „Дети отечества, день славы настал“. Тогда знайте, что принцесса в опасности».
– Это же слова из «Марсельезы»? – удивился Филипп. – Это же гимн Франции.
– Да?.. Я не знал. Но это неважно. Важно то, что в тот августовский день сорок второго года я выехал в деревню купить молока и хлеба и, проходя мимо одного дома, через открытое окно услышал звуки патефона и совершенно отчётливо разобрал именно эти слова… И тогда я помчался обратно в поместье. Там, во дворе, я увидел Софию и кормилицу, ничего не понимающих; я затолкал их в автомобиль и увёз их подальше. Про кормилицу, правда, пророчество ничего не говорило… Но нельзя же было её бросить там?.. – Даниель-Мари как будто оправдывался. – А когда вернулся через три дня, увидел трупы во дворе… Вы же помните, каких взглядов придерживался несчастный месье Легран. И он никогда не молчал, несмотря на все просьбы доброй мадам Изабель. Об этом донесли, при этом кое-чего добавили, а кое-что в гестапо додумали сами…
– Я думал, принцесса здесь… – Филипп посмотрел на могилы, голос его вдруг осип. – Что с ней? Она жива?!
– София жива, конечно! Она же тогда была со мной.
– А где же?!..
– Ещё кормилица сохранилась…
– Да где же прин…?
Филипп не успел закончить вопрос, в это время из дома вышла София. Одета она была в обычное деревенское платье, но и в нём она оставалась истинной принцессой. Молча она подошла к Филиппу, и они долго смотрели друг на друга. Деликатный Даниель-Мари отошёл к машине, на которой приехали военные, и стал её осматривать, не обращая внимания на удивлённого водителя.
– Наконец-то… – сказала принцесса, не отрывая глаз от Филиппа. – Долго же вы заставили ждать себя…
– Четыре года… – шёпотом ответил Филипп.
– Целую вечность…
Я ветеран
За окном хорошая весенняя погода. Снег давно сошёл, газоны зазеленели молодой травой, а на деревьях набухли почки. Для меня это уже девяностая весна… Страшно подумать, но я ещё жив. Почти не выхожу из дома, с трудом таскаю из комнаты на кухню свои ноги в старых истоптанных тапках, таблетки пью горстями, но жив. Наверное, это несправедливо: все мои товарищи уже ушли, семь лет назад ушла моя Катя, мои дети и внуки любят меня, но живут своей жизнью, вдали. В любом случае осталось чуть-чуть, как бы оптимистично я не смотрел на жизнь, рано или поздно она заканчивается.
За окном играют дети, молодые мамы и бабушки, прогуливаясь рядом, наблюдают за ними. Чуть дальше – улица, по которой проносятся машины и торопятся пешеходы. Там кипит жизнь, а здесь, в тихой однокомнатной квартире, она заканчивается. Вяло колыхается занавеска перед раскрытой форточкой, давно остыл чай в кружке – налил зачем-то, а пить не хочется. Последние годы это место за столом возле окна – моё любимое. Здесь я вспоминаю, здесь я живу событиями давно минувших дней. Не имея будущего, человек автоматически лишается настоящего, у него остаётся только прошлое.
Я гораздо лучше помню события семидесятилетней давности, чем то, что было десять лет назад. Сейчас все дни сливаются в один, и поход в магазин или поликлинику становится чем-то необычным. Видимо, старость дана, в том числе, для осознания прошедшей жизни и созерцания новой, в лице внуков.
Лет двадцать назад я, сев за стол и положив перед собой руки, не узнал их. Я помнил их ещё сильными и красивыми, а передо мной лежали старческие, узловатые, высохшие, с чуть дрожащими пальцами. Именно тогда пришло осознание наступившей старости. Подойдя к зеркалу, увидел явное несоответствие: сам для себя ещё нормальный человек, среднего возраста, стоял в прихожей и смотрел на седого, лысеющего старичка с морщинистым лицом. С тех пор, общаясь с продавцами или кассирами в банке, я как бы со стороны видел себя таким, как запомнил в зеркальном отражении. Мои внуки, старшему из которых уже почти тридцать, знают меня только такого. Вежливо пролистывая вместе со мной фотоальбомы, они смотрят на мои юношеские изображения мимоходом, не утруждая себя мысленным погружением в моё прошлое. Что говорить о них, когда и моим детям трудно вспомнить меня таким, как много лет назад, понять, что я не просто дедушка, к которому они приезжают на дни рождения вот уже которое десятилетие подряд, а носитель целой вселенной событий! Которые, когда-то произойдя, навсегда остались со мной и во мне. Мои одноклассники, умерев, не исчезли, они навсегда внутри меня. Дожди и метели, под которые я попадал, так же роняют свои капли в глубинах моей памяти, а снежинки заметают её дальние уголки. Я – это целый мир, который, к сожалению, никому не интересен, но он, тем не менее, есть!
Сейчас в это трудно поверить, но когда-то я был маленьким. Жили мы в небольшой деревянной избе, окружённой полями Рязанской области. Дорога из жёлто-серой глины, нанизавшая на себя несколько деревень и сел, начиналась в уездном городе Скопин, а заканчивалась в нашем, немаленьком по меркам тех годов, селе. Разбитая телегами, летом горячая от лучей солнца, в дождливые осенние дни она становилась раскисшей и трудно преодолимой. На окраине стояла настоящая ветряная мельница, на которой работал мой дед. Тогда она казалась нам чудом, и мы с мальчишками любили играть неподалеку.
Это было время организации колхозов. Не понаслышке мы знали о труде в полях, весной и осенью помогая взрослым посадить, а затем убрать урожай. Серпом мы срезали колосья и складывали аккуратно по левую руку, а потом собирали их в снопы и накидывали в телегу, а позже вручную молотили, выбивая зерно.
В деревнях тогда было голодно, но мы, не зная другой жизни, не сильно переживали из-за этого. Хлеб по-прежнему готовили в печах, и от отсутствия соли и примеси лебеды в ржаной муке был он кисловато-пресным. По праздникам готовили блины, подслащивая их мёдом, выпекали пироги с капустой и яйцом, а в горшке тушили мясо. В обычные дни ели просяную или ячменную кашу, заедая хлебом и запивая водой.
Церковь на пригорке ещё действовала, созывая на молитвы колокольным звоном. Я любил церковные праздники, на них всегда готовили вкусные угощения. Но вскоре служить в ней перестали и организовали склад.
Детство в моих воспоминаниях всегда светлое и солнечное. Хотя, наверное, так у всех. Помню лес неподалёку, в котором собирали грибы и ягоды, речку, где бреднем ловили рыбу. А на поле возле села стояли табором цыгане. В колхозе они почти не работали, но и вреда от них не было. Каждый вечер у костров затягивали они свои песни, и мы, конечно же, любили бывать у них. Там, сидя у костра, мы как бы впитывали в себя чужой запах странствий и свободы.
Сельская школа расположилась в двухэтажном здании училища, построенного ещё до революции. Свои честные семь классов я отучился довольно неплохо. Конечно, до уровня современной школы было совсем далеко, но учителя, готовившие специалистов ещё при царе, научили нас думать, искать и находить ответы. Продолжил учёбу я уже в городе. Там, на главной улице, было вечернее ремесленное училище, по окончании которого выдавался диплом.
Вечером я посещал занятия, а днём работал на хлебопекарном заводе. Попав на него впервые, я был поражён количеством хлеба! Для меня это было настолько непривычным зрелищем, как если бы бедняка завели в помещение монетного двора и заставили складывать банкноты пачками. Работа была несложная, но тяжёлая. Мы, я и двое таких же ребят, таскали мешки с мукой, поддоны с готовым хлебом, подносили ведра с водой, перетаскивали чаны с тестом, а потом отмывали их, приготовляя под новую закваску.
Процесс этот был почти ручной и выглядел следующим образом. В огромный чан высыпалась мука, затем из вёдер наливали воду и кидали несколько горстей закваски, которая специально была оставлена для брожения от предыдущих замесов. Перемешивали тесто специальные мешалки, приводившиеся в движение вращением ручки колеса с приводным ремнём. Когда тесто было готово, его оставляли на некоторое время «доходить», а спустя час чан подвозили к раздаточному столу, и фасовщица руками наполняла заранее приготовленные чугунные формы. Она нагибалась, зачерпывала руками порцию теста, бросала её на весы, отмеряла нужное количество граммов, затем собирала расплывающуюся жидкость с чаши весов и кидала её в форму, которую затем ставили в специальный шкаф, где тесто поднималось, и только потом засовывали в металлические печи, топившиеся дровами. Чтобы хлеб пропёкся равномерно, посередине процесса печь надо было открыть, вытащить раскалённые формы и вставить их обратно другой стороной. Обжигаясь, доставали хлеб войлочными рукавицами, вываливая формы на специальный стол, выбивая из каждой буханки, которые аккуратно складывали на поддоны. И всё начиналось заново. В день надо было выпечь около пятидесяти таких чанов, в каждый из которых входило по полтора мешка муки.
Самое главное испытание, с которым я столкнулся, работая на хлебозаводе, – при таком обилии хлеба есть его было категорически нельзя. И только в обеденный перерыв нам приносили не больше чем по половине буханки на человека подгоревшего, забракованного хлеба.
Закончился мой первый курс в училище, скоро должно было исполниться 15 лет, когда началась война. Душевный подъём первых дней сменился растерянностью. Фронт приближался, почти каждый день из динамиков громкоговорителя передавали об оставлении нашими частями то одного, то другого населённого пункта. Наш город находился в стороне от больших дорог и не видел потоков беженцев с запада и эшелонов с востока, но знакомые ребята из Ряжска о санитарных поездах, теплушках с новым пополнением и платформами с техникой, закутанной в брезент, знали не понаслышке. Именно через Ряжск проходила крупная железнодорожная линия, соединяющая столицу и юг страны.
В начале июля мой отец и старший брат ушли на фронт. Мне удалось приехать домой на проводы. Вечером посидели за столом, больше молчали. Мать просила, чтобы я вернулся, но отец всё правильно рассудил: негоже мне в такие дни бросать работу и учёбу. А наутро они ушли, и с площади около церкви их и ещё пятерых увезла полуторка. Больше мы их никогда не видели и не получили ни одной весточки.
А в августе в Скопине стали создавать отряды самообороны. В один из таких отрядов, входящих в состав Скопинского истребительного добровольческого батальона, пошёл и я. На возраст тогда не смотрели, нужно было защищать город. С нами начались занятия по боевой подготовке, учили стрелять, кидать гранаты. Иногда нас выводили на земляные работы – рыли противотанковые рвы недалеко от города. Согласно установленному графику, несли патрулирование улиц города и выезжали в предполагаемые места высадки вражеского десанта. Спать нас отпускали по домам, в моём случае это было общежитие при училище, куда я заходил совсем другой уже походкой, важный и очень уставший.
К середине ноября фашисты подошли совсем близко. Мы знали, что ими уже захвачен соседний район, и ждали их со дня на день. Тогда же нас всех перевели на казарменное положение. Наши дозоры видели немецких мотоциклистов, выскакивавших на окраину города, которые, не принимая боя, разворачивались и уезжали. Тревога нарастала. Среди бойцов ополчения было много детей лет пятнадцати-семнадцати, тогда на возраст никто не смотрел. Одетые в разношёрстную гражданскую одежду, вооружённые нашими «трёхлинейками» и польскими винтовками «radom», с тремя пулемётами на всех, вид мы имели жалкий. Хотелось быстрее встретиться с противником, но чем ближе был этот момент, тем страшнее становилось. Фашисты подошли совсем близко, и мы ждали их атаки на город в ближайшие часы.
В ночь с 24 на 25 ноября никто из батальона не смог уснуть. Стоял мороз, мы менялись в дозорах каждый час, и в темноте постоянно мерещилось движение. Те, кто был свободен, чистили оружие, готовили гранаты, в том числе, из-за нехватки обычных, и самодельные, начинённые тротилом с бикфордовым шнуром. Утром, когда рассвело, на горизонте появились немецкие колонны, мотоциклисты и крытые тентами грузовые машины. Они никого не боялись, так как их разведка доложила, что регулярных частей Красной Армии в городе нет. Подпустив их поближе, мы открыли огонь. В результате удалось поджечь несколько мотоциклов и машину, враг отступил.
Немец перегруппировывался, вдали горели угольные шахты, мороз стоял градусов под тридцать, а мы радовались первому успеху, рассказывая друг другу, кто и сколько фрицев убил.