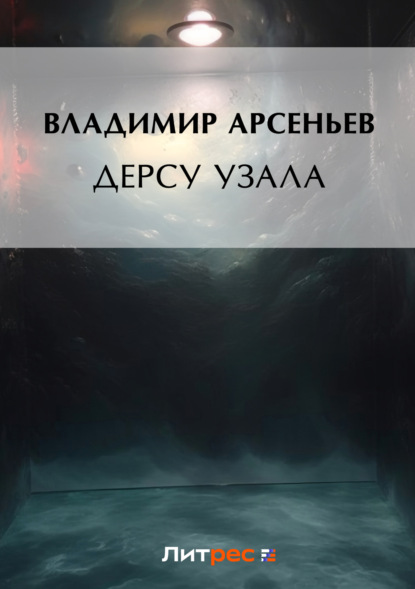 Полная версия
Полная версияДерсу Узала
Как ни старались мы избежать бродов, нам не удалось от них отделаться. Но все же заметно было, что они становились реже. Через несколько километров река разбилась на протоки, между которыми образовались острова, поросшие тальниками. Тут было много рябчиков. Мы стреляли, но ни одного не могли убить: руки дрожали, не было сил прицеливаться как следует. Понуро мы шли друг за другом и почти не говорили между собой.
Вдруг впереди показался какой-то просвет. Я думал, что это море. Но большое разочарование ждало нас, когда мы подошли поближе. Весь лес лежал на земле. Он был повален бурей в прошлом году. Это была та самая пурга, которая захватила нас 20, 21 и 22 октября при перевале через Сихотэ-Алинь. Очевидно, центр тайфуна прошел именно здесь.
Надо было обойти бурелом стороной или идти по островам, среди тальников. Не зная, какой длины и ширины будет площадь поваленного леса, мы предпочли последнее. Река сплошь была занесена плавником, и, следовательно, всюду можно было свободно перейти с одного берега на другой. Такой сплошной завал тянулся 6 км, если не больше. Наше движение было довольно медленно. Мы часто останавливались и отдыхали. Но вот завалы кончились, и опять началась вода. Я насчитал еще 23 брода, затем сбился со счета и шел без разбора.
После полудня мы еле-еле тащили ноги. Я чувствовал себя совершенно разбитым; Дерсу тоже был болен. Один раз мы видели кабана, но нам было не до охоты. Сегодня мы рано стали на бивак.
Здесь я окончательно свалился с ног: меня трясла сильная лихорадка и почему-то опухли лицо, ноги и руки. Дерсу весь вечер работал один. Потом я впал в забытье. Мне все время грезилась какая-то тоненькая паутина. Она извивалась вокруг меня, постепенно становилась все толще и толще и, наконец, принимала чудовищные размеры. Мне казалось, что горный хребет Карту движется с ужасающей быстротой и давит меня своей тяжестью. В ужасе я вскакивал и кричал. Хребет Карту сразу пропадал, и вместо него опять появлялась паутина, и опять она начинала увеличиваться, приобретая в то же время быстрое вращательное движение. Смутно я чувствовал у себя на голове холодную воду.
Сколько продолжалось такое состояние, не знаю. Когда я пришел в себя, то увидел, что покрыт кожаной курткой гольда.
Был вечер; на небе блестели яркие звезды. У огня сидел Дерсу; вид у него был изнуренный, усталый.
Оказалось, что в бреду я провалялся более 12 часов. Дерсу за это время не ложился спать и ухаживал за мною. Он клал мне на голову мокрую тряпку, а ноги грел у костра. Я попросил пить. Дерсу подал мне отвар какой-то травы противного сладковатого вкуса. Дерсу настаивал, чтобы я выпил его как можно больше. Затем мы легли спать вместе и, покрывшись одной палаткой, оба уснули.
Следующий день был 13 октября. Сон немного подкрепил Дерсу, но я чувствовал себя совершенно разбитым. Однако дневать здесь было нельзя. Продовольствия у нас не было ни крошки. Через силу мы поднялись и пошли дальше вниз по реке.
Долина становилась все шире и шире. Буреломы и гарь остались позади; вместо ели, кедра и пихты чаще стали попадаться березняки, тальники и лиственницы, имеющие вид строевых деревьев.
Я шел как пьяный. Дерсу тоже перемогал себя и еле-еле волочил ноги. Заметив впереди, с левой стороны, высокие утесы, мы заблаговременно перешли на правый берег реки. Здесь Кулумбе сразу разбилась на 8 рукавов. Это в значительной степени облегчило нашу переправу. Дерсу всячески старался меня подбодрить. Иногда он принимался шутить, но по его лицу я видел, что он тоже страдает.
– Каза, каза (чайка)! – закричал он вдруг, указывая на белую птицу, мелькавшую в воздухе. – Море далеко нету.
И как бы в подтверждение его слов из-за поворота с левой стороны выглянула скала Ян-Тун-лаза – та самая скала, которую мы видели около устья Кулумбе, когда шли с реки Такемы на Амагу. Надежда на то, что близок конец нашим страданиям, придала мне силы. Но теперь опять предстояло переправляться на левый берег Кулумбе, которая текла здесь одним руслом и имела быстрое течение. Поперек реки лежала длинная лиственница. Она сильно качалась. Эта переправа отняла у нас много времени. Дерсу сначала перенес через реку ружья и котомки, а затем помог переправиться мне.
Наконец мы подошли к скале Ян-Тун-лаза. Тут на опушке дубовой рощи мы немного отдохнули. До моря оставалось еще километра полтора. Долина здесь делает крутой поворот к юго-востоку. Собрав остаток сил, мы поплелись дальше. Скоро дубняки стали редеть, и вот перед нами сверкнуло море.
Наш трудный путь был кончен. Сюда стрелки должны были доставить продовольствие, здесь мы могли оставаться на месте до тех пор, пока окончательно не выздоровеем.
В 6 часов пополудни мы подошли к скале Ван-Син-лаза. Еще более горькое разочарование ждало нас здесь: продовольствия не было. Мы обшарили все уголки, засматривали за бурелом, за большие камни, но нигде ничего не нашли. Оставалась еще одна надежда: быть может, стрелки оставили продовольствие по ту сторону скалы Ван-Син-лаза. Гольд вызвался слазить туда. Поднявшись на ее гребень, он увидел, что карниз, по которому идет тропа, покрыт льдом. Дерсу не решился идти дальше. Сверху он осмотрел весь берег и ничего там не заметил. Спустившись назад, он сообщил мне эту печальную весть и сейчас же постарался утешить.
– Ничего, капитан, – сказал он, – около моря можно всегда найти кушать.
Потом мы пошли к берегу и отворотили один камень. Из-под него выбежало множество мелких крабов. Они бросились врассыпную и проворно спрятались под другие камни. Мы стали ловить их руками и скоро собрали десятка два. Тут же мы нашли еще двух протомоллюсков и около сотни раковин береговичков. После этого мы выбрали место для бивака и развели большой огонь. Протомоллюсков и береговичков мы съели сырыми, а крабов сварили. Правда, это дало нам немного, но все же первые приступы голода были утолены.
Зная исполнительность своих людей, я никак не мог понять, почему они не доставили продовольствия на указанное место. Завтра надо перейти через скалу Ван-Син-лаза и попытаться берегом дойти до корейцев на реке Найне.
Лихорадка моя прошла, но слабость еще осталась. Дерсу хотел завтра рано утром сбегать на охоту и потому лег спать пораньше. Я долго сидел у огня и грелся.
Ночь была ясная и холодная. Звезды ярко горели на небе; мерцание их отражалось в воде. Кругом было тихо и безлюдно; не было слышно даже всплесков прибоя. Красный полумесяц взошел поздно и задумчиво глядел на уснувшую землю. Высокие горы, беспредельный океан и глубокое темно-синее небо – все было так величественно, грандиозно. Шепот Дерсу вывел меня из задумчивости: он о чем-то бредил во сне.
Утомленный тяжелой дорогой, измученный лихорадкой, я лег рядом с ним и уснул.
Чуть брезжило. Сумрак ночи еще боролся с рассветом, но уже видно было, что он не в силах остановить занимавшейся зари. Неясным светом освещала она тихое море и пустынный берег.
Наш костер почти совсем угас. Я разбудил Дерсу, и мы оба принялись раздувать угли. В это время до слуха моего донеслись два каких-то отрывистых звука, похожие на вой.
– Это изюбр ревет, – сказал я своему приятелю. – Иди поскорей: быть может, ты убьешь его.
Дерсу стал молча собираться, но затем остановился, подумал немного и сказал:
– Нет, это не изюбр. Теперь его кричи не могу.
В это время звуки опять повторились, и мы ясно разобрали, что исходят они со стороны моря. Они показались мне знакомыми, но я никак не мог припомнить, где раньше их слышал.
Я сидел у огня спиною к морю, а Дерсу против меня.
Вдруг он вскочил на ноги и, протянув руку, сказал:
– Смотри, капитан!
Я оглянулся и увидел миноносец «Грозный», выходящий из-за мыса.
Точно сговорившись, мы сделали в воздух два выстрела, затем бросились к огню и стали бросать в него водоросли. От костра поднялся белый дым. «Грозный» издал несколько пронзительных свистков и повернул в нашу сторону. Нас заметили… Сразу точно гора свалилась с плеч. Мы оба повеселели.
Через несколько минут мы были на борту миноносца, где нас радушно встретил П.Г. Тигерстедт.
Оказалось, что он, возвращаясь с Шантарских островов, зашел на Амагу и здесь узнал от А.И. Мерзлякова, что я ушел в горы и должен выйти к морю где-нибудь около реки Кулумбе. Староверы ему рассказали, что удэгеец Сале и двое стрелков должны были доставить к скале Ван-Син-лаза продовольствие, но по пути во время бури лодку их разбило о камни, и все то, что они везли с собой, утонуло. Они сейчас же вернулись обратно на Амагу, чтобы с новыми запасами продовольствия пойти вторично нам навстречу. Тогда П.Г. Тигерстедт решил идти на поиски. Ночью он дошел до Такемы и повернул обратно, а на рассвете подошел к реке Кулумбе, подавая сиреной сигналы, которые я и принял за рев изюбра.
П.Г. Тигерстедт взялся доставить меня к отряду. За обильным яствами столом и за стаканом чая мы и не заметили, как дошли до Амагу.
Здесь А.И. Мерзляков, ссылаясь на ревматизм, стал просить позволения уехать во Владивосток, на что я охотно согласился. Вместе с ним я отпустил также стрелков Дьякова и Фокина и велел ему с запасами продовольствия и с теплой одеждой выйти навстречу мне по реке Бикину.
Через час «Грозный» стал сниматься с якоря.
Мое прощание с моряками носило более чем дружеский характер. Стоя на берегу, я увидел на мостике миноносца командира судна. Он посылал мне приветствия, махая фуражкой. Когда «Грозный» отошел настолько далеко, что нельзя уже было разобрать на нем людей, я вернулся в старообрядческую деревню.
Теперь в отряде осталось только 7 человек: я, Дерсу, Чжан Бао, Захаров, Аринин, Туртыгин и Сабитов. Последние не пожелали возвращаться во Владивосток и добровольно остались со мной до конца экспедиции. Это были самые преданные и самые лучшие люди в отряде.
Глава 15
Низовья реки Кусун
Хребет Караминский. – Зыбучий песок. – Река Соен. – Мелкие горные ручьи. – Река Витухэ. – Последние перелетные птицы. – Летающие куры. – Туземцы на реке Кусун. – Священное дерево. – Жилище шамана. – Морской старшина. – Расставание с Чжан Бао. – Выступление.
Следующие 5 дней я отдыхал и готовился к походу на север вдоль берега моря.
Приближалась зима. Голые скелеты деревьев имели безжизненный вид. Красивая летняя листва их, теперь пожелтевшая и побуревшая, в виде мусора валялась на земле. Куда девались те красочно-разнообразные тона, которыми ранней осенью так богата растительность в Уссурийском крае?
Кормить мулов становилось все труднее и труднее, и я решил оставить их до весны у староверов.
20 октября, утром, мы тронулись в путь. Старообрядец Нефед Черепанов вызвался проводить нас до реки Соен. На этом пути в море впадает несколько речек, имеющих только туземные названия. Это будут: Мэяку (по-китайски Михейзуйза), Найна, Калама, Гианкуни и Лоси.
Горный хребет, с которого они берут начало, называемый староверами Караминским, тянется параллельно берегу моря и является водоразделом между рекой Амагу и вышеперечисленными речками. Наивысшие точки Караминского хребта будут: Киганкуни, Лысуха, Водолей и 3 Брата. Все они имеют сглаженные контуры и состоят из мелафиров, базальтов и их туфов.
Растительность на горах, как травяная, так и кустарниковая, пышная; зато древесная, как и везде по морскому побережью, очень бедна. Редколесье состоит главным образом из лиственницы, ольхи, дуба, черной и белой березы.
С реки Амагу мы выступили довольно поздно, поэтому не могли уйти далеко и заночевали на реке Соен.
Река эта (по-удэгейски Суа или Соага) состоит из двух речек – Гага и Огоми, длиною каждая 1–8 км, сливающихся в 1,5 км от моря. Речка Гага имеет три притока: справа – Нунги с притоком Дагдасу и Дуни, а слева – один только ключ Ада с перевалом на Кусун. Речка Огоми имеет два притока: Канходя и Цагдаму. Около устья Соен образует небольшую, но глубокую заводь, соединяющуюся с морем узкой протокой. Эта заводь и зыбучее болото рядом с ним – остатки бывшей ранее лагуны.
Когда мы подошли к реке, было уже около 2 часов пополудни. Со стороны моря дул сильный ветер. Волны с шумом бились о берег и с пеной разбегались по песку. От реки в море тянулась отмель. Я без опаски пошел по ней и вдруг почувствовал тяжесть в ногах. Хотел было я отступить назад, но, к ужасу своему, почувствовал, что не могу двинуться с места. Я медленно погружался в воду.
– Зыбучий песок! – закричал я не своим голосом и оперся ружьем в землю, но и его стало засасывать.
Стрелки не поняли, в чем дело, и в недоумении смотрели на мои движения. Но в это время подошли Дерсу и Чжан Бао. Они бросились ко мне на помощь: Дерсу протянул сошки, а Чжан Бао стал бросать мне под ноги плавник. Ухватившись рукой за валежину, я высвободил сначала одну ногу, потом другую и не без труда выбрался на твердую землю.
Зыбуны на берегу моря, по словам Черепанова и Чжан Бао, явление довольно обычное. Морской прибой взрыхляет песок и делает его опасным для пешеходов. Когда же волнение успокаивается, тогда по нему свободно может пройти не только человек, но и лошадь с полным вьюком. Делать нечего, пришлось остановиться и в буквальном смысле ждать у моря погоды.
На реке Гага, как раз против притока Ада, в 5 км от моря, есть теплый ключ. Окружающая его порода – диабаз. Здесь, собственно говоря, два ключа: горячий и холодный. Оба они имеют выходы на дне небольшого водоема, длина которого равна 2 м, ширина 5 м и глубина 0,6 м. Со дна с шипением выделяется сероводород. Температура воды +28,1°; на поверхности земли, около резервуара, была +12°. Температура воздуха +7,5°С.
Ночью море успокоилось. Черепанов сказал правду: утром песок уплотнился так, что на нем даже не оставалось следов ног.
Около реки Соен Караминский хребет отходит несколько в глубь материка, постепенно повышаясь на север, а около моря выступает цепь холмов, отмытых водой вдоль оси их простирания.
Из мысов, с которыми у туземцев связаны какие-либо сказания, можно отметить два: Омулен-Гахани и Сутдэма-Оногони. Здесь морским прибоем в береговых утесах выбило глубокие пещеры, порода обрушилась, и во многих местах образовались одиноко стоящие каменные столбы.
Километрах в 10 от реки Соен тропа оставляет берег и через небольшой перевал, состоящий из роговообманкового андезита, выходит к реке Витухэ – первому правому притоку Кусуна. Она течет в направлении с юго-запада на северо-восток и по пути принимает в себя один только безымянный ключик. Окрестные горы покрыты березняком, порослью дуба и сибирской пихтой.
Время стояло позднее, осеннее, но было еще настолько тепло, что люди шли в одних фуфайках. По утрам бывали заморозки, но днем температура опять поднималась до +4 и 5°С. Длинная и теплая осень является отличительной чертой Зауссурийского края.
Несмотря на столь позднее время, в лесу еще можно было видеть кое-где перелетных и неперелетных птиц. На полях, где паслись лошади староверов, в сухой траве копошились серые скворцы. Вид у них был веселый, игривый. Далее, в редколесье, я заметил большого пестрого дятла – птицу, всюду распространенную и действительно пеструю. Тут же с места на место перелетали белобрюхие синицы. К ним присоединились и другие мелкие птицы, в числе которых я узнал белоголовую овсянку. По времени ей надлежало бы уже давно отлететь к югу, но, вероятно, в прибрежном районе вследствие длинной осени и запаздывания весны перелеты птиц также запаздывают. Попадались еще какие-то пестренькие птички с красными пятнами на голове, быть может чечетки. Столь раннее появление этой северной гостьи можно объяснить тем, что в горах Зауссурийского края после лесных пожаров выросло много березняков, где она и находит для себя обильный корм. Вероятно, реки Амагу и Кусун будут южной границей ее распространения в Зауссурийском крае. Эта розовая птичка держится в лесистых горных местах и ведет скрытный образ жизни. Потом я увидел двух азиатских канюков. Эти проворные хищники все время носились по воздуху и описывали большие круги. Завидев подходящих людей, они бросались нам навстречу и, испуская пронзительные крики, кружились над головами. На дереве, на берегу ручья, сидела обыкновенная сорока. Я узнал ее по чекотанию и черному с белым оперению. При приближении отряда она снялась с дерева и полетела неровно, распустив свой длинный хвост.
За перевалом тропа идет по болотистой долине реки Витухэ. По пути она пересекает четыре сильно заболоченных распадка, поросших редкой лиственницей. На сухих местах царят дуб, липа и черная береза с подлесьем из таволги вперемежку с даурской калиной. Тропинка привела нас к краю высокого обрыва. Это была древняя речная терраса. Редколесье и кустарники исчезли, и перед нами развернулась широкая долина реки Кусун. Вдали виднелись китайские фанзы.
Когда после долгого пути вдруг перед глазами появляются жилые постройки, люди, лошади и собаки начинают идти бодрее. Спустившись с террасы, мы прибавили шагу.
Собака моя бежала впереди и старательно осматривала кусты по сторонам дороги. Вскоре мы подошли к полям; хлеб был уже убран и сложен в зароды. Вдруг Альпа сделала стойку. «Неужели фазаны?» – подумал я и приготовил ружье. Я заметил, что Альпа была в сильном смущении: она часто оглядывалась и как будто спрашивала, продолжать работу или нет. Я подал знак – она осторожно двинулась вперед, усиленно нюхая воздух. По стойкам ее я видел, что тут были не фазаны, а кто-то другой. Вдруг с шумом поднялись сразу три птицы. Я стрелял и промахнулся. Полет птиц был какой-то тяжелый: они часто махали крыльями и перед спуском на землю неловко спланировали. Я следил за ними глазами и видел, что они спустились во двор ближайшей к нам фанзы. Это оказались домашние куры. Та к как туземцы их не кормят, то они вынуждены сами добывать себе корм на полях. Для этого им приходится уходить далеко от жилищ. Очевидно, способность летать развилась у них постепенно вследствие постоянного упражнения. Будучи испуганы какими-либо животными, они должны были спасаться не только бегством, но и при помощи крыльев.
Куры и тропа привели нас к фанзе старика удэгейца Люрла. Семья его состояла из пяти мужчин и четырех женщин.
Удэгейцы на реке Кусун сами огородничеством не занимаются, а нанимают для этого китайцев. Одеваются они наполовину по-китайски, наполовину по-своему, говорят по-китайски и только в том случае, если хотят посекретничать между собой, говорят на родном языке. Женские костюмы отличаются пестротой вышивок, а на груди, подоле и рукавах украшаются еще светлыми пуговицами, мелкими раковинами, бубенчиками и разными медными побрякушками, отчего всякое движение обладательниц их сопровождается шелестящим звоном.
Мне очень хотелось поближе познакомиться с кусунскими удэгейцами. Поэтому я, несмотря на усиленные приглашения китайцев, остановился у туземцев. Мне скоро удалось заручиться их доверием; они охотно отвечали на мои вопросы и всячески старались услужить. Особенно же они ухаживали за Дерсу.
Лет 40 назад удэгейцев в прибрежном районе было так много, что, как выражался сам Люрл, лебеди, пока летели от реки Самарги до залива Ольги, от дыма, который поднимался от их юрт, из белых становились черными. Больше всего удэгейцев жило на реках Тадушу и Тетюхе. На Кусуне было 22 юрты, на Амагу – только 3 и на Такеме – 18. Тогда граница обитания их спускалась до реки Судзухе и к западу от нее.
Как и везде, кусунские удэгейцы находились в неоплатных долгах у китайцев. Первобытная честность их теперь стала падать. Они не говорили, сколько поймали соболей: худших отдавали кредиторам, а лучших оставляли у себя и потом торговали ими тихонько где-нибудь на стороне. Такой обман являлся единственным средством борьбы с китайцами, немилосердно их эксплуатировавшими. Затем они старались набрать в кредит как можно больше в расчете, что кредитор, опасаясь совсем потерять долг, согласится на уступки и сделает скидку. Иногда это им удавалось, но иногда китайцы выходили из терпения и жестоко расправлялись со своими должниками.
Следующий день я посвятил осмотру окрестностей.
Река Кусун (по-китайски Кусун-гоу, по-удэгейски Куй или Куги) впадает в море немного севернее мыса Максимова. Между устьем Витухэ и устьем Кусуна образовалась длинная заводь, отделенная от моря валом из гальки и песка шириной 80 м. Обыкновенно в этой заводи отстаиваются китайские лодки, застигнутые непогодой в море. Раньше здесь также скрывались хищнические японские рыбалки. Несомненно, нижняя часть долины Кусуна раньше была тоже лагуной, как и в других местах побережья, о чем уже неоднократно говорилось.
Река Кусун придерживается левой стороны долины. Она идет одним руслом, образуя по сторонам много сухих рукавов, играющих роль водоотводных каналов, отчего долина Кусуна в дождливое время года не затопляется водой. По показаниям удэгейцев, за последние 30 лет здесь не было ни одного наводнения.
Левый, возвышенный, террасообразный берег реки имеет высоту около 30 м и состоит из белой глины, в массе которой можно усмотреть блестки колчедана. Где-то в горах удэгейцы добывают довольно крупные куски обсидиана. Растительность в низовьях Кусуна довольно невзрачная и однообразная. Около реки, на островах и по сухим протокам, – густые заросли тальников, имеющих вид высоких пирамидальных тополей, с ветвями, поднимающимися кверху чуть ли не от самого корня. Среди них попадается осина, немало ольхи.
Все удобные земли располагаются с правой стороны реки, где почва весьма плодородная и состоит из ила и чернозема с прослойками гальки и песка, вследствие чего травы развиваются весьма пышно, в особенности тростники, достигающие 2,5–3 м высоты. В сообществе с ними, а иногда отдельно целыми площадями растет обыкновенная полынь, а около реки, на галечниковых и песчаных наносах, – другая полынь, с ветвистым высоким стеблем и с густой, пышной метелкой. Тут было много и еще каких-то злаков и цветковых растений, но все они настолько завяли, что определить их по внешнему виду даже приблизительно было нельзя. Дальнейший сбор гербарного материала не имел смысла.
Кусунские тазы-удэгейцы находились в переходном состоянии от охотничьего образа жизни к земледельческому. Вследствие отдаленности влияние китайцев сказалось на них неглубоко. Поэтому здесь мне удалось увидеть много того, чего нет на юге Уссурийского края. Так, например, в одном месте, около глубокого пруда, стояло фигурное дерево «Тхун». Оно все было покрыто резьбой, а на главных ветвях его были укреплены идолы, изображающие людей, птиц и животных. Это место запретное: здесь обитает злой дух Огзо. История дерева такова. Несколько лет назад около пруда поселилась семья удэгейцев, состоящая из трех мужчин, трех женщин и семерых детей. Однажды ночью один из братьев, выйдя из фанзы, услышал всплески воды в пруде и чье-то сопение. Подойдя поближе, он увидел какое-то большое животное, похожее на сивуча. Пруд не сообщался ни с рекой, ни с морем. В страхе удэгеец убежал домой. Тогда все решили, что это был черт.
Спустя немного времени один за другим начали умирать дети. Позвали шамана. В конце второго дня камлания он указал место, где надо поставить фигурное дерево, но и это не помогло. Смерть уносила одного человека за другим. Очевидно, черт поселился в самом жилище. Оставалось последнее средство – уступить ему фанзу. Та к и сделали. Забрав все имущество, они перекочевали на реку Уленгоу.
В одном километре от фигурного дерева находилось жилище шамана. Я сразу узнал его по обстановке. Около тропы стояли четыре кола с грубыми изображениями человеческих лиц. Это «цзайгда» – охраняющие дорогу. У них на головах ножи, которыми и поражали черта. На деревьях красовались медвежьи черепа и деревянные бурханы. Тут же стояли древесные пни, вкопанные в землю острыми концами и корнями кверху. На них тоже были сделаны грубые изображения человеческих лиц. Против самого входа в жилище стоял большой деревянный идол Мангани-Севохи с мечом и копьем в руках, а рядом с ним – две оголенные от сучьев лиственницы с корой, снятой кольцами.
Внутреннее устройство фанзы ничем не отличалось от фанз прочих туземцев. На стене висел бубен с колотушкой, пояс с погремушками, шаманская юбка с рисунками и деревянная маска, отороченная мехом медведя. Шаман надевает ее во время камлания для того, чтобы страшным видом запугать черта.
От старика Люрла я узнал, что в прибрежном районе Кусун будет самой южной рекой, по которой можно перевалить на Бикин, а самой северной – река Един (мыс Гладкий). По этой последней можно выйти и на Бикин и на Хор, смотря по тому, по какому из двух верхних притоков идти к перевалу. Он также сообщил мне, что в прибрежном районе Зауссурийского края осень всегда длинная и ледостав наступает на месяц, а иногда и на полтора позже, чем к западу от водораздела. Поэтому я решил идти по берегу моря до тех пор, пока не станут реки, и только тогда направиться к Сихотэ-Алиню.
На заводях Кусуна мы застали старого лодочника маньчжура Хей-ба-тоу, что в переводе значит «морской старшина». Это был опытный мореход, плавающий вдоль берегов Уссурийского края с малых лет. Отец его занимался морскими промыслами и с детства приучил сына к морю. Раньше он плавал у берегов Южно-Уссурийского края, но в последние годы под давлением русских перекочевал на север.



