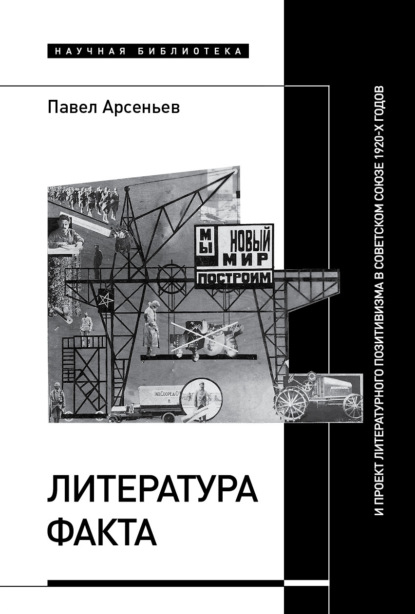
Полная версия:
Литература факта и проект литературного позитивизма в Советском Союзе 1920-х годов
387
Это означает, что в центре пьесы не только производственная, но и – переплетенная с ней – семейная драма: беременная главная героиня отказывается дать будущему ребенку человеческое имя и признается, что назовет его Противогаз – в память о производственной трагедии… и, выходит, о самой пьесе Третьякова. Это необычное даже для революционной эпохи имя можно рассматривать в качестве первого указания на будущий интерес Третьякова к «биографии вещи». См. подробнее: Арсеньев П. Би(бли)ография вещи. С. 36–44.
388
«Хочу ребенка!» К постановке Театра имени Мейерхольда. (Беседа с автором пьесы С. М. Третьяковым) // Программы государственных академических театров. 1927. № 4. С. 12; курсив наш.
389
Эта формулировка принадлежит пролеткультовскому теоретику Керженцеву, полагавшему, что театр вырастает из самой преображенной революцией жизни и отменяет необходимость становления профессиональным актером (см.: Керженцев П. Творческий театр. М.: ВЦИК, 1919. С. 38). См. подробнее о различных моделях революционного театра главу «Театр и революция в первые годы Республики Советов» (с. 154–187) в книге: Кларк К. Петербург, горнило культурной революции.
390
Доклад Мейерхольда 15 декабря 1928 года в Главреперткоме; цит. по: Февральский А. С. М. Третьяков в театре Мейерхольда. С. 201.
391
Лисицкий был выбран неслучайно, поскольку этот проект он реализовывал в своей собственной конструктивной практике. Так, в 1926 году в Дрездене он создает экспозиционное пространство, в котором «зритель больше не должен быть убаюкиваем живописью до пассивности. Наша установка сделает его активным <…> Зритель физически вовлекается во взаимодействие с представленными объектами» (Lisitsky E. Demonstrationsraüme. Dresden: VEB-Verlag der Kunst, 1967. S. 362). Как художники, так и литераторы с режиссерами ЛЕФа стремились заполнить разрыв между искусством и массами, который породила буржуазная традиция. Кризис репрезентации был одновременно кризисом отношений с аудиторией, на который парижский авангард отвечал утверждением уникального статуса авангардного объекта, тогда как советские и немецкие авторы разрабатывали различные стратегии преодоления исторических ограничений модернизма. См. подробнее об этом: Buchloh B. From Faktura to Factography.
392
Цит. по: Kolchevska N. From Agitation to Factography: The Plays of Sergej Tret’jakov. P. 397.
393
Рудницкий К. Режиссер Мейерхольд. М.: Наука, 1969. С. 395; курсив наш. Ср. решение, предложенное в той же самой «здоровой общественной дискуссии» Андреем Платоновым в рассказе «Анти-сексус».
394
Цит. по: Февральский А. С. М. Третьяков в театре Мейерхольда. С. 198.
395
В 1926 году журнал «Гигиена и здоровье рабочей и крестьянской семьи» объявляет конкурс «Здоровый ребенок», а осенью того же года разворачивается суд над коллективным изнасилованием (т. наз. Чубаровское дело). См. подробнее: Kiaer С. Imagine No Posessions: The Socialist Objects of Russian Constructivism. Cambridge: MIT Press, 2005. P. 255–258, а также главу 7 в книге: Naiman E. Sex in Public: The Incarnation of Early Soviet Ideology. Princeton: Princeton UP, 1997.
396
Там же Третьяков уточняет задуманный им социальный эффект постановки: «Я не большой поклонник пьес, которые заканчивают свое драматургическое развертывание некоей одобренной сентенцией, уравновешивающей борьбу, происходящую на сцене. Интрига провернута, преподнесен вывод, и зритель может спокойно идти надевать калоши. Я считаю более ценными те пьесы, реализационная часть которых возникает в зрительской гуще, за пределами театрального зала. Не пьеса, замыкающаяся в эстетическое кольцо, но пьеса, начинающаяся на эстетическом трамплине сцены и развертывающаяся в спираль, завитки которой уходят в зрительские споры, в зрительскую внетеатральную практику» (С. М. Третьяков // Рабис. 1929. № 11. С. 7).
397
Доклад Мейерхольда 15 декабря 1928 года в Главреперткоме; цит. по: Февральский А. С. М. Третьяков в театре Мейерхольда. С. 201.
398
Крученых А., Хлебников В. Слово как таковое. С. 26. Об индексальном характере заумного слова как эмуляции звукозаписывающей техники см. в эссе «Не из слов, а из звуков: заумь и фонограф» в ЛП.
399
«На афише мы будем писать не „спектакль первый“, „второй“, „третий“, а дискуссия „первая“, „вторая“, „третья“» (Доклад Мейерхольда. С. 202).
400
В дискуссии после доклада Мейерхольда Третьяков скажет: «Я охотно иду на любые указания, которые мне делает советская медицина» (Там же).
401
Доклад Мейерхольда. С. 201. Тогда же в борьбу за желанную постановку включается и Игорь Терентьев, предполагавший поставить спектакль в Московском театре Революции, но и его постановочный план останется без реализации.
402
Беньямин В. Московский дневник / Пер. с нем. и примеч. С. Ромашко. М., 1997.
403
Третьяков С. О пьесе «Рычи, Китай» // Он же. Слышишь, Москва? М.: Искусство, 1966. С. 159. Жанровое затруднение – не единственное. Заимствование индексального материала и способы его обработки в пьесе начинают откровенно конфликтовать с задачами агитационного воздействия. Так, документальный материал должен быть инсценирован, как и ранее индексальность – поставлена. Этого Третьяков добивается приемами монтажа уже не только текстовых и речевых фрагментов, но и целых «повествовательных звеньев» – используя ретардацию, реверсию, взаимоналожения и то, что сейчас назвали бы флешбэком. Настаивая на том, что он позволяет «фактам говорить самим за себя», Третьяков одновременно подчеркивает манипуляцию сценическим временем и повествовательной фокализацией в степени, позволяемой обычно только медиумом кино. См. подробнее об этом «событии в шести звеньях» в: Kolchevska N. From Agitation to Factography: The Plays of Sergej Tret’jakov. P. 388–403.
404
Третьяков С. О пьесе «Рычи, Китай». С. 159.
405
Мы продолжаем использовать это понятие Ч. С. Пирса, противопоставленное иконе и индексу (см. подробнее: Кирющенко В. Язык и знак в прагматизме).
406
Арватов Б. Агит-кино и кино-глаз // Кино-журнал А. Р. К. 1925. № 8. С. 3.
407
Опубликовано в «Правде» 1 июля 1925 года и в том же году в «Известиях» ЦК РКП(б) № 25–26.
408
Третьяков С. С новым годом! С «Новым Лефом» // Новый ЛЕФ. 1928. № 1. С. 1. За исключением цитат, мы используем заглавные буквы и кавычки, когда речь идет о журнале («ЛЕФ», «Новый ЛЕФ»), и обходимся без того и другого, когда речь о группе и ее представителях (Леф, Лефы/лефовцы).
409
Подробнее о внутрилитературной борьбе и положении Лефа в контексте существующих попутнических и зарождающихся пролетарских литературных групп см. подробнее главу VI («Theory of literature») в книге: Maguire R. Red Virgin Soil. Soviet Literature in the 1920’s. Princeton: Princeton UP, 1968. P. 188–204.
410
Мы ищем // Новый ЛЕФ. 1927. № 11–12. С. 1.
411
Постоянными авторами «Нового ЛЕФа» были Шкловский и Брик из ОПОЯЗа (с 1916), а также Винокур и Кушнер из Московского лингвистического кружка (с 1915).
412
См. наш подробный анализ «Фабрики литературы», реагирующей на это же постановление 1925 года, в статье: Арсеньев П. От словотворчества к словостроительству: Винокур, Платонов, Третьяков в дискурсивной инфраструктуре авангарда.
413
Третьяков С. Бука русской литературы. С. 12.
414
Маяковский В. Расширение словесной базы. См. выше наш анализ этого текста в связи с радиотехникой в главе «Радиооратор, расширенный и дополненный».
415
Винокур Г. Язык нашей газеты. С. 124. См. наш анализ этой инфраструктуры, позволяющей Винокуру «строить справедливые аналогии с производством промышленным», в главе «„Язык нашей газеты“: лингвистический Октябрь и механизация грамматики».
416
Несмотря на эту констатацию, ниже в этой главе мы приводим аргументы против расхожей интерпретации, согласно которой ЛФ была неким промежуточным компромиссом между авангардом и соцреализмом. См., к примеру: Заламбани М. Литература факта: От авангарда к соцреализму / Пер. с итал. Н. Колесовой. СПб.: Академический проект, 2006.
417
«Стройка произведения у писателя тянется тоже десятилетия <…> в том, что одному человеку приходится проделывать такую гигантскую работу, чувствуется слабость публицистики, что обязывает „жреца искусства“ из своего привилегированного угла делать нужные общественные намеки» (Третьяков С. Новый Лев Толстой // Новый ЛЕФ. 1927. № 1. С. 34–38; далее страницы приводятся в тексте).
418
В его контурах можно разглядеть наследие богдановских амбиций (см. эссе «Неотправленное письмо и несколько способов перелить кровь» в ЛП), в то время как интонация не может не напомнить об «Экспериментальном романе» Золя, где уже звучал этот призыв к самоотмене из уст литератора (ср.: «Наука входит в область, принадлежащую нам, романистам, – нам, которые с этих пор делаемся аналистами человека»; Золя Э. Экспериментальный роман. С. 415).
419
Мы ищем // Новый ЛЕФ. 1927. № 11–12. С. 1.
420
Эйхенбаум Б. Молодой Толстой. Пб.; Берлин: Изд-во З. И. Гржебина, 1922; Он же. Лев Толстой. Книга первая. Пятидесятые годы. Л.: Прибой, 1928; Он же. Лев Толстой. Книга вторая. Шестидесятые годы. Л.; М.: Гослитиздат, 1931.
421
Ленин В. Лев Толстой как зеркало русской революции // Пролетарий. 11 (24) сентября 1908. № 35.
422
Шкловский В. «Война и мир» Льва Толстого. (План исследования) // ЛЕФ. 1927. № 10. С. 20–24. Далее план исследования, уточнившего свой жанр как «формально-социологическое», публикуется на протяжении 4 выпусков (ЛЕФ. 1928. № 1. С. 21–37; ЛЕФ. 1928. № 2. С. 14–24; ЛЕФ. 1928. № 4. С. 5–13; ЛЕФ. 1928. № 5. С. 5–15), но и после обещанного окончания, спланированного за полгода, план исследования продолжается в следующем выпуске (ЛЕФ. 1928. № 6. С. 14–21).
423
Шкловский В. Рецензия на эту книгу // Он же. Гамбургский счет: Статьи, воспоминания, эссе (1914–1933). М.: Сов. писатель, 1990. С. 383.
424
Шкловский В. Энергия заблуждения: Книга о сюжете. М.: Сов. писатель, 1981. С. 15–16. Между литературными и техническими изобретениями Шкловский прослеживает почти прямую связь – этимологическую: «В самом названии „паровоз“ есть какое-то воспоминание или можно вызвать воспоминание о повозке; потом другие двигатели заменили паровую машину» (Там же. С. 16).
425
Там же. С. 7. Если Шкловский определяет Толстого через паровоз, Чужак делает усадебно-дворянский быт (разрушенный железной дорогой) определяющим для соответствующего периода: «Процесс урбанизации <создал> естественные предпосылки для новых, не усадебно-дворянских, мироощущений, для художественно новых настроений в области литературы» (Чужак Н. Писательская памятка. С. 37; также упоминаются «усадебные времена» – с. 11; «усадебная эстетика» – с. 26; «быт вертится вокруг усадьбы» – с. 36; «усадебно-дворянский деревенский эстетический канон» – с. 42; «новеллизм усадебного типа» – с. 43). См. о железной дороге в русской литературе: Арсеньев П. Поезд в русской литературе, или Как она докатилась от Толстого до Шкловского // Нож // [URL]: https://knife.media/club/train-writing (дата обращения 10.02.2021).
426
Так же и в своей писательской практике Третьяков предпочитает скорее гибридизировать литературу с журналистикой, тогда как Шкловский склоняется к модели сохраняющегося разделения труда между литературой и «второй профессией», вдохновляющей первую своей технической рациональностью на некоторой дистанции. См. подробнее о «второй профессии» главу «Как быть писателем и делать полезные вещи?».
427
Также снова оказывается чувствителен к дефициту времени Маяковский, утверждающий в своей речи перед членами Лефа, что нельзя читать «Войну и мир» пролетариату, потому что это займет семьдесят часов работы (см.: Маяковский В. Выступления на диспуте по докладу А. В. Луначарского «Первые камни новой культуры» 9 февраля 1925 года // Он же. Полн. собр. соч.: В 13 т. М.: Гослитиздат, 1959. Т. 12. С. 288).
428
См. характерный пример в том же тексте Шкловского: «Тот Виктор Шкловский, про которого я пишу, вероятно не совсем я, и если бы мы встретились и начали разговаривать, то между нами даже возможны недоразумения» (Шкловский В. Рецензия на эту книгу. С. 381).
429
См. об этом предыдущую главу.
430
Так Чужак назовет биоинтервью Третьякова «Дэн Ши-Хуа» (см.: Чужак Н. Литература жизнестроения. (Исторический пробег) // Литература факта. С. 62).
431
Бенвенист Э. Отношения времени во французском глаголе // Он же. Общая лингвистика / Под ред. Ю. Степанова. М.: Прогресс, 1974. С. 276.
432
Неудивительно поэтому, что и выражение «где кто-то обращается к кому-то» напоминает о рассказчике Беньямина, «который предстает человеком, способным дать слушателю совет». В следующей главе мы покажем, как важна была для фактографии не только грамматика первого лица, но и техника участвующего наблюдения и политика личного присутствия.
433
Аванесян А., Хенниг А. Поэтика настоящего времени / Пер. с нем. Б. Скуратова. М.: РГГУ, 2014.
434
Характерно, что у Шкловского само понятие вымысла удостаивается апологии как форма квазириторической техники inventio: «В „Словаре Академии Российской“, изданном в 1806 году и любопытном кроме прочего тем, что именно о нем говорил однажды Пушкин – „хоть и заглядывал я встарь в Академический словарь“, – на странице 897 читаем: „ВЫМЫШЛЕНИЕ. – Выдумание, изобретение чего умом, размышлением“. Смысл слова „вымышленный“ как выдуманный, то есть несуществующий, – более поздний. В 1806 году вымысел был занятием полезным. Говорили так, я снова цитирую старый словарь: „вымышлять“ – значит „выдумывать, силою разума и размышления находить, изобретать, открывать что-нибудь новое или редкое“. Предсказуемым образом вымысел в области литературы и теории („То, что называется «формальным методом», вымышлено было и названо этим термином приблизительно в конце лета перед третьей русской революцией, перед Октябрем“) вскоре уравнивается с техникой и идеологическими конструкциями: „Уже были вымышлены на Западе паровозы. А они были вымышлены для перевозки угля, под землей. И надо было вымыслить рельсы для этих тяжелых работников. Рельсы вымыслил, изобрел Фурье, вымысливший желаемый, но фантастический для него строй – социализм“» (см. Шкловский В. Рассказ об ОПОЯЗе // Формальный метод. Антология русского модернизма: В 4 т. / Под ред. С. Ушакина. Екатеринбург; М.: Кабинетный ученый, 2016. Т. 1. С. 297–298).
435
Брик О. Разложение сюжета // Литература факта. С. 219–221.
436
Ср., опять же, в «Рассказчике» Беньямина: «Уже наполовину владеет искусством повествования тот, кто способен рассказать историю <…> не навязывая читателю психологических связей между событиями» (Беньямин В. Рассказчик. С. 391–392).
437
В обсуждении приемов фотосъемки в «Новом ЛЕФе» ведется аналогичная дискуссия между сторонниками акцента на (деформирующем) ракурсе и адептами «минимальной деформации материала». См., к примеру, обмен репликами: Кушнер Б. Открытое письмо // Новый ЛЕФ. 1928. № 8. С. 38–40; Родченко А. Пути современной фотографии // Новый ЛЕФ. 1928. № 9. С. 31–39. Третьяков в этом споре занимает сторону «материала» и тем более выступает против эстетизации конструктивистского ракурса. См. идущие следом за Кушнером: Третьяков С. Фотозаметки // Новый ЛЕФ. 1928. № 8. С. С. 40–43.
438
«Тристрам Шенди», по словам Шкловского, «самый типичный роман всемирной литературы», в честь которого он называет и свой собственный первый автобиографический роман «Сентиментальное путешествие» (см. подробнее: Шкловский В. Литература вне «сюжета» // Он же. О теории прозы. М., 1925 (ранее выходит в 1921 году в книге «Сюжет как явление стиля» (Пг., 1921)).
439
Как показывают Хенниг и Аванесян, традиционным маркером романа – не считая «самый типичный» – служила такая комбинация, когда среда рассказывания (сюжет) становилась прозрачной и история (фабула) рассказывалась как бы сама собой. Авторы «Поэтики настоящего времени» называют это «онастоящиванием», теоретики же производственной литературы могли бы сказать, что в данном случае предмет избавляется от (истории) своего изготовления (см. подробнее: Аванесян А., Хенниг А. Поэтика настоящего времени. С. 23–35).
440
«Разница между романом Стерна и романом обычного типа точно такая же, как между обыкновенным стихотворением с звуковой инструментовкой и стихотворением футуриста, написанным на заумном языке» (Шкловский В. Пародийный роман. С. 177).
441
Так, по мнению Аванесяна и Хенниг, впервые в «Волнах» Вирджинии Вулф презенс, всегда относившийся только к акту повествования, перебрасывается и на содержание повествуемого, и события описываются как грамматически синхронные с неким ментальным процессом их восприятия-повествования (см. Вулф В. Волны / Пер. с англ. Е. Суриц // Иностранная литература. 2001. № 10. 2001. С. 137–259; при переводе на русский презенс был заменен на претерит, что можно тем самым считать примером невольной демодернизации «романа настоящего времени»).
442
Updike J. Rabbit Angstrom: A Tetralogy. New York: Knopf; Everyman’s Library, 1995. P. VIII.
443
Бюргер называет это предшествующей авангарду стадией эстетизма, в которой достигается полное самосознание художественных средств (см.: Бюргер П. Теория авангарда). На дестабилизацию референции как на парадоксальное следствие роста профессионального самосознания литераторов указывает Гейл Захманн (см.: Zachmann G. Frameworks for Mallarmé).
444
Ханзен-Лёве отмечает «поворот формалистов к проблемам литературного быта или, шире говоря, к вопросам прагматики» и говорит, что «для такой реконструкции действительности или, вернее, действия произведения надо знать законы передачи и резонирования определенных прагматических ситуаций» (Hansen-Löve A. «Бытология» между фактами и функциями // Revue des études slaves. 1985. T. 57. F. 1. P. 92).
445
Только в заголовках имя Толстого присутствует в содержании 8 из 24 выпусков «Нового ЛЕФа» – чаще всего в сочетании с именем Шкловского, появляющимся в журнале в целом в два раза чаще, но в половине случаев именно в паре с именем Толстого. Один из последних выпусков журнала – № 10 за 1928 год – и вовсе оказывается чем-то вроде спецвыпуска, посвященного Толстому: в нем публикуется сценический монтаж материалов к биографии Толстого (Тренин В. День в Ясной Поляне. С. 23–31), проект постановки «Войны и мира» (Терентьев И. Семейно-исторический роман на сцене. С. 32–33), ну и, конечно же, продолжающее разрастаться «формально-социологическое исследование» (Шкловский В. Документальный Толстой. С. 34–36).
446
См. подробнее об этих аспектах: Зорин А. Жизнь Льва Толстого: Опыт прочтения. М.: Новое литературное обозрение, 2020.
447
Ранее этот же отказ от экзотического видения Третьяков совершает в поэзии (см.: Арсеньев П., Косых А. Китайское путешествие Третьякова. С. 14–20), позже он оформляется в поэтологическую программу «образоборчества». См.: Третьяков С. Образоборчество // Новый ЛЕФ. 1928. № 12. С. 43 (с представлением об искусстве как мышлении образами боролся и Шкловский, начиная со статьи «Искусство как прием»), и наконец линию отказа от экзотизирующего видения Третьяков развивает в программном эссе «Сквозь непротертые очки», которое анализируется в следующей главе.
448
Маяковский В. Расширение словесной базы. С. 14–15.
449
Третьяков тоже активно интересуется радио, выступает в качестве радиокомментатора и даже определяет производственничество через пользование «высоко-индустриальными, централизованными формами воздействия. Газета, кино и радио. <…> Газета в этот день есть и путеводитель по пройденным десяти годам, и отчетная ведомость, и афиша праздника, и листок предсказаний, и ноты, которые держит в руках поющая и декламирующая толпа, и показ образцовой советской верстки. Радио <…> должно информировать и идущие колонны, и больных в постелях госпиталей. Через радиослуховые трубки любой комнатно-отъединенный гражданин Советского Союза может ежеминутно включиться в течение праздника, обставленного лучшим, что мы имеем в области слова и звука» (Третьяков С. Как десятилетить // Новый ЛЕФ. 1927. № 4. С. 35–37). Ср. это с идеями Хлебникова о «единой ежесуточной духовной волне» в «Радио будущего». См. подробнее об этом в главе «Радиооратор, расширенный и дополненный».
450
Ее делает главным условием существования сюжетного вымысла Чужак: «Туманная… символика, недоговоренность, эзоповщина <…> дававшие возможность писателю проводить кое-какие запретные идейки даже при наличии свирепой николаевской цензуры <…> Люди переживали „действительную жизнь“ в романах, и это было для них утешением. <…> И каждый в сущности делал „про себя“ условную скидку на вымысел. <…> Революция в корне упразднила те предпосылки, которые отгоняли писателя от факта и толкали его к вымыслу. Отпала всякая надобность в вымысле и выросла, наоборот, потребность в факте» (Чужак Н. Писательская памятка. С. 12, 13, 14).
451
«Стройка произведения у писателя тянется тоже десятилетия…» (35). Ср. более поздние рассуждения Беньямина о рождении романа из соотнесенности одинокого индивида с книгой в главе «Нежный эмпиризм на московском морозе и трудовая терапия „Рассказчика“».
452
Который, согласно Беньямину, было бы правильнее называть эпосом, как и делает Третьяков, уточняя: «Нечего ждать Толстых, ибо у нас есть наш эпос. Наш эпос – газета» (36).
453
Ср. «Шоферу важно прежде всего, чтобы машина шла, а не кто на ней едет» (Шкловский В. Сентиментальное путешествие // Он же. «Еще ничего не кончилось…». М.: Пропаганда, 2002. С. 44).
454
См. подробнее нашу интерпретацию «Расширения словесной базы» Маяковского как «внешних расширений человека» в смысле Маклюэна в главе «Радиооратор, расширенный и дополненный».
455
В литературной эволюции Тынянова как бы нет места прямодушию отказа или усталости от литературы: «Его рекламы для Моссельпрома, лукаво мотивированные как участие в производстве, это отход – за подкреплением. Когда канон начинает угнетать поэта, поэт бежит со своим мастерством в быт» (Тынянов Ю. Промежуток. С. 172).



