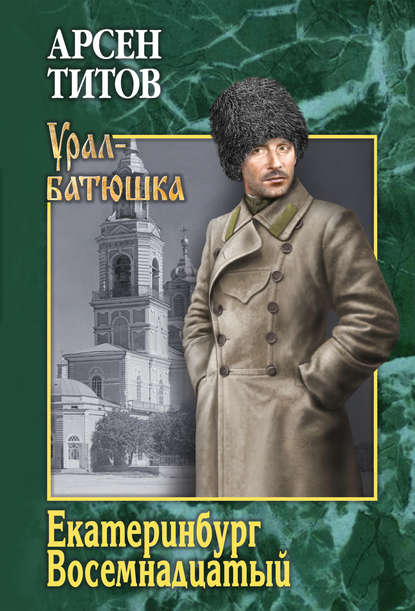
Полная версия:
Екатеринбург Восемнадцатый (сборник)
В этом хозяйственном помещении, то есть конурке без света, во тьме поужинав сухарями и подложив под головы метлы, мы улеглись ждать утра.
– Контру он не разводит! – с негодованием пробурчал Бурков, засыпая.
Фадеев зашептал молитву. А я постарался заснуть молча, но заснуть не мог. Мне в мучительной дреме грезились то оставшаяся позади дорога, то город, который неизвестно что ждало весной, то что-нибудь из детских воспоминаний, коротких и неярких.
Для полноты картины всего революционного порядка я прибавлю небольшую сценку с моим участием, получившуюся ближе к утру. Я пошел поискать места для исполнения команды «оправиться». Если сказать, что на вокзале было занято все – значило не справиться с задачей. В зале мне предстала картина бугристого, кажется, в несколько слоев слепленного, объема всевозможно размещенных человеческих тел. Напрочь был занят и коридор. Я и из каморки-то вышел, лишь заставив подняться нескольких придавивших дверь человек.
– Куда тебя, черт? – зло засипели они.
Я протиснулся к помощнику коменданта. В его комнате, где только было можно, лежали, сидели и топтались злые, не проспавшиеся люди. Сам он, кажется, не узнавая, дико блеснул на меня глазами. Он едва сдерживал близкую истерику. Исполнить команду он мне предложил там, где я сочту возможным, хоть прямо в его кабинете и протянул листок бумаги.
– Вот, могу помочь! – сказал он.
Я его не понял и взял листок. Он оказался с печатным текстом. Из текста я невольно выхватил заголовочное слово «Приказ». Я стал читать. Приказ оказывался по гарнизону города месячной давности и состоял из телеграммы штаба Казанского военного округа, в который входил местный гарнизон. Меня сладко потянуло в спине – столько я, оказывается, стосковался по службе. Я прочел его единым махом. Он просил о недопущении формирования и передвижения в пределах округа украинских национальных воинских частей и лишения уже сформированных всех видов довольствия от казны. В силу некоторых обстоятельств, то есть в силу того, что я был великороссом, приказ меня не касался. Я с вопросом посмотрел на помощника коменданта.
– Можете исполнить! – сказал он.
– Приказ? – спросил я.
– Вашу потребность! – взвизгнул он.
Потребность дать ему в морду я исполнять не стал. Я вернулся в каморку ждать окончания комендантского часа, дождался, попрощался с моими дорожными товарищами и, хотя было еще совершенно темно, вышел из вокзала вон.
С привокзальной площади через огромные ледяные колдобины я ступил на такие же колдобины нечищеного Арсеньевского проспекта, в моем детстве именуемого улицей Верхотурской. Уместно было бы вспомнить, как мы всей семьей по этой улице ехали к поезду в далеком девятьсот шестом году. В связи с моим окончанием гимназии и непреклонным решением идти в военную службу, матушка наша отъезд на Бельскую дачу отложила. Она же спросила у батюшки нашего Алексея Николаевича о ближайшем военном учебном заведении. Из двух ближайших – Оренбургского и Казанского – она выбрала Казанское. Причин для такого выбора были две. Первая – удобство проезда в Казань и неудобство в Оренбург, в который от Челябинска приходилось добираться на почтовых. Вторую она высказала так: «У казаков он только пырять людей пикой научится!» И мы все поехали в Пермь. Там мы отгостили у старшего нашего брата Гриши. Потом матушка с Машей, ее мужем Иваном Михайловичем, двухлетним Бориской и нянюшкой сели на уфимский пароход, мы же с батюшкой – на казанский. По дороге в Казань я принялся уговаривать батюшку ехать в Вильну. «Как брат Саша!» – принялся говорить я, и батюшка, очень переживающий судьбу Саши, окончившего курс виленского училища, воевавшего в Маньчжурии, а потом пропавшего без вести, почти позволил себя уговорить. И я почти был счастлив. Но по прибытии в Казань он твердо сказал, что матушка такого не переживет, что уже то хорошо, что она согласилась на Казань, что она вообще согласилась на военную мою учебу.
Уместно было это вспомнить, но я не вспомнил.
На углу проспекта тускло мерцало окнами двухэтажное здание, возле которого стояли несколько лошадей с розвальнями и бочками. Я вспомнил про тридцать золотарей вместо трехсот тридцати. Из распахнутых ворот вышел мужик в малахае, коротком мятом полушубке под кушаком и непомерно больших валенках. Он подошел к одним розвальням, остановился, молча пнул бочку. Услышав мои шаги, он оглянулся, и как старому знакомому, сказал:
– Худой бочка, совсем худой! Прошу другой. Говорит: эта чини!
– А что не починить? – спросил я.
– Надо чинить – надо туда-сюда возить бросать! А как буду малый татарчата кормить? – сказал он.
– Да, худо, – согласился я и спросил, что за учреждение в доме.
– Инвалидский лазарит, товарищ! Теперь все товарищ! Теперь никто работать не хочет. Раньше дал бы другой бочка, а теперь только говорит «товарищ»! – сказал он.
– Да, товарищ! – сказал я.
Он остался при бочке. Я пошел дальше. Но видно, чем-то мы задели друг друга. Я оглянулся. Он смотрел мне вслед, увидел, что я оглянулся, и махнул рукой. Первый земляк поприветствовал меня в родном городе.
Мне следовало бы сразу свернуть вправо и Турчаниновской улицей, мимо дачи Базилевского, мысом вдающейся в городской пруд, выйти на его лед, туго перепоясанный множеством дорожек и тропок, со льда выйти на Тарасовскую набережную, пересечь Главный проспект, покрестив лоб на Екатерининский собор, полтораста саженей прошагать по Механической и упереться в родную Вторую Береговую. Но черт толкнул меня беспечно попереться по Верхотурской прямо к мосту через речку Мельковку и к Вознесенскому проспекту. Я поперся. Издалека, от угла Основинской улицы, я различил на мосту две смутные неподвижные фигуры. Явно они были патрульными. Характер мой, дающий мне только вид умного человека, свернуть на лед пруда не позволил. Я сказал себе, что бояться патрулей мне не было причины. Я был во всем солдатском, приобретенном сотником Томлиным еще в порту Энзели. Я пошел на мост.
Фигуры зашевелились. Одна ступила несколько шагов мне навстречу, вторая осталась на месте. Обе сняли с плеч винтовки. По их движениям я определил, что они основательно промерзли, и порадовался на их рвение к службе, вопреки революционным нравам. «Солдатики!» – с теплом подумал я. Первая фигура подпустила меня на несколько саженей и велела остановиться. Я остановился и различил в фигурах не солдатиков, а местных обывателей, возможно, из числа тех, о которых меня предупредили, что «шлепнут».
– Кто такой? Что в сидоре? – спросил ближний обыватель.
– Да так, сухари солдатские да портянки! А, вот еще котелок! – сказал я сущую правду, потому что в мешке за плечами у меня на самом деле были только сухари, котелок, бритва и моя старая артиллерийская форма. Мои ордена и погоны еще в Ташкенте сотник Томлин зашил в мешочек, который велел мне приторочить к подштанничному обшлагу. «Найдут, так расстреляют! А может, и щупать не будут – сразу расстреляют!» – сказал он и показал такой же мешочек у себя.
– Скидай! – сказал ближний обыватель.
– Что скидай? – выигрывая время, спросил я.
– Сидор скидай и развязывай! – сказал обыватель и махнул винтовкой.
– Товарищ! Я с фронта с под Оренбурга! – еще потянул я время.
– А мы рабочая дружина с Монетного двора! Скидай и развязывай, а то у нас живо! – сказал обыватель.
– Товарищ, мне тут вот до дому две улочки пройти! – показал я не в свою сторону, а прямо.
– А хоть на Кукуй! Я сказал, скидай! – заругался обыватель.
– Ты давай там! С под Оренбурга! – поддержал напарника руганью второй обыватель.
«Сволочь немытая! – в смысле: – Сволочь невоевавшая!» – обозлился я, рванулся на винтовку первого в расчете, что, промерзший, он ничего не успеет. Так и вышло. Он не успел поднять ствол, а я уже выворотил винтовку у него из рук и дал ему прикладом, потом рванулся на второго. Он в страхе дал назад, поскользнулся и, падая, винтовку выронил.
– А-а! Не надо! – завизжал он.
– Что не надо? – спросил я, вынул из обеих винтовок затворы и забросил в сугроб влево от моста, а сами винтовки в сугроб справа от моста. – Что не надо? Говорил вам, сволочи, что мне тут рядом! – сказал я и побежал с моста не прямо на Вознесенский, а вправо на Глуховскую, забежал в первые же ворота, напугал во дворе бабу, бравшую с поленницы дрова, спросил, могу ли со двора пройти дальше, хотя сам увидел, что не могу, что путь преградили выгребная яма и за ней забор.
Я вышел со двора, прошел по Вознесенскому переулку до дома Шаравьева, как-то непутево поставленного так, что дорожное полотно проспекта вышло ему едва не на уровень крыши, что меня всегда понуждало жалеть хозяев. От дома Шаравьева я увидел у Вознесенской церкви народ и смешался с ним, а потом Верхне-Вознесенской улочкой, пустой и выдающей меня коротким и заполошным скрипом снега под сапогами, вышел к Главному. Тотчас я уперся взглядом на здание нового театра, которого я еще не видел, охнул на его пусть и провинциальное, но великолепие и охнул на обязательную русскую антитезу – на бесформие сараев, ларей и прочего хлама остатков бывшей Дровяной площади вокруг театра. Дальше я Солдатской улицей дошел до угла Крестовоздвиженской и свернул к своей Второй Береговой.
Я издалека увидел Ивана Филипповича и невольно ускорил шаг. Иван Филиппович с лопатой и ломом стоял над ледяным надолбом подле наших ворот. Он смотрел перед собой, наверно в сомнении осилить надолб. Я был в улице один. Скрип моих шагов заставил его оглянуться. Он посмотрел в мою сторону, в сердцах сплюнул и пошел во двор. Я крикнул ему и побежал. Он вернулся.
– Иван Филиппович! – снова крикнул я.
– Ах ты боже мой, Борисанька! – раскорячился он навстречу, раскорячился, размахнулся на обе стороны и с лопатой и ломом вдруг стал походить на наш герб, на двуглавого орла, без одной головы, конечно. – Ах, ты, Царю небесный, отец родной! – затоптался он на месте в стариковской немощи побежать, полететь мне навстречу.
Я остановился перед ним, как перед гербом, и сказал только:
– Иван Филиппович! Вот и я! – а потом ткнул в сторону обледенелого надолба, будто он был самым главным на эту минуту. – Оставьте, Иван Филиппович! – сказал я, а потом сказал, как бы уже пребывая в курсе всех городских дел. – Оставьте! Все равно никто ничего не делает! Весной все поплывет! Вместо трехсот тридцати золотарей в городе работают только тридцать, да и у тех бочки – никуда!
– Запоганили! Запоганили, Борис Алексеевич! Сил нету! Во двор выйти сил нету. В дом войти сил нету! Все начисто запоганили. Малую нужду справляют с крыльца. Большую валят мимо дыры! Населили в дом сброду, какого не выдывал никто сроду! – запричитал Иван Филиппович.
– Как же населили? Кто? – спросил я, хотя еще из письма сестры Маши мне в корпус, в Персию, знал, что населили эвакуированных, что они ничего не берегут, а на замечания грозят донести власти. Так их нынче учат.
– Утром я выхожу, – не слыша меня, вскричал Иван Филиппович, – выхожу, а он прямо с крыльца ладит! Я ему лопатой в загривок! Да где! Ведь увернулся! Ведь верткий, собака такой, и мне кричит, дескать, он след-от заметет, а то, кричит, тебя, старика, прямо сдам в совет, будешь знать, как на советского работника орудие поднимать!
– Да кто же, Иван Филиппович? А Маша где? А Иван Михайлович где? – снова спросил я.
– А кого советный работник! Како совето они подадут, когда сами до дыры сходить не научились, когда сами по совету да ладу одного дня не живывали! – не слушал меня Иван Филиппович.
– Да Иван же Филиппович! – пошел я мимо старика во двор.
– Живут, а хоть бы кто двор почистил! Совето они, видишь ли! – пошел за мной Иван Филиппович.
Несмотря на топтаные собаками и политые помоями, где ни попадя, сугробы, загромоздившие двор, он мне показался пустым. Я приостановился. Иван Филиппович ткнулся мне в спину.
– Во-во! Чего натворили! – сказал он.
Я увидел, что во дворе нет двух старых лип.
– Кончали! Как пошла свобода, как дров не стало, так и кончали! На Шарташской станции дров этих жечь не пережечь! Дак, где же! Оттуда ведь надо везти! А они ведь совето! Ныне осенью и кончали! Всем гамазом свалили да, почитай, Борис Алексеевич, так и бросили! Вон ветки из сугробов торчат! Разве же липа – дрова! Да сырая! Нечто она им гореть будет, дуракам! Она поумней их будет, дураков! Так и греются тем, кто сколь напердит! А я сказал: вы Божии лесины кончали, вам и издохнуть от холоду! Так меня опять хотели во власть отвести! А туда поведут, так по дороге застрелят, как вон какого-то присяжного на днях застрелили! Повели, да лень вести было – и застрелили! – снова запричитал Иван Филиппович.
И вот только сейчас, наверно, от того, что вместе с липами исчез двор моего детства, я до ломоты в костях почувствовал свое одиночество. Из всего того, чем я жил, у меня ничего не осталось. Василий Данилович Гамалий, Коля Корсун, все другие мои сослуживцы, вестовой Семенов, да даже Валерия, даже лошадь моя Локай составляли то, чем я жил и хотел бы жить до скончания века. Но оно, это все, осталось где-то позади и безвозвратно позади, осталось так бездарно мной растранжирено, что вернуться к нему я не мог. Я смотрел на изгаженный двор и не понимал, зачем я сюда вернулся, зачем все это, что было сейчас передо мной, мне нужно было смотреть. Я понял, сколько я не просто неумный человек, а сколько я вообще никто, если позволил обойтись с собой так, как вышло – если я позволил какому-то комитету с его товарищами Сухманами и Шумейко, или, как их в гневе и презрении называл черноморский казак и генерал Николай Иванович Кравченко, какому-то «ко-ко-комитэту», отчислить меня от корпуса, заставить меня лишиться всего, чем я дышал, и притащиться сюда, в подлинную пустыню, в местность с тридцатью золотарями и какими-то советскими работниками в моем дворе детства, в доме моего батюшки.
Перед отъездом из штаба корпуса я получил от Элспет письмо последнее от нее письмо. Она написала его нашими, совсем чужими для ее пальчиков, но ставшими родными для ее сердца кириллическими знаками. Сразу же за первыми словами о ее любви, она стала просить перейти меня на службу в британскую армию, заверяя, что решение принято, что мне только следует согласиться. «Борис, – уверяли меня ее пальчики, – ты не изменишь присяге, не изменишь своей стране. Ты некоторое время будешь офицером его величества короля Георга. И мы будем вместе. А когда у вас в стране снова будет порядок, мы поедем к тебе, в твою и уже мою Россию. Я буду везде и всегда с тобой. Я никогда не вздохну от усталости и сожаления. И, Борис, я…» – дальше было слово, сделавшее нас счастливыми. Она ждала от меня ребенка.
Этого письма у меня тоже не было. Пока я сидел в ташкентской тюрьме, его уничтожил сотник Томлин.
– По двум причинам, – сказал он. – По первой причине, чтобы тебя не шлепнули как британского шпиона. По второй причине, курить было охота, как из ружья!
Ничего этого теперь у меня не было. Со злым счастьем я пошел в дом, завернул к крыльцу и увидел, что в нашем небольшом саду, выходящем на улицу Вторую Набережную, не было старой раскидистой китайской яблони.
– Тоже они? – спросил я.
– Оно, совето! – выдохнул Иван Филиппович.
Он выдохнул, а воздуха не стало хватать мне. Я заступил одной ногой на ступеньку и оперся на перила. Прямо у меня перед глазами был сугробец действительно со следами того, о чем говорил Иван Филиппович, а дальше был разломанный забор в сад без китайской яблони.
– И нет ни околоточного, ни пристава! Шастают только патрули, так им не попадайся! – еще сказал Иван Филиппович.
– И нет никого! – сказал я себе.
– Никого нет! – услышал Иван Филиппович. – И что с ними, один Бог ведает. Мне поехать к ним – не с руки дом на этих оставить. А им поехать сюда – так, небось, живых-то нет! Небось, арестовали да застрелили, как этого присяжного! Я ведь по ночам плачу. Днем с этими воюю. А по ночам-то молюсь да плачу!
– За что же арестовывать? Иван Михайлович – агроном, совершенно нужный любой власти человек! – в прежней пустоте сказал я.
Описывать беспорядок и грязь в доме уже не было смысла – они равнялись тому, что было во дворе. В больших комнатах родительской спальни и батюшкиного кабинета жили две семьи, мою комнату заселял какой-то чернявый тип лет двадцати от роду. Комната Маши и гостевая комната были загромождены имуществом, какое Иван Филиппович сумел спасти. Семейные жильцы не поздоровались со мной, поджались и закрылись у себя в комнатах. Потом один вынес какую-то бумагу.
– Вот, у нас вид на жительство в этих комнатах от новых властей! – сказал он.
А тип, оказавшимся советским работником, собирался в учреждение и пил кипяток с сухарями.
– Служу в горпродкоме, а питаюсь вот так! – сказал он, помолчал и, глядя на мои солдатские сапоги, прибавил: – Я в партячейке состою. Буду снова проситься на Дутовский фронт! – еще помолчал, видимо, пождал моей реакции. Я молча оглядывал комнату во всем невероятном ее безобразии. Он снова посмотрел на мои сапоги. – Я в таком отношении к членам партии оставаться не могу, мне на организм влияет! – сказал он и, видимо, в качестве советского служащего, перед которым я был никто, прибавил: – А тебе, товарищ, как бывшему военнослужащему, надо встать на учет. Это надо сходить в управление уездного воинского начальника на Водочную улицу!
Иван Филиппович не выдержал.
– Да уж Борис Алексеевич знают, что и куда! Они Отечество защищали, пока ты тут с крыльца двор метил! – в язве сказал он.
Тип молча отвернулся.
В гостиной комнате, служащей проходной для всех остальных комнат, я спросил Ивана Филипповича принять ванну. Оказалось, еще год назад он позвал слесаря и отвинтил трубы – разумеется, чтобы ею не пользовались новые жильцы. Я спросил про городские бани.
– На Исети в проруби толку будет больше! – в злорадстве махнул он рукой, а потом показал в сторону жильцов: – Эти разбредутся, я с чердака дровишек достану и нагрею воды корыто! – и сладострастно хихикнул, будто сделал большую и долгожданную гадость.
Я пошел в комнату Маши, не раздеваясь, лег на маленький диванчик в надежде побыть одному и подумать, что мне делать дальше. Но ни о чем подумать я не успел. Я тотчас заснул. Сквозь сон я слышал, как Иван Филиппович ругался с жильцами, говорил, что вернулся хозяин, что теперь-то им будет куда с добром. Я хотел проснуться, выйти и сказать Ивану Филипповичу втихомолку, чтобы он не ругался и уж тем более не говорил, кто я. Но проснуться я не мог. Через какое-то время я опять услышал разговор Ивана Филипповича с кем-то из жильцов. Жилец просил Ивана Филипповича помочь ему через меня в каком-то в одном деле, которое он, жилец, называл незаслуженно поставленным в щекотное положение.
– Вы поговорите с вашим официром. Очень щекотное положение! – просил жилец.
Я опять хотел проснуться и предупредить гоношливого старика не болтать лишнего. И опять не мог проснуться и только отметил, что он уже наболтал. Я видел Элспет, мою невенчанную жену, видел рядом нашу будущую дочь, которая была в образе Ражиты, зарезанной четниками шестилетней девочки. Я рвался к ним, в Шотландию. Но у меня выходило быть только в Персии, только в бельских лугах или на улицах Екатеринбурга, летних, томных, мягко отражающих свет от тротуарных плит белого известняка. Екатеринбург мнился светлым и красно-белым – по цвету зданий, будто в нем никогда не было черных и серых деревянных строений. И каким-то странным образом на этот Екатеринбург наслаивался Екатеринбург нынешний, непонятно какой, в котором только то и было, что тридцать золотарей.
К полудню Иван Филиппович разбудил меня. Я помылся в корыте, нашел прежнюю свою гимназическую одежду, обулся в старые пимы Ивана Михайловича и почувствовал себя совсем потерянным, едва не раздавленным. Этому чувство придало остроты наше с Иваном Филипповичем чаепитие со сбереженными им от дореволюционных времен чаем и сахаром. Он мне рассказывал, как он тут живет, где что достает – керосин, хлеб, те же дрова. А я вспоминал Сашу, его медленное и молчаливое хождение по дому после возвращения с фронта из Маньчжурии. Саша молча ходил и на все глядел как-то странно, будто осваивал житье в доме заново. Мне ходить по дому и на все молча смотреть не выпадало. Саша вскоре же стал из дома пропадать. Я его мог видеть с другими офицерами на Покровском у номеров. Он стал возвращаться домой пьяный, развязывал башлык, целовал руки матушке и нянюшке. Ничего подобного мне тоже не выпадало. Я опять, как во сне, возвращался к себе в корпус, в Персию, опять представлял моих друзей-сослуживцев. За последним совместным ужином все смотрели на меня, зная, что я поведу часть корпусного имущества на Терек. «Не с Кубани, так с Терека начнем!» – говорили многие и просили замолвить там, у генерала Мистулова, за них словечко. Потом мы говорили с Колей Корсуном, генерального штаба капитаном, моим незабвенным другом. «А ведь после этой сволочи придется Россию строить заново! Придется все отмывать кровью!» – говорил Коля Корсун.
Иван Филиппович говорил о хлебе и керосине. А я видел только Персию. И я ругал себя последними словами за то, что позволил каким-то сволочам отчислить меня от корпуса.
4
После чая мы с Иваном Филипповичем дотемна чистили двор, разбили надолб и закрыли ворота. Я вытащил из сугроба остатки липовых веток, тупым топором с треснутым и перевязанным топорищем более их измочалил, чем изрубил, разбил остаток забора в сад, все сложил поленницей. Пока я занимался дровами, Иван Филиппович чистил туалет, сказав, что за «этими совето» он мне прибирать не позволит. А «совето», то есть жильцы мужского пола ушли из дому, пока я спал, а жильцы женского пола, угрюмые, некрасивые, не взглядывая на нас, но стараясь независимо, сначала с помойными ведрами, которые держали на ночь в комнатах, сходили к выгребной яме, а потом пошли со двора.
– Пошли своей Новиковой жаловаться! – сказал Иван Филиппович.
– Что за Марфа-посадница? – спросил я.
– А вот такая, что сама себя посадила тут, и куда до нее самой императрице! Весь околоток взяла! – сморкнул вслед женщинам Иван Филиппович.
Работа меня отвлекала от пустыни. А естественное действо Ивана Филипповича по очистке носа напомнило мне ночь перед боем на Олту – казаки-бутаковцы, строя рубеж обороны, вот так же чистили носы.
– Ну, вот так всех и взяла! – хмыкнул я.
– Взяла! – всхорохорился Иван Филиппович. – Взяла весь околоток. Ходит в их совето в дом Козелла, и баб так прибрала к рукам, что мужики теперь не суйся! Околоточного Ивана Петровича еще осенью с околотка сжила! Я ему говорю: «Как же ты, Иван Петрович, терпишь? Она же Бога срамит, кричит, де, его уже тыщи лет, как убили!» – а он только кокардой во лбу крутит, а ничего поделать не может, потому что кругом власть объявила свободу!
– Так эти-то, наши, пошли жаловаться на то, что мы за ними прибираем? Так, Иван Филиппович? – спросил я.
– А хоть и так! Теперь их власть, прощелыг и каторжанок! Побежали сказать, что мы мешаем их свободе сраму плодить! А еще скажут, что объявился ты, Борис Алексеевич, штаб-офицер, по-ихнему, и сказать нельзя кто! – еще раз прочистил нос Иван Филиппович. – А у самой-то у ней, у самой-то Новиковой сраму! Она в аптеке у Александра Константиновича поселилась. Я к нему прихожу персидского порошку взять, да мази противу того, что руки ломит. А он человек уважительный, нашу семью всю сквозь знает! Он – мне: «Иван Филиппоович, дорогуша, ты взглянь, как могут образованные бабы жить!» – Я из уважения к нему взглянул. Так даже ватные клочья с засохшей кровью прямо – по всему полу!
– Раненая, что ли, или кровь носом шла? – не понял я.
– Так ранены бабы-то каждый месяц бывают! – всхихикал Иван Филиппович. – А рана-то одна. Они ее каждый месяц затыкают! Александр Константинович говорит, всю вату извела. Берет, а не платит, да еще грозит и потом кричит: «Долой буржуйский стыд!» – дескать, из Питера такая бумага пришла, потому что в Питере стали ходить голые!
– Пообносились? – будто не понял я.
– Да что ты, Борис Алексеевич! – рассердился на мою непонятливость Иван Филиппович.
Так, с моим ерничаньем и его сердитостью мы в темноте закончили работу, снова сели пить чай. Пришли и разбрелись по комнатам жильцы. Я стал стругать из полена топорище.
– А Борис Алексеевич! А где же ты научился работе-то? Ведь штаб-офицер! Неужто у тебя денщика не было? – спросил Иван Филиппович.
– Так ведь артиллерия скочет, куда хочет! – отшутился я.
– Так ведь ты, выходит, трудящий. А они тебя объявят, неизвестно как! – сказал Иван Филиппович.
– А ты бы им больше обо мне рассказывал! – попенял я.
– Так ведь так доведут своим срамом-то, что в сердцах и выкрикнешь, что раньше-то хозяева-то все блюли! – оправдался Иван Филиппович.
– Ладно, – сказал я.
Я пошел к себе, то есть в бывшую комнату Маши. Едва я зажег лампу, в дверь постучали.

