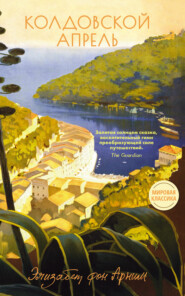скачать книгу бесплатно
Лестница заканчивалась дорожкой, круто спускавшейся вниз и выложенной плоскими плитами. Они не раз поскальзывались на мокрых камнях, и человек с фонарем, быстро и громко что-то говоря, их подхватывал. Подхватывал вежливо.
– Возможно, – тихо сказала миссис Уилкинс, – все будет в порядке.
– Мы в руцех Божьих, – снова произнесла миссис Арбатнот, и миссис Уилкинс снова испугалась.
Они достигли конца тропы, и свет фонаря выхватил открытое пространство, с трех сторон окруженное домами. С четвертой стороны было море, лениво набегавшее на гальку.
– Сан-Сальваторе, – сказал человек, указывая фонарем на темную массу, словно обнимавшую воду.
Они напрягли зрение, но разглядели только эту темную массу и огонек где-то наверху.
– Сан-Сальваторе? – недоверчиво переспросили они, потому что не понимали, ни где их чемоданы, ни почему их заставили выйти из пролетки.
– Si, si, Сан-Сальваторе.
Они продолжили путь по тому, что показалось им причалом, прямо по кромке воды. Здесь не было даже низкого ограждения – ничего, что помешало бы человеку с фонарем, пожелай он, столкнуть их в воду. Однако он этого не сделал. Миссис Уилкинс снова предположила, что все в порядке, а миссис Арбатнот на этот раз и сама подумала, что, может, так оно и есть, и ничего о руцех Божьих не сказала.
Отблески фонаря плясали на мокрых плитах. Где-то слева, наверное, в конце пристани, светился красный огонек. Они подошли к арке с тяжелыми чугунными воротами. Человек с фонарем толкнул их, ворота открылись. В этот раз ступени вели не вниз, а наверх, и в конце лестницы начиналась дорожка, с обеих сторон подступали цветы. Самих цветов они не видели, но было понятно, что здесь их великое множество.
И теперь до миссис Уилкинс дошло, что, вероятно, пролетка не доставила их прямо ко входу, потому что здесь не было дороги, только пешая тропа. Этим объяснялось и исчезновение чемоданов. Она ощутила уверенность: как только они доберутся до верха, чемоданы уже будут их ждать. Сан-Сальваторе, похоже, все-таки располагался на вершине, как и положено средневековому замку. Тропа свернула, и они увидели над собой тот самый свет, который заметили еще на пристани, только теперь он был гораздо ближе и ярче. Она сообщила миссис Арбатнот о нахлынувшей на нее уверенности, и миссис Арбатнот согласилась: видимо, они и впрямь на месте.
И снова, но теперь голосом, полным надежды, миссис Уилкинс, указывая на темные очертания на фоне чуть менее темного неба, спросила:
– Сан-Сальваторе?
И на этот раз успокаивающе, ободряюще раздался ответ, ставший уже привычным:
– Si, si, Сан-Сальваторе.
Они прошли по мостику над тем, что, очевидно, было рвом, и ступили на ровную площадку, заросшую высокой травой и тоже явно всю в цветах. Мокрая трава хлестала по чулкам, невидимые цветы были повсюду. И снова они поднимались вверх, дорожка вилась между деревьями, воздух был полон цветочных ароматов, которые под теплым дождем стали еще слаще. Все выше и выше поднимались они в этой сладостной тьме, и красный огонек на пристани все отдалялся.
Тропа сделала поворот вдоль того, что показалось им мысом, пристань и красный огонек скрылись из вида, где-то слева, вдалеке, за черной пустотой, виднелись огоньки.
– Медзаго, – указал на них человек с фонарем.
– Si, si, – ответили они, поскольку к этому моменту выучили «si, si». На что человек с фонарем разразился потоком вежливых поздравлений с прекрасным знанием итальянского, из которых они не поняли ни слова. Это был тот самый Доменико, недремлющий и преданный садовник Сан-Сальваторе, опора и поддержка всего дома, всемогущий, талантливый, красноречивый, любезнейший и умнейший Доменико. Но тогда они еще этого не знали, а он в темноте – да иногда и на свету – со своим смуглым угловатым лицом, с мягкими движениями пантеры, очень даже смахивал на злодея.
Дорожка снова выровнялась, пока они проходили вдоль возвышавшейся над ними справа какой-то темной массы, похожей на высокую стену, затем опять стала взбираться вверх, между источавшими дивные ароматы цветочными шпалерами, ронявшими на них капли, и свет фонаря скользнул по лилиям, и снова ступеньки, источенные временем, и еще одни чугунные ворота, и вот они уже внутри, хотя и все еще взбираются вверх по винтовой каменной лестнице, стиснутой стенами, похожими на башенные, а где-то выше виднеется купол крыши.
А в конце лестницы оказалась кованая дверь, сквозь которую сочится электрический свет.
– Ecco [6 - Ecco (итал.) – здесь: «Пришли!»], – объявил Доменико, легко взлетев по нескольким последним ступеням и широко распахнув перед ними дверь.
И они действительно пришли – вот он, Сан-Сальваторе, и вот их чемоданы, и никто их не убил.
Они смотрели друг на друга, лица у них были бледные, в глазах светилось торжество.
Это был великий миг. Они здесь, в своем средневековом замке! А под ногами у них – его древние камни.
Миссис Уилкинс обвила рукой шею миссис Арбатнот и поцеловала ее.
– Первое, что должен увидеть этот дом, – сказала она тихо и торжественно, – это поцелуй.
– Дорогая Лотти, – сказала миссис Арбатнот.
– Дорогая Роуз, – ответила миссис Уилкинс, ее глаза сияли.
Доменико был в восторге. Ему нравилось смотреть на поцелуи прекрасных дам. Он произнес растроганную приветственную речь, а они стояли, взявшись за руки и поддерживая друг друга, потому что смертельно устали, смотрели на него с улыбками – и не понимали ни слова.
Глава 6
Проснувшись утром, миссис Уилкинс еще немного полежала, перед тем как встать и отдернуть шторы. Что увидит она из окна? Мир сияющий или мир дождливый? Он будет прекрасен – каким бы он ни был, этот мир, он будет прекрасным.
Она лежала в маленькой спальне с голыми белыми стенами и каменным полом, скупо обставленной старинной мебелью. Кованые кровати – их было две – покрыты черной эмалью и расписаны веселыми букетиками. Она лежала, оттягивая великий момент, когда подойдет к окну, подобно тому, как откладывают распечатывание драгоценного письма, взирая на него с вожделением. Она понятия не имела, который сейчас час – в последний раз она заводила часы, когда столетия назад ложилась спать еще в Хампстеде. Но, судя по тишине в доме, было еще рано, хотя ей казалось, будто она проспала очень долго – такой выспавшейся, в таком мире с собой она себя чувствовала. Она лежала, заложив руки за голову, и думала о том, какая она счастливая, на губах играла восторженная улыбка. Одна в постели, просто восхитительно. С первого дня замужества – а прошло уже пять лет – она не бывала в постели одна, без Меллерша, и как же прохладно, как просторно ей было, как свободно можно было двигаться, как прекрасно это чувство безрассудной смелости, и одеяло можно тянуть на себя, сколько хочется, и подушки пристроить, как удобно! Перед нею словно открылся мир новых радостей.
Миссис Уилкинс хотелось встать и открыть ставни, но ее «сейчас» было таким восхитительным! Она удовлетворенно вздохнула и продолжала лежать, оглядывая свою комнату, впитывая ее в себя, небольшую комнату, в которой она может все устроить по своему вкусу, ведь на этот блаженный месяц это ее собственная комната, купленная на ее собственные сбережения, результат ее бережливых отказов, и дверь в эту комнату она, если пожелает, может запирать, и никто без разрешения не войдет. Комната была такая необычная, непохожая на все, что она до сих пор видела, и такая приятная. Как монастырская келья. Кроме двух кроватей, все в ней было очень по-монашески. «Название комнаты было Мир» [7 - Цитата из «Путешествия Пилигрима в Небесную Страну» – одного из самых значительных памятников английской религиозной литературы, написанного поэтом и проповедником Джоном Беньяном в конце XVII века.], – вспомнила она и улыбнулась.
Да, это было чудесно – вот так лежать и думать о том, как она счастлива, но там, за ставнями, наверняка было еще чудеснее. Она вскочила, надела комнатные туфельки, потому что каменный пол прикрывал лишь маленький коврик, подбежала к окну и рывком распахнула ставни.
– О! – воскликнула миссис Уилкинс.
Перед ней во всем своем блеске простирался итальянский апрель. Сверху на нее лилось солнце. В солнечных лучах дремало едва трепещущее море. На другой стороне бухты нежились на свету очаровательные разноцветные горы, а под ее окном, на краю усыпанного цветами травянистого склона, из которого вздымалась ввысь крепостная стена, рос гигантский кипарис. Он, словно огромная черная сабля, рассекал деликатнейшие голубые, лиловые и розовые мазки, которыми были выписаны море и горы.
Она глядела и глядела. Какая красота – и она видит ее! Какая красота – и она живая, она ее чувствует. Лицо ее омывал свет. Божественные ароматы проникали в окно и ласкали ее. Легкий ветерок нежно взъерошивал волосы. На дальнем конце бухты, на безмятежной поверхности моря, словно стая белых птиц, скопились рыбацкие лодки. Как красиво, как красиво! Увидеть это еще до того, как умерла и попала в рай… Смотреть, вдыхать, чувствовать… Счастье? Какое невыразительное, банальное, затертое слово. Но что можно сказать, как описать это? Ей казалось, что она словно отделяется от своего тела, она казалась себе слишком маленькой для такой огромной радости, этот свет будто омыл ее целиком. Как удивительно это чувство чистого блаженства, быть здесь, когда никто ничего от тебя не требует и не ждет, когда не надо делать ничего из того, чего не хочется. Все, кого она до сей поры знала, наверняка посчитали бы, что ей надлежит по крайней мере терзаться совестью. А она не чувствовала даже малюсенького угрызеньица. Что-то где-то было не так. Странно, что дома, где она была такой хорошей, такой чудовищно правильной, они ее терзали постоянно. Угрызения всех сортов: сердечные боли, обиды, разочарования, полный и неуклонный отказ от себялюбия. А сейчас, сбросив с себя всю благочестивость и оставив ее валяться, словно кучку промокшей под дождем одежды, она испытывала одну только радость. Лишившись своей хорошести, она наслаждалась наготой. Обнаженная и ликующая. А где-то там, в сыром тумане Хампстеда, оставался сердитый Меллерш.
Она попыталась представить себе Меллерша, как он сидит, завтракает и с горечью думает о ней, и – вот чудеса! – Меллерш вдруг засиял, стал розоватым, стал светло-лиловым, стал голубым, а потом бесформенным, а потом начал переливаться всеми цветами радуги. Наконец Меллерш, дрожа, и вовсе растворился в этом свете.
«Ну что ж», – подумала миссис Уилкинс, провожая его взглядом. Странно, что она не смогла вызвать образ Меллерша, ведь она наизусть знала каждую его черту, каждое выражение. Она просто уже не видела его таким, как он есть. Она только видела, как он растворился в красоте, слился в гармонии со всем окружающим. Совершенно естественно в ее голове возникли знакомые слова молитвы, и она возблагодарила Господа за то, что создал ее, за то, что хранит ее, за все благости этой жизни, но превыше всего за его бесконечную любовь – она в порыве признательности произносила эти слова вслух. А Меллерш в этот момент раздраженно натягивал ботинки, прежде чем выйти на мокрую улицу, и на самом деле думал о ней с горечью.
Она начала одеваться, выбрав чистое белое платье в честь летнего дня, распаковала чемоданы, привела в порядок свою очаровательную комнатку. Ее высокая тонкая фигура двигалась быстро и целенаправленно, она держалась прямо, лицо с мелкими чертами, такое хмурое дома от напряжения и страха, разгладилось. Все, чем она была, все, что она делала до этого утра, все, что она чувствовала и о чем беспокоилась, ушло. Ее заботы повели себя, как образ Меллерша – растворились в цвете и свету. И она стала замечать то, чего не замечала годами – причесываясь перед зеркалом, она подумала: «А у меня красивые волосы». Она ведь уже забыла, что у нее вообще есть волосы, она заплетала их в косу по вечерам и расплетала по утрам с такими же торопливостью и равнодушием, как шнуровала и расшнуровывала ботинки. А теперь она вдруг их заметила и, сидя перед зеркалом, накручивала на пальцы, и радовалась тому, что они у нее красивые. Меллерш тоже их не замечал, потому что ни разу еще не сказал ей о них ни слова. Что ж, вернувшись домой, она обратит его внимание на свои волосы. «Меллерш, – скажет она, – посмотри на мои волосы. Разве тебе не приятно, что у твоей жены волосы медового цвета и вьются?»
Она засмеялась. Она еще никогда не говорила Меллершу ничего подобного, и сама мысль об этом ее позабавила. Но почему не говорила? О да, потому что она привыкла его бояться. Смешно бояться кого бы то ни было, в особенности собственного мужа, которого она видела в самые приземленные моменты, например, спящим – а во сне он храпел.
Завершив туалет, она вышла посмотреть, встала ли уже Роуз – накануне сонная горничная разместила ее в комнате напротив. Она пожелает ей доброго утра, а потом сбежит по склону и постоит под кипарисом – до самого завтрака, а после завтрака еще полюбуется в окно, пока не настанет время помогать Роуз готовить все к приезду леди Каролины и миссис Фишер. Сегодня им предстоит много дел – надо все обустроить, привести в порядок комнаты – и не годится, чтобы Роуз занималась всем этим в одиночку. Они сделают все просто чудесно к прибытию этих двоих – она так и представляла эти приветливые комнатки, уже полные цветов. Она припомнила, как не хотела, чтобы к ним присоединялась леди Каролина: до чего ж глупая мысль – не пускать кого-то в рай, потому что стесняешься! Как будто это что-то значит, как будто она настолько застенчива, чтобы чуть что стесняться! Ну что за причина. Кстати, причина не считать себя такой уж хорошей! Она вспомнила, что не хотела приезда и миссис Фишер, потому что та показалась ей высокомерной. Какая нелепость! Какая нелепость – волноваться по таким мелочам, придавать им столько значения.
Спальни и две из гостиных находились на верхнем этаже и выходили в просторный холл с широким окном на северной стороне. Сан-Сальваторе полнился небольшими садами на самых разных уровнях. Сад, на который выходило это окно, был устроен на самой высокой части окружавшей замок стены, и пройти в него можно было только через такой же просторный холл этажом ниже. Когда миссис Уилкинс выходила из своей комнаты, окно в их холле было распахнуто настежь, под ним высилось залитое солнцем иудино дерево в полном цвету. Кругом не было никого, не было слышно ни голосов, ни шагов. На каменном полу стояли высокие вазы с каллами, на столе пламенел огромный букет крупных настурций. Этот просторный, полный цветов тихий холл с широким выходящим в сад окном, это купающееся в солнечном свету невероятно красивое иудино дерево показались миссис Уилкинс слишком прекрасными, чтобы быть настоящими, и она замерла на полдороге. Неужели она действительно будет жить здесь целый месяц? До сих пор красота доставалась ей по кусочкам, украдкой, мимоходом: полоска маргариток в погожий день на Хампстедском лугу, вспышка заката между двумя трубами на крыше. Она никогда не бывала в по-настоящему, полностью, совершенно прекрасных местах. Она никогда не бывала и в домах, принадлежащих достопочтенным хозяевам, а уж такая роскошь, как цветы в спальне, и вовсе была ей недоступна. Иногда по весне она, не в силах сопротивляться, покупала в «Шулбредс» полдюжины тюльпанов, прекрасно сознавая, что Меллерш, проведав, сколько они стоят, сочтет это непростительным транжирством, но они быстро увядали, и потом опять ничего не оставалось. Что же до цветущего иудиного дерева, то она и понятия не имела, что это такое, и взирала сквозь него на небо с видом узревшего рай.
Вышедшая из своей комнаты миссис Арбатнот застала ее неподвижно стоявшей посреди холла.
«И какое же видение посетило ее на этот раз?» – подумала миссис Арбатнот.
– Мы в руцех Божьих, – убежденно произнесла, повернувшись к ней, миссис Уилкинс.
– Ох! – воскликнула миссис Арбатнот. Лицо ее, только что улыбавшееся, сникло. – В чем дело, что случилось?
Потому что миссис Арбатнот, которая проснулась с таким блаженным ощущением безопасности, легкости, вовсе не хотела возвращаться к мысли, что совершила что-то неправильное. Ей даже не снился Фредерик! Впервые за много лет ей не снилось, что он подле нее, что они снова близки, и впервые она не проснулась с горькой мыслью, что это только сон. Нет, она спала как ребенок и проснулась уверенной в себе, она даже обнаружила, что ей нечего пожелать в утренней молитве, кроме как сказать «Благодарю». И потому ее неприятно поразило заявление о руцех Божьих.
– Надеюсь, все в порядке? – обеспокоенно переспросила она.
Миссис Уилкинс посмотрела на нее, помолчала, а потом рассмеялась.
– Как забавно, – сказала она, целуя миссис Арбатнот.
– Что забавно? – спросила миссис Арбатнот. Лицо ее прояснилось, потому что миссис Уилкинс смеялась.
– Что мы здесь. И все это. Так чудесно. Так забавно и так восхитительно, что мы здесь оказались. Осмелюсь сказать, что, когда мы попадем в рай – тот, о котором говорят, – он вряд ли будет таким же прекрасным.
Миссис Арбатнот расслабилась.
– Разве это не божественно? – с улыбкой спросила она.
– Была ли ты когда-нибудь в своей жизни так счастлива? – спросила миссис Уилкинс, ловя ее руку.
– Нет, – ответила миссис Арбатнот.
Никогда не была, даже в первые дни ее любви с Фредериком. Потому что счастью всегда сопутствовала боль, терзавшая ее сомнениями, терзавшая ее самим переживанием любви, а это счастье было простым, счастьем полной гармонии с окружающим, счастьем, которое ни о чем не просит, а просто принимает, просто дышит, просто есть.
– Пойдем посмотрим поближе на это дерево, – сказала миссис Уилкинс. – Даже не верится, что это просто дерево.
Рука об руку они прошли по холлу – их мужья никогда не видели их лица такими юными, такими радостными, – и встали у распахнутого окна, и когда их взгляд, напитавшись восхитительными розовыми цветами иудиного дерева, пустился рассматривать остальные красоты сада, они увидели, что на парапете с восточной стороны сидит, опустив стопы в лилии и глядя на залив, леди Каролина.
Они были поражены. До такой степени, что просто молча глядели на нее, стоя рука об руку.
Она тоже была в белом платье, без шляпы. Во время их встречи в Лондоне, когда шляпа у нее была надвинута почти на нос, а меха подняты до ушей, они и не разглядели, что она так хороша. Тогда они просто думали, что она отличается от других женщин в клубе, потому что все эти женщины, и все официантки, пока они сидели и беседовали в уголке, постоянно на нее поглядывали, проходя мимо; но они и подумать не могли, что леди Каролина так красива. Чрезмерно красива. В ней все было слишком. Светлые волосы были очень светлыми, прелестные серые глаза были крайне прелестными и серыми, темные ресницы – очень темными, белая кожа – белоснежной, алый рот – очень алым. Она была экстравагантно стройна – просто как струна, однако не без изгибов под легким платьем в тех местах, где им полагалось находиться. Она смотрела на залив, и ее силуэт четко вырисовывался на фоне небесной голубизны. Вся залитая солнцем, она болтала ногами среди листьев и цветов лилии, немало не заботясь о том, что может их помять или поломать.
– Если она будет вот так сидеть на солнце, – наконец прошептала миссис Арбатнот, – у нее голова разболится.
– Ей следовало надеть шляпу, – также шепотом ответила миссис Уилкинс.
– Она помнет лилии.
– Но они настолько же ее, как и наши.
– Только на четверть.
Леди Каролина обернулась. Она разглядывала их, удивленная тем, что они настолько моложе, чем показались ей тогда в клубе, и настолько же менее непривлекательны. На самом деле, они могли бы быть довольно привлекательными, если кто-либо вообще способен быть привлекательным в таких неподходящих нарядах. Она скользнула по ним взглядом, за полсекунды разглядев все, что требовалось, потом улыбнулась, помахала им рукой и крикнула: «Доброе утро!» Она сразу же поняла, что, судя по одежде, ничего интересного в них нет. Это была не сознательная мысль, поскольку ее жутко злили красивые наряды, ведь они превращают тебя в свою рабыню: опыт подсказывал, что стоит обзавестись шикарным платьем, как оно тут же в тебя вцепляется, и покоя не видать, пока в нем не покажешься всюду и все тебя в нем не увидят. На вечеринки в платьях не ходят – это платья берут тебя с собой на вечеринки. Ошибочно думать, будто женщина, по-настоящему хорошо одетая женщина, носит одежду – это одежда носит женщину, тащит ее куда-то в любой час дня и ночи. Ничего удивительного, что мужчины дольше сохраняют молодость. Что им новые брюки? Ничего особенного. И предположить невозможно, чтобы даже совсем новые брюки вели себя подобным образом – таскали обладателя в зубах, словно добычу. Образы, возникавшие у нее, были странными, но она думала так, как предпочитала думать, и образы выбирала такие, какие ей были по вкусу. Пока она слезала со стены и шла к окну, она решила, что это как-то успокаивает – целый месяц провести в обществе людей, одетых по моде, как ей слабо помнилось, пятилетней давности.