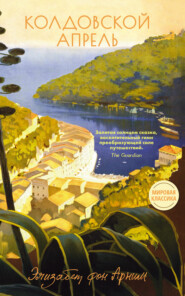скачать книгу бесплатно
Миссис Фишер прийти в клуб не могла: в письме она объяснила, что с трудом передвигается с тростью, так что миссис Арбатнот и миссис Уилкинс отправились к ней сами.
– Но если она не может прийти в клуб, то как она поедет в Италию? – размышляла вслух миссис Уилкинс.
– Мы услышим об этом из ее собственных уст, – сказала миссис Арбатнот.
Из собственных уст миссис Фишер они в ответ на деликатные расспросы услышали, что сидеть в поезде – совсем не то же, что ходить пешком; им обеим это и так было хорошо известно. За исключением трости миссис Фишер показалась самой подходящей четвертой компаньонкой: спокойная, образованная, немолодая. Намного старше, чем они сами и леди Каролина – последняя сообщила, что ей двадцать восемь лет, – но не настолько старая, чтобы утратить живость ума. Она была весьма респектабельна и несмотря на то, что овдовела, по ее словам, одиннадцать лет назад, по-прежнему носила исключительно черное. Дом ее был полон подписанных фотографий известных деятелей викторианской эпохи, которых, как она сообщила, она знала еще девочкой. Ее отец был прославленным критиком, и в его доме она видела практически всех, кто что-либо значил в литературе и искусстве. Ей строил сердитые мины Карлайл, Мэтью Арнольд сажал ее на колени, а Теннисон звучно хохотал над ее косичками. Она с удовольствием рассказывала о них, указывая тростью на развешанные по стенам фотографии, при этом ни словом не обмолвившись о покойном муже, но и не расспрашивала о мужьях посетительниц, что было для них большим облегчением. Вероятно, она полагала, что они тоже вдовы, потому что, когда она поинтересовалась, кто будет четвертой их компаньонкой, и получила ответ о леди Каролине Дестер, то спросила: «Она тоже вдова?» А в ответ на их объяснение, что она не вдова, потому что еще не была замужем, как-то отстраненно, но любезно заметила: «Всему свое время».
Сама эта отстраненность миссис Фишер – казалось, ее интересуют в основном те замечательные люди, которых она когда-то знавала, и их фотографии, и большую часть визита заняли интересные истории о Карлайле, Мередите, Мэтью Арнольде, Теннисоне и многих других, – так вот, ее отстраненность была ей лучшей рекомендацией. Она сказала, что для нее лучше всего было бы, если б ей позволили тихонечко сидеть на солнышке и предаваться воспоминаниям. Большего от своих компаньонок миссис Арбатнот и миссис Уилкинс и пожелать не могли. Это же замечательнейший вариант компаньонки по отдыху: сидит себе тихонечко на солнышке, погруженная в воспоминания, и оживает только в субботу вечером, когда приходит час внести свою долю платы за проживание. А еще миссис Фишер, по ее словам, очень любила цветы, и однажды, когда они с отцом проводили уикенд в Бокс-хилле…
– А кто жил в Бокс-хилле? – прервала ее миссис Уилкинс, которая жадно впитывала все, что говорила миссис Фишер, невероятно взволнованная встречей с той, кто на самом деле была знакома со всеми по-настоящему и несомненно великими – на самом деле видела их, слушала их, касалась их.
Миссис Фишер в некотором удивлении глянула на нее поверх очков. Миссис Уилкинс, до глубины души восхищенная воспоминаниями миссис Фишер и боявшаяся, что миссис Арбатнот вот-вот начнет прощаться, уже не раз прерывала миссис Фишер вопросами, что казалось той признаком невежества.
– Мередит, конечно же, – довольно резко ответила миссис Фишер и продолжала: – Я особенно запомнила один уикенд. Отец часто брал меня с собой, но этот уикенд я помню особенно отчетливо…
– А Китса вы знали? – снова прервала ее полная энтузиазма миссис Уилкинс.
Миссис Фишер помолчала, а потом, стараясь, чтобы в голосе все-таки не прозвучали язвительные нотки, ответила, что не была знакома ни с Китсом, ни с Шекспиром.
– Ну да, Боже, как глупо с моей стороны! – вскричала ставшая совершенно пунцовой миссис Уилкинс. – Это потому… Потому что бессмертные кажутся все еще живыми, да? Как будто они все еще здесь, вот прямо сейчас зайдут в комнату… И поэтому забываешь, что они уже умерли. На самом деле они и не умерли – точно так же не умерли, как вот мы с вами сейчас… – заверила она миссис Фишер, которая молча наблюдала за ней поверх очков.
– Мне кажется, я на днях видела Китса, – побуждаемая этим взглядом, торопливо продолжила миссис Уилкинс. – В Хампстеде, он переходил дорогу возле дома… Ну знаете, возле дома, где он жил…
Тут миссис Арбатнот сказала, что им пора.
Миссис Фишер никак этому не воспротивилась.
– Мне кажется, я действительно его видела, – запротестовала миссис Уилкинс, поворачиваясь для убедительности то к одной, то к другой, пока ее лицо то краснело, то бледнело. Из-за этого взгляда миссис Фишер поверх очков она была не в силах остановиться. – Ну да, я уверена… Он был одет в…
Теперь на нее смотрела и миссис Арбатнот. Исполненным доброты голосом она сказала, что им пора, не то они опоздают на ланч.
Именно в этот момент миссис Фишер подумала о рекомендациях. Она не собиралась целых четыре недели проторчать рядом с той, у кого бывают видения. Конечно, в Сан-Сальваторе три гостиных, не считая сада и стен с бойницами, так что возможность избежать общения с миссис Уилкинс имеется, но миссис Фишер, все равно было бы неприятно, если бы миссис Уилкинс внезапно заявила, к примеру, что ей привиделся мистер Фишер. Мистер Фишер отошел в мир иной, пусть там и остается. Ей совершенно не хотелось услышать, что он прогуливается в саду. Она достаточно стара, уже давно и прочно заняла свое место в этом мире, чтобы вдруг заводить какие-то сомнительные знакомства, поэтому единственная рекомендация, в которой она была заинтересована, касалась состояния здоровья миссис Уилкинс. В норме ли оно? Действительно ли она обыкновенная разумная женщина? Миссис Фишер считала, что, если бы ей назвали хотя бы одно имя, она бы нашла способ выяснить все, что требуется. Так что она осведомилась о рекомендациях, и ее посетительницы были до такой степени поражены – а миссис Уилкинс мгновенно отрезвела – что миссис Фишер добавила:
– Обычная формальность.
Миссис Уилкинс первой вновь обрела дар речи:
– Но разве это не нам следует спросить вас о рекомендациях?
Такой подход показался справедливым и миссис Арбатнот. Ведь это они предлагали миссис Фишер к ним присоединиться, а не миссис Фишер предлагала им присоединиться к ней, разве не так?
В ответ на это миссис Фишер, опираясь на трость, подошла к письменному столу, твердой рукой написала три имени и передала лист миссис Уилкинс – имена были такими респектабельными, более того, такими влиятельными и даже досточтимыми, что даже прочитать их было достаточно. Президент Королевской академии, архиепископ Кентерберийский и управляющий Банка Англии – ну кто осмелится побеспокоить подобных джентльменов, прервать их раздумья, чтобы уточнить, правда ли их знакомая является той, кем является?
– Они знают меня с детства, – сказала миссис Фишер; похоже, любой знал миссис Фишер либо ребенком, либо с самого детства.
– На мой взгляд, просьба о рекомендациях представляется излишней в нашем обществе – обществе обыкновенных порядочных женщин, – выпалила миссис Уилкинс, которая, почувствовав, что ее загнали в угол, вдруг обрела смелость: она прекрасно знала, что единственная рекомендация, которую она могла, не накликав на свою голову неприятностей, предоставить, была бы из магазина «Шулбредс», да и то ее вряд ли можно считать исчерпывающей, поскольку основывалась бы она на количестве и качестве приобретаемой для Меллерша рыбы. – Мы не из деловых кругов. Нам нет нужды не доверять друг другу…
А миссис Арбатнот, с достоинством, притом ласково, добавила:
– Боюсь, рекомендации вносят в атмосферу наших планов на отдых нечто не вполне желательное, и я не думаю, что мы обратимся за рекомендациями на ваш счет или предоставим вам наши. Полагаю, вы не пожелаете к нам присоединиться.
И она протянула на прощание руку.
Миссис Фишер, глядя на миссис Арбатнот, которая вызывала доверие и симпатию даже у контролеров метро, поняла, что будет крайне глупо с ее стороны потерять возможность съездить в Италию на предложенных условиях, и что они вместе с этой дамой с безмятежным челом смогут обуздать ту, вторую, если на нее найдет. Так что, принимая предложенную миссис Арбатнот руку, она сказала:
– Очень хорошо. Я воздержусь от требования рекомендаций.
Она воздержится!
Идя к станции «Хай-стрит Кенсингтон», обе думали об одном: с ними обошлись весьма высокомерно. Даже миссис Арбатнот, привыкшая находить извинения всяческим оговоркам и неудачным фразам, думала, что миссис Фишер могла бы подобрать другие слова, а миссис Уилкинс, к тому моменту, как они добрались до станции, уже весьма разгоряченная ходьбой и лавированием между чужими зонтиками на запруженных тротуарах, предложила воздержаться от миссис Фишер.
– Если кому-то и следует воздержаться, так это нам, – горячо произнесла она.
Но миссис Арбатнот, как обычно, успокоила миссис Уилкинс, и та, поостыв в поезде, заявила, что в Сан-Сальваторе миссис Фишер займет место ей подобающее. «Я вижу, что она обретет там свое место», – сказала миссис Уилкинс, и глаза ее заблестели.
А миссис Арбатнот, сидевшая рядом со скромно сложенными на коленях руками, всю дорогу думала о том, каким образом помочь миссис Уилкинс видеть поменьше или по крайней мере помалкивать об увиденном.
Глава 4
Миссис Арбатнот и миссис Уилкинс, путешествующие вместе, должны были прибыть в Сан-Сальваторе вечером 31 марта – владелец, объясняя им, как добраться, благосклонно отнесся к их намерению оказаться в замке до 1 апреля – а леди Каролина и миссис Фишер, все еще не представленные друг другу и потому совершенно не обязанные надоедать друг другу в пути, разве что в самом конце, когда отсеются другие попутчики и они поймут, кто есть кто, должны были появиться утром 2 апреля. Таким образом миссис Арбатнот и миссис Уилкинс успеют подготовиться к встрече двух дам, которые, несмотря на равные доли в оплате аренды, все же почему-то воспринимались как гостьи.
До конца марта произошло несколько неприятных инцидентов. Миссис Уилкинс, с отчаянно бьющимся сердцем и лицом, на котором читались вина, ужас и решимость, сообщила мужу, что ее пригласили в Италию, во что он отказался поверить. Само собой, отказался. Раньше ведь никто не приглашал его жену в Италию. Беспрецедентно! Он потребовал доказательств. Единственным доказательством была миссис Арбатнот, каковую миссис Уилкинс и предъявила – после долгих уговоров и страстной мольбы. Миссис Арбатнот и не представляла, что ей придется встречаться с мистером Уилкинсом и говорить нечто не совсем похожее на правду. После чего она окончательно призналась себе в том, о чем подозревала уже некоторое время – что она все дальше и дальше отклоняется от Господа.
И вообще весь март был полон тревожных и неприятных моментов. Непростой оказался месяц. Совесть миссис Арбатнот, ставшая сверхчувствительной из-за многолетнего заботливого ухода, не могла смириться с тем, что миссис Арбатнот творила с ее, совести, высокими стандартами благочестивости. Совесть не давала миссис Арбатнот ни минуты покоя. Совесть терзала ее во время молитв. Совесть вмешивалась в ее просьбы о божественном указании пути с неуместными вопросами типа «Разве ты не лицемерка? Неужели ты действительно имеешь это в виду? И, если уж совсем честно, то не будешь ли ты разочарована, если эта мольба будет услышана?»
Затянувшаяся сырая, промозглая погода тоже приняла сторону совести, ибо бедняки болели больше обычного. То у них бронхит, то лихорадка, и конца-края этим неприятностям было не видать. А она при этом намеревается уехать, потратив драгоценные средства, и потратив исключительно на то, чтобы почувствовать себя счастливой! Одна женщина. Одна женщина со своим счастьем, а тут огромное множество этих несчастных…
Она не могла смотреть викарию в глаза. Он не знал – да и никто не знал, – что она собиралась сделать, и она с самого начала не смела смотреть в глаза вообще никому. Она отказывалась выступать с речами, призывавшими к финансовым пожертвованиям. Как могла она просить у людей денежной помощи, если сама тратила так много на собственное эгоистичное удовольствие? Нисколько не помог ей и никак не успокоил тот факт, что, когда она в конце концов попросила Фредерика – в возмещение нанесенных эгоизмом убытков – ссудить ей некоторую сумму, он мгновенно выдал ей чек на сто фунтов. Без единого вопроса. Она мучительно покраснела. Он глянул на нее, а потом отвел глаза. Фредерик был рад, что она взяла деньги. А она сразу же передала их своей благотворительной организации, после чего сомнения набросились на нее с большей силой, чем прежде.
У миссис Уилкинс, напротив, сомнений не было никаких. Она была совершенно уверена в том, что отправиться на отдых – это хорошо и правильно, так же как хорошо и правильно будет потратить свои с таким трудом собранные средства на то, чтобы побыть счастливой.
– Вы только подумайте, насколько лучше мы станем по возвращении, – говорила она миссис Арбатнот, стремясь подбодрить эту вечно печальную особу.
Сомнений у миссис Уилкинс не было, но были у нее страхи, и они терзали ее весь март, пока в тишине и покое неведения мистер Уилкинс наслаждался за ужином своей рыбой.
И все пошло наперекосяк. Просто поразительно, до какой степени нелепо все сложилось. Миссис Уилкинс весь месяц подавала Меллешу только ту еду, которую он любил, она закупала и готовила ее со рвением необычайным, и преуспела: Меллерш был удовлетворен, определенно удовлетворен, до такой степени удовлетворен, что даже начал было подумывать: может быть, он все-таки женился правильно – вопреки уже привычному подозрению, что женился неправильно. Результатом стало то, что в третье воскресенье месяца – а миссис Уилкинс решила, что в четвертое воскресенье, поскольку в этом марте воскресений было пять, и как раз на пятое и был намечен их с миссис Арбатнот отъезд, поэтому в четвертое воскресенье она скажет Меллершу о полученном приглашении, – так вот, в третье воскресенье, после особенно хорошо приготовленного ужина (йоркширский пудинг так и таял во рту, а абрикосовый тарт был настолько изумителен, что он съел его целиком), Меллерш, покуривая у ярко пылающего камина сигару, в то время как в окно хлестал дождь с градом, произнес:
– Я вот подумываю о том, чтобы на Пасху свозить тебя в Италию.
И умолк в ожидании ее изумления и непомерного восторга.
Но ничего подобного не последовало. В комнате царила полная тишина, за исключением стука града в окно и веселого рева огня в камине. Миссис Уилкинс молчала. Она утратила дар речи. Она намеревалась сообщить ему свою новость в следующее воскресенье и пока не подготовила соответствующих слов.
После войны мистер Уилкинс еще ни разу не бывал за границей, и, отмечая с растущим негодованием, что недели дождя и ветра сменялись неделями дождя и ветра, то есть погода демонстрировала поразительно отвратительное постоянство, постепенно приходил к мысли, что неплохо было бы на Пасху уехать из Англии. Дела у него шли очень хорошо. Он мог позволить себе путешествие. Швейцария в апреле никому не нужна. А вот Пасха в Италии звучала привлекательно. В Италию он и отправится, но, если он не возьмет с собой жену, это вызовет нежелательные пересуды, значит, ему придется ее взять – кроме того, она может оказаться полезной; второй человек всегда полезен в стране, языка которой не знаешь, – вещи подержать, дождаться багажа.
Он ждал взрыва благодарности и волнения. Отсутствие оных было невероятным. Он пришел к выводу, что она, должно быть, не расслышала. Наверное, погрузилась в свои дурацкие мечтания. Какая досада, что она оставалась такой незрелой!
Он повернулся – оба их кресла стояли перед камином – и посмотрел на нее. Она, не отрываясь, смотрела в огонь, и наверняка это из-за жара лицо ее так раскраснелось.
– Я намереваюсь, – возвысив свой четкий, благовоспитанный голос, повторил он с некоей язвительностью, поскольку невнимательность в такой момент была непростительна, – отвезти тебя на Пасху в Италию. Ты меня не слышала?
Она его слышала, просто она размышляла над невероятным совпадением… Действительно невероятным… Она как раз собиралась сказать ему, что… Что одна подруга пригласила ее на Пасху… Тоже на Пасху, Пасха ведь в апреле, да? Подруга пригласила ее… У нее там дом…
Миссис Уилкинс, движимая ужасом, виной и удивлением, выражалась еще более сбивчиво, чем обычно.
Вечер был кошмарным. Меллерш, кипя от негодования, что задуманное им благодеяние бумерангом вернулось к нему же, спрашивал и переспрашивал ее с максимальным пристрастием. Он требовал, чтобы она отказалась от приглашения. Он настаивал на том, чтобы она, так необдуманно приняв предложение, даже не посоветовавшись с ним, немедленно написала и отклонила приглашение. Натолкнувшись на ее неожиданное, шокирующее упрямство, он отказался верить, что ее пригласили в Италию вообще. Он отказался верить в существование какой-то миссис Арбатнот, о которой он до этого момента вообще ничего не слышал, и только когда это милейшее создание было ему предъявлено – с колоссальными трудностями, ибо миссис Арбатнот скорее бросила бы всю затею, чем солгала мистеру Уилкинсу, – и миссис Арбатнот сама подтвердила слова его жены, он согласился поверить. Не мог он не поверить миссис Арбатнот. Она произвела на него в точности то же впечатление, что и на контролеров в метро. Так что ей не нужно было говорить почти ничего. Но сей факт никоим образом не успокоил ее совесть, которая не позволяла ей забыть: всей правды она не сказала. «И ты считаешь, что между неполной правдой и полной ложью есть какая-то разница? – вопрошала совесть. – А Господь такой разницы не видит».
Оставшиеся от марта дни прошли словно в дурном сне. И миссис Арбатнот, и миссис Уилкинс пребывали в полном смятении. Как только они пытались от этого смятения отрешиться, на них наваливалось колоссальное чувство вины, и когда утром 30 марта они наконец тронулись в путь, они не испытывали никакого радостного возбуждения, никакого предвкушения отпуска.
– Мы всегда были правильными, слишком правильными, – бормотала миссис Уилкинс, вышагивая по платформе вокзала Виктория: они прибыли за час до отправления поезда. – Вот почему нам кажется, что мы поступаем неправильно. Мы же запуганы, мы вообще больше на людей не похожи. Настоящие человеческие существа и вполовину не такие правильные, как мы с вами. О! – и она заломила худые руки. – Только подумайте, мы же должны быть сейчас счастливы, здесь, на станции, отправляясь в путь, а мы несчастны, этот момент испорчен для нас, потому что мы сами его испортили! Что такого мы сделали, что мы такого сделали, хотела б я знать! – с негодованием осведомилась она у миссис Арбатнот. – Только и всего, что однажды захотели уехать и хоть немного отдохнуть от них!
Миссис Арбатнот, терпеливо шагавшая рядом, не спросила, кого ее подруга имела в виду под «ними», потому что знала и так. Миссис Уилкинс имела в виду их мужей, устойчивая в своем убеждении, что Фредерик, подобно Меллершу, также негодовал по поводу отъезда жены, в то время как Фредерик даже и не знал, что его жена уехала.
Миссис Арбатнот, никогда не рассказывавшая о муже, ничего не сказала миссис Уилкинс и на этот раз. Фредерик слишком глубоко проник в ее сердце, чтобы о нем можно было говорить. Он практически не бывал дома в последние несколько недель, потому что как раз заканчивал очередную из своих ужасных книг, отсутствовал он и в день ее отъезда. И какой смысл был заранее ставить его в известность? Она с горечью говорила себе, что ему совершенно все равно, чем она занимается, поэтому она просто написала ему записку и оставила на столике в передней – прочтет, если и когда вернется домой. Она писала, что отправляется на отдых на месяц, что она давно не отдыхала и это ей совершенно необходимо, и что она отдала Глэдис, их надежной горничной, распоряжение позаботиться о его удобствах. Она не написала, куда именно едет – а зачем? Ему ведь это совершенно не интересно, ему все равно.
День был отвратительный, ветреный и сырой, на переезде было мерзко, и они чувствовали себя очень плохо. Но когда они прибыли в Кале, и дурнота отступила, на них впервые нахлынуло ощущение великолепия, роскоши того, что они задумали, и это ощущение согрело их души. Первой поддалась ему миссис Уилкинс, а затем оно окрасило розовым пламенем и бледные щеки ее компаньонки. Здесь, в Кале, Меллерш – а они восстановили силы камбалой, потому что на том настояла миссис Уилкинс: разок отведать камбалы, которая не достанется Меллершу, – здесь, в Кале, Меллерш как бы истончился и стал казаться менее внушительным. Никто из французских носильщиков их не знал, ни одному из таможенников в Кале Меллерш не был интересен ни капельки. В Париже у нее не было времени о нем думать, потому что их поезд опоздал, и они едва успели добраться до Лионского вокзала, с которого отходил поезд до Турина, и к вечеру следующего дня они уже были в Италии. Англия, Фредерик, Меллерш, викарий, бедняки, Хампстед, клуб, «Шулбредс» – все и все, вся опостылевшая обыденность растаяла в мечтательном тумане.
Глава 5
В Италии, как ни странно, было облачно. Они-то ожидали яркого солнышка. Но тем не менее это была Италия, и сами облака выглядели как пух. Ни та, ни другая здесь раньше не бывали. Обе глазели из окон с восторженными лицами. Часы таяли вместе с дневным светом, они были взволнованы: вот уже ближе, вот уже совсем близко, вот они здесь! В Генуе начало накрапывать – Генуя! В это невозможно поверить: они в Генуе, вот и надпись на здании вокзала, совсем как на каком-нибудь обычном вокзале, обычное название станции… В Нерви уже шел сильный дождь, а в Медзаго, куда они прибыли к полуночи, потому что и этот поезд опаздывал, лило как из ведра. Но это была Италия. Ничего плохого здесь не могло случиться. Даже дождь был другой – прямой, честный, падающий точно на зонтик, а не этот злобный английский дождь с ветром, пробирающийся повсюду. И он заканчивался, и тогда земля расцветала розами.
Мистер Биггс, владелец Сан-Сальваторе, сказал: «Поездом до Медзаго, а потом в экипаже». Но забыл – хотя и сам с этим сталкивался – что поезда в Италии иногда опаздывают. Он-то предполагал, что его постоялицы прибудут по расписанию, в восемь вечера, и возле станции еще будет полно пролеток.
Поезд опоздал на четыре часа, и когда миссис Арбатнот и миссис Уилкинс по крутым выдвижным ступеням спустились из своего вагона в черную слякоть, подолы у них тут же промокли из-за того, что руки были заняты чемоданами, и, если бы не бдительность Доменико, садовника из Сан-Сальваторе, довезти их было бы некому. Обычные наемные пролетки давно разъехались. Доменико же, предвидя это, выслал за ними пролетку своей тетушки, правил которой ее сын, то есть его кузен, а тетушка с пролеткой обретались в Кастаньето, деревне у подножия Сан-Сальваторе, и потому, во сколько бы поезд ни прибыл, пролетка не посмела бы вернуться домой без тех, за кем ее отправили.
Кузена Доменико звали Беппо, и он возник пред ними из темноты как раз тогда, когда растерянные миссис Арбатнот и миссис Уилкинс размышляли над тем, что им делать дальше, потому что поезд ушел, носильщиков не наблюдалось, и им казалось, что они очутились не на вокзальной платформе, а посередине бескрайнего небытия.
Беппо, который как раз их искал, вынырнул из тьмы, бурно лопоча что-то по-итальянски. Беппо был очень приличным молодым человеком, хотя на вид таковым не казался, особенно в темноте и особенно в шляпе, поля которой закрывали ему один глаз. Им не понравилось, как он схватил их чемоданы. Едва ли это был носильщик. Однако, уловив в потоке слов «Сан-Сальваторе», и после того, как они с расстановкой и не раз повторили и «Сан», и «Сальваторе», поскольку это были единственные известные им итальянские слова, они поспешили за ним, не сводя глаз со своих чемоданов, спотыкаясь о рельсы, наступая в лужи, пока не вышли к дороге, где их ждала небольшая высокая пролетка.
Верх у пролетки был поднят, конь пребывал в задумчивости. Они залезли внутрь, и в ту же секунду – вообще-то миссис Уилкинс едва успела вскарабкаться – конь стремительно стартовал и понесся домой, без Беппо и без чемоданов.
Беппо помчался за пролеткой, оглашая ночь воплями, и успел схватить болтавшиеся поводья как раз вовремя. Он гордо объявил, что его конь всегда так себя ведет, поскольку является животным полнокровным и откормленным отборным зерном, а Беппо ухаживает за ним, как за своим сынком, но дамы, наверное, испугались – вон как прижались друг к другу. Однако сколько бы громко и много он ни говорил, они только ошарашенно на него смотрели.
Он все говорил и говорил, пристраивая рядом с ними чемоданы, уверенный, что рано или поздно они его поймут, особенно если он будет говорить погромче и сопровождать сказанное простейшими жестами, но они все так же молча на него таращились. У обеих, как он с сочувствием заметил, были бледные утомленные лица и большие усталые глаза. Красивые дамы, подумал он, и глаза, глядевшие на него поверх чемоданов – сундуков у них не было, одни только чемоданы – были все равно что глаза Божьей Матери. Единственное, что вновь и вновь произносили дамы в попытках привлечь его внимание, даже когда он уже вскарабкался на козлы и поехал, был вопрос: «Сан-Сальваторе?»
И каждый раз он убедительно отвечал: «Si, si, Сан-Сальваторе!»
– Откуда нам знать, что он везет нас именно туда? – тихо спросила миссис Арбатнот. Они ехали, как им казалось, уже довольно долго, прогрохотали по выложенным булыжником улицам спящего городка и выехали на серпантин, по левой стороне которого, как они могли различить во тьме, был низкий парапет, а за ним – бескрайняя черная пустота и шум моря. Справа вплотную к дороге подступало что-то темное и высокое – скалы, как они прошептали друг другу, огромные скалы.
Им было очень не по себе. Было так поздно. И так темно.
И дорога была такой пустынной. А вдруг колесо отлетит? Или им встретятся фашисты или те, кто против фашистов… Они горько жалели, что не заночевали в Генуе и не тронулись в путь утром, по свету.
– Но тогда это уже было бы первое апреля, – вполголоса произнесла миссис Уилкинс.
– И так уже первое апреля, – шепотом ответила миссис Арбатнот.
– Да, верно, – пробормотала миссис Уилкинс.
И они умолкли.
Беппо повернулся на козлах – они уже заметили эту его внушающую беспокойство привычку, поскольку за конем следовало присматривать внимательно, – и снова обратился к ним с речью, казавшуюся ему образцом ясности: он же даже местных словечек не употреблял и все сопровождал выразительной жестикуляцией.
Как жаль, что матери не заставили их в детстве изучать итальянский! Если б они только могли сказать: «Будьте добры, сядьте прямо и следите за лошадью!» Они даже не знали, как будет «лошадь» по-итальянски. Позорно быть такими невежественными!
Дорога вилась вдоль огромных скал, слева, между ними и морем, не было ничего, кроме невысокой ограды, и они, боясь, как бы чего не случилось, тоже принялись махать руками на Беппо, указывая вперед. Они всего-то хотели, чтобы он снова повернулся лицом к лошади, а он решил, что они просят его ехать быстрее, и последующие – чудовищные – десять минут он с удовольствием выполнял их указание. Он гордился своим конем, весьма прытким. Он привстал на козлах, взмахнул кнутом, конь рванул вперед. Мимо летели скалы, маленькую пролетку швыряло из стороны в сторону, чемоданы завалились, миссис Арбатнот и миссис Уилкинс вцепились друг в друга. Этот шум, грохот, раскачивание, подпрыгивание и тесные объятия продолжались до того места у въезда в Кастаньето, где дорога начала подниматься в гору, и, достигнув которого, конь, знавший каждый дюйм этого пути, вдруг остановился, из-за чего все в пролетке полетело вперед, а затем перешел на самый медленный ход.
Беппо, хохоча от гордости за своего коня, снова повернулся, чтобы насладиться их восторгом.
Но не дождался от прекрасных дам ответного смеха. Уставившиеся на него глаза казались даже больше прежнего, а лица в ночном мраке были молочно-белыми.
Но здесь, на склоне, по крайней мере, были дома. Не скалы, а дома, не парапет, а дома, и море куда-то исчезло, и звук его смолк, и дорога уже не была пустынной. Нигде, конечно, не было ни огонька, и никто не видел, как они едут, и все же Беппо, когда начались дома, крикнул дамам через плечо: «Кастаньето!», привстал, щелкнул кнутом и снова послал своего коня вперед.
«Мы скоро приедем», – подумала, взяв себя в руки, миссис Арбатнот.
«Мы скоро остановимся», – подумала, взяв себя в руки, миссис Уилкинс. Друг другу они не сказали ничего, потому что вряд ли что-либо можно было расслышать в свисте кнута, грохоте колес и воплях Беппо, подгонявшего коня.
Тщетно они напрягали взоры в надежде увидеть Сан-Сальваторе.
Они предполагали, что, когда деревня закончится, перед ними возникнут средневековые врата, через которые они въедут в сад. Перед ними гостеприимно распахнутся двери, из них хлынет поток света, в котором будут стоять – в соответствии с объявлением – слуги.
Пролетка вдруг остановилась.
Они смогли разглядеть только деревенскую улицу с маленькими темными домиками по обе стороны. Беппо бросил вожжи с видом человека, который точно никуда дальше не поедет, и слез с козел. В тот же миг словно из ниоткуда возник мужчина в сопровождении нескольких мальчишек, они окружили пролетку и принялись вытаскивать чемоданы.
– Нет, нет, Сан-Сальваторе, Сан-Сальваторе! – вскричала миссис Уилкинс, пытаясь удержать хоть один чемодан.
– Si, si, Сан-Сальваторе! – вопили они все разом и тянули чемодан на себя.
– Это не может быть Сан-Сальваторе, – сказала миссис Уилкинс, повернувшись к миссис Арбатнот, которая сидела, совершенно спокойно наблюдая, как исчезают ее чемоданы, с тем терпением на лице, которое она приберегала для меньших из зол. Она понимала, что, если эти испорченные люди решили присвоить ее чемоданы, ничего с этим она поделать не сможет.
– Полагаю, что нет, – признала она и не смогла удержаться от мысли о промыслах Божьих. Если уж они с бедной миссис Уилкинс все-таки добрались сюда, после всех проблем, трудов и забот, через дьявольские тропы экивоков и уловок, только чтобы…
Она заставила себя не думать об этом и мягко сказала миссис Уилкинс – пока тем временем юные оборванцы исчезли в ночи с их чемоданами, а человек с фонарем помогал Беппо откинуть полог – что обе они в руцех Божьих, и миссис Уилкинс, хоть и не впервые слышавшая эти слова, впервые их испугалась.
Им ничего не оставалось, кроме как выйти из пролетки. Никакого смысл сидеть в ней и твердить «Сан-Сальваторе» не было. Тем более что с каждым повторением голоса их слабели, а отзывавшиеся эхом голоса Беппо и второго мужчины оставались все такими же звучными. Ну что им стоило в детстве выучить итальянский! Тогда б они могли сказать: «Нам бы хотелось, чтобы вы подвезли нас к самим дверям». Но они даже не знали, как по-итальянски «двери». Такое невежество было не только постыдным – теперь они понимали, что оно еще и опасно. Однако из-за этого переживать сейчас бесполезно. Бесполезно просто оставаться в пролетке и пытаться отсрочить то, чему суждено случиться, что бы там ни было. Поэтому они вышли.
Беппо и второй раскрыли свои зонтики и вручили им. Это их слегка взбодрило, потому что вряд ли злодеи побеспокоились бы о зонтиках. Человек с фонарем, что-то быстро и громко говоря, знаками показал следовать за ним, а Беппо, как они заметили, остался на месте. Должны ли они ему заплатить? Вряд ли, если их намерены ограбить и, возможно, убить. Совершенно определенно, в таких случаях платить не следует. К тому же он привез их вовсе не в Сан-Сальваторе. Очевидно, что он привез их в какое-то другое место. К тому же он не проявлял никаких намерений получить плату – отправил их во тьму без единого протеста. А это, не могли они не думать, плохой знак. Он не попросил платы за проезд, потому что рассчитывает получить куда больше.
Они подошли к какой-то лестнице. Дорога обрывалась возле церкви и ведущих вниз ступеней. Человек держал фонарь низко, чтобы осветить им путь.
– Сан-Сальваторе? – перед тем, как решиться ступить на лестницу, снова еле слышно спросила миссис Уилкинс. Это, конечно, было бесполезно, но она не могла спускаться в полной тишине. Она была уверена, что средневековые замки никогда не строились у подножия лестниц.
И снова раздался бодрый вопль:
– Si, si, Сан-Сальваторе!
Они спускались осторожно, поддерживая юбки, как если бы они им еще пригодились. Вполне вероятно, что для них с юбками вообще все кончено.