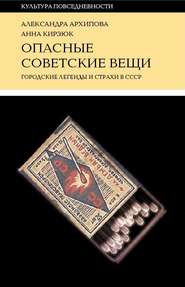
Полная версия:
Опасные советские вещи
Меметический подход: легенда как вирус и возбудитель эмоций
С того момента, как Чарльз Дарвин написал «Происхождение видов», умы многих исследователей не покидает идея: а что, если социальная эволюция определяется логикой, близкой логике биологической эволюции? Что, если в развитии человеческой культуры играет существенную роль подобие закона естественного отбора, например выбор половых партнеров у людей строится по тому же «принципу гандикапа», как и размер хвоста у павлинов или красота голоса у певчих птиц? Этими вопросами занимаются исследователи в рамках «теории двойной наследственности», или «теории генно-культурной коэволюции», ставшей очень популярной в 1980‐е годы. В 1981 году генетик Луиджи Кавалли-Сфорца публикует книгу «Культурная трансмиссия и эволюция: количественный подход», а через несколько лет появляется ставшая очень популярной работа антрополога Роберта Бойда и биолога Питера Ричардсона «Культура и эволюционный процесс»[52], в которой подробно разбираются механизмы социального «эволюционного отбора» культурных практик. Бойд и Ричардсон показывают, что благодаря процессу научения возникает кумулятивный эффект культурного отбора: накопление изменений в социальных практиках происходит быстрее, чем генный отбор.
В 1976 году биолог Ричард Докинз в своей книге «Эгоистичный ген» проводит знаменитое сравнение: как гены запрограммированы воспроизводить себя (поэтому они и «эгоистичные»), так и в человеческой культуре культурная информация, минимальный элемент которой Докинз называет мемом, тоже стремится к воспроизведению и размножению себя. Гены и мемы переходят от носителя к носителю, могут быть изменены под воздействием внешних факторов и подвержены законам генетического/культурного отбора.
Применительно к текстам городских легенд и слухов этот тезис выглядит следующим образом. Интерпретативный подход предполагает, что люди распространяют легенды, потому что им важно передать друг другу некоторое «скрытое сообщение», которое легенда в себе содержит (именно поэтому так важно понять, о чем легенда говорит). Если мы уподобляем легенды мемам, то их «значение» для нас не важно – они распространяются, движимые слепым и «эгоистичным», по выражению Докинза, стремлением к самовоспроизводству, которое ограничивается законами естественного отбора.
Но какую объяснительную модель – если содержание легенды более не важно – предлагает эта новая исследовательская оптика? Представим себе умозрительно некоторую группу людей (например, офис какой-нибудь компании). В нашем мысленном эксперименте исследователь рассказал каждому сотруднику городскую легенду под видом факта. 100 % испытуемых узнали эту историю, однако спустя две недели, когда исследователь возвращается в офис, он обнаруживает, что, несмотря на то что это была одна и та же легенда, одни охотно ее рассказывали дома и на работе, сделали репост в социальных сетях и даже отказались от покупки определенного товара, если об опасности этого продукта говорилось в легенде. В то же время другие совершенно ничего не сделали с той информацией, которую им «слил» исследователь. Почему? Почему одни оказались восприимчивы к заражению мемом, или, если хотите, «вирусом» городской легенды, а мозг других оказался устойчив к подобному влиянию? Обратите внимание: какой бы ответ мы ни получили на вопрос «почему легенда стала распространяться», мы должны смотреть не на содержание мема, а на когнитивные особенности самих носителей – почему одни заразились, а другие нет? Дело в возрасте? образовании? гендере? цвете рубашек, наконец? Неудивительно, что при такой постановке вопроса в 1990‐е и 2000‐е годы происходит мощный «антропологическо-когнитивный поворот» и внимание исследователей переключается с изучения самого текста на исследование когнитивных особенностей, то есть происходит сдвиг от изучения скрытого послания легенды к наблюдению за поведением людей, которые рассказывают или не рассказывают подобные истории. Исследователи начинают активно обращаться к работам в области социальной психологии, эволюционной биологии и генетики, позволяющим описать, какой триггер (вне вопроса о содержании) «запускает» процесс передачи городской легенды или, в биологических терминах, «заражения» ею.
Вирус под названием «городская легенда»С идеи о психических микробах, которые заражают своего носителя так, как и микробы биологические, начинает в 1908 году свою книгу «О природе внушения» известный психиатр и невропатолог Владимир Бехтерев:
В настоящую пору так много вообще говорят о физической заразе при посредстве «живого контагия» (contagium vivum) или так называемых микробов, что, на мой взгляд, нелишне вспомнить и о «психическом контагии» (contagium psychicum), приводящем к психической заразе, микробы которой хотя и не видимы под микроскопом, но тем не менее подобно настоящим физическим микробам действуют везде и всюду и передаются чрез слова, жесты и движения окружающих лиц, чрез книги, газеты и пр., словом, где бы мы ни находились, в окружающем нас обществе мы подвергаемся уже действию психических микробов и, следовательно, находимся в опасности быть психически зараженными[53].
В 2003 году в книге «Пришельцы, призраки и культы: легенды, которыми мы живем» американский фольклорист Билл Эллис, сам того не зная, практически цитирует идею Бехтерева о психических вирусах, уподобляя городские легенды «вирусам сознания» (mind viruses), а культуру того или иного сообщества – информационной системе, которую этот «вирус» захватывает. Как для Ричарда Докинза мем подобен гену, так и легенда подобна вирусу или сбою в системе, и поэтому ее содержание становится неважным: «вирус сознания» не обладает сам по себе социальным или культурным значением, которое может быть реконструировано, он распространяется просто как насморк – вне зависимости от веры людей в содержание легенды. В доказательство этого утверждения Билл Эллис приводит исследование (причем пересказывая его не вполне корректно), проведенное парижским Институтом по изучению слухов под руководством Жан-Ноэля Капферера[54]. В 1991 году по Франции начали интенсивно распространяться анонимные листовки о том, что детские переводные картинки и татуировки с Микки-Маусом будто бы содержат ЛСД. Чтобы сделать татуировку, ее нужно было лизнуть, и, согласно городской легенде, таким образом наркодилеры распространяли наркотики среди детей. Опрос, проведенный этим институтом, показал, что, хотя в целом чем больше люди верят содержимому листовки, тем больше они склонны передавать ее дальше, зависимость между распространением истории и верой рассказчика в ее содержание не прямая: 26 % от числа тех, кто не поверил листовке, тем не менее обсуждали ее с другими, а 8 % от числа не поверивших даже распространили саму листовку дальше. Причины такого поведения автор исследования Капферер видит в том, что «получатели» вируса ищут подтверждения своим сомнениям – в ту или иную сторону – и поэтому обсуждают с другими сомнительную информацию. Таким образом, фактором, способствующим распространению, становится не только вера в достоверность информации, но и сомнение со стороны «реципиента».
Вирус городской легенды, согласно концепции Билла Эллиса, сначала распространяется взрывообразно, а потом «зараженная» им социальная группа начинает вырабатывать «антитела» – фольклорные тексты, опровергающие или высмеивающие легенду, или «антилегенды». Сама же легенда (как и биологический вирус), столкнувшись с такими контратаками, выбирает то, что биологи называют «стабильной эволюционной стратегией», то есть продолжает свое существование в формах, защищающих ее от возможных нападок. Всегда найдутся те, кто готов оспорить легенду, указывающую на ту или иную «реальную» опасность, как глупую и лживую. Но вряд ли кто-то станет с аналогичными претензиями нападать на тот же самый сюжет, поданный в форме заведомо вымышленной развлекательной истории. Так, следуя «стабильной эволюционной стратегии», легенда об украденной почке, ходившая сначала в виде предупреждений о реальной угрозе, трансформировалась в сюжеты комиксов, сериалов и пародий и в таком виде продолжает благополучно существовать в информационной системе.
Survival machine: как выживает городская легендаВ 1951 году американский фантаст Роберт Хайнлайн пишет фантастический роман «Кукловоды», наделавший много шума в Штатах. В этом романе пришельцы с Титана захватывают людей и паразитируют на них (в буквальном смысле). Но взамен они убивают в тех людях, кто восприимчив к паразитам, агрессию и внушают им повышенное стремление к кооперации, за счет чего пришельцы очень быстро распространяются по Земле. Возмущенная (и восторженная) критика писала о том, что малозаметные слизняки, порабощающие людей, – это метафора коммунистических идей, вирусно захватывающих Америку. Городская легенда в логике Билла Эллиса – это тоже такой пришелец, который стремится поработить людей – своих «носителей». Главная ее задача – заставить их распространять себя (точно так же как и у «эгоистичного гена» Докинза главная задача – воспроизвести себя).
Если легенда распространяется не благодаря содержанию, в которое верят, тогда из‐за чего? В легенде, кроме содержания (то, что Алан Дандес назвал собственно text), есть еще и texture – фонетика, фразеология, стиль и другие элементы, относящиеся к строению легенды (классический формалист texture назвал бы формой)[55]. «Встроенные» в «текстуру» свойства легенды, которые заставляют своего носителя пересказывать именно этот вариант, Билл Эллис называет «механизмом для выживания» (survival machine). Как пирожок говорил кэрролловской Алисе «съешь меня», так и механизм выживания городской легенды говорит слушателю: «это отличная история, расскажи ее другому». Один из авторов этих строк писал диссертацию об анекдотах о Штирлице, появившихся после выхода на экраны фильма «Семнадцать мгновений весны» (1973). Исследование корпуса текста (1000 единиц) показало, что люди охотнее и быстрее пересказывают анекдоты, чья длина (учитывая только неслужебные слова) варьируется в промежутке между семью и девятью словами: «Штирлиц подумал. Ему понравилось и он подумал еще». Работает эволюционный «принцип экономии усилий»: на длинный анекдот «носитель мема» (то есть рассказчик анекдота) тратит слишком много усилий (во-первых, в процессе запоминания, а во-вторых, в процессе пересказа), и поэтому такой анекдот проигрывает эволюционную гонку[56]. Содержание, как мы видим из этого примера, не играет никакой роли при принятии «носителем» решения, нужно ли передавать анекдот дальше или нет. «Механизм для выживания» в данном случае предписывает текст анекдота сокращать.
Следовательно, эволюционный отбор успешных городских легенд обеспечивается механизмом выживания, который делает текст более коротким, более удобным, более веселым или более страшным для носителя. Но за счет чего создается механизм выживания? Откуда он знает, что предпочтут носители?
Городская легенда как результат эволюционной гонкиИ тут мы подходим к очень важному логическому повороту в «меметических исследованиях». Если мы не понимаем из содержания легенды, почему носители предпочитают ту или иную версию, не сможем ли мы понять это, проанализировав поведение носителей? Конечно, для проведения таких исследований в реальности требуется всего ничего: нужна либо огромная база данных, где разные культуры описываются по одним и тем же параметрам (так называемая кросс-культурная база), либо лаборатория и эксперимент.
Помните ли вы сказку «Морозко» – о злой мачехе и доброй падчерице, которая известна более чем в девятистах этнических версиях и является самой распространенной волшебной сказкой[57] (обойдя по этому параметру «Золушку»)? Несколько лет назад один из авторов этих строк вместе с фольклористом Артемом Козьминым задались вопросом – а зависят ли варианты сюжета от какого-нибудь из предпочтений рассказчиков? Выяснилось, что такие параметры есть, но они связаны не с моралью сказки, а с тем, как описывается вознаграждение героини за ее доброту. Для культур, где исповедуются авраамические религии (в первую очередь христианство), с большой вероятностью в качестве награды появится физическая трансформация облика (девушка становится красавицей, сияет, как солнце, у нее волосы, как чистое золото, изо рта падают розы). Наличие в данной культуре религиозного учения о символическом духовном перерождении как жизненной цели заставляет рассказчика акцентировать в сказке именно этот вариант награды – видимо, потому что ему это нравится. Если же этническая группа, у которой записан текст, придерживается более архаических (не авраамических) верований, то физическая трансформация там непопулярна, а рассказчики предпочитают конец истории, где герой получает материальную награду: драгоценности, волшебные предметы или хорошего мужа[58].
Конечно, такие исследования возможно сделать для сказки, потому что существует огромная кросс-культурная база Мёрдока[59], описывающая разные культуры по формальным параметрам, и есть указатели сказочных сюжетов, из которых мы знаем, какой вариант сказки кто и когда рассказывал в каждой этнической группе. Но для городской легенды такие исследования сделать пока невозможно – из‐за отсутствия соответствующих баз. Но можно пойти другим путем и провести контролируемый эксперимент. Именно это решили сделать психологи из университетов Стэнфорда и Дьюка Крис Белл, Чип Хит и Эмили Стенберг[60]. Они тоже задались вопросом: почему городские легенды и слухи (а также фейковые новости), которые они называют мемами, так часто становятся успешными среди своих носителей? Авторы исследования считают, что легенды не отражают эмоции людей по поводу «трех С» (crisis, conflict, catastrophe), как это утверждается в рамках интерпретативного подхода, а, наоборот, производят эмоции, причем и положительные и отрицательные. Соответственно, мемы имеют успех, потому что успешно проходят эмоциональный эволюционный отбор. Для доказательства своей «теории эмоционального отбора» Крис Белл и его коллеги провели серию экспериментов, в ходе которых вниманию трех групп испытуемых было предложено три варианта популярной городской легенды о банке с газировкой, в которой некто находит дохлую крысу. Эти три варианта различались по степени отвратительности: если в облегченной версии потребитель обнаруживал крысу по странному запаху из банки, то в наиболее отвратительной версии крыса попадала ему в рот вместе с напитком. Большинство испытуемых выразили готовность распространять именно наиболее отвратительную версию. Данные этого эксперимента были подтверждены анализом сайтов-коллекторов городских легенд: выяснилось, что чем больше «отвратительных мотивов» содержит текст, тем на большем количестве сайтов он оказывается. Спустя тринадцать лет шведские психологи решили проверить эту идею. Их эксперимент с городской легендой подтвердил теорию эмоционального отбора мемов[61].
Но почему способность пробуждать эмоции оказывается эволюционным преимуществом легенды? Потому что успешные легенды с помощью такого свойства способствуют образованию социальной связи между людьми, которые эти эмоции разделяют. По сути, Крис Белл и коллеги экспериментально подтвердили наличие в обществе «социального клея», о котором писал социолог Эмиль Дюркгейм в начале XX века (правда, Дюркгейм говорил, что таким свойством обладают коллективные ритуалы).
Но возможно, за репостами и пересказами слухов стоят и другие психологические механизмы, не менее важные и не менее древние. В 2017 году исследователи из Массачусетского технологического университета Соруш Возоши, Деб Рой и Синин Арал проанализировали более 126 тысяч цепочек ретвитов («каскадов»), содержащих правдивые новости и фейковые, трех миллионов пользователей за одиннадцать лет наблюдений. Их результаты были ошеломляющими: статья вышла в Science – самом престижном научном журнале. Статистический анализ показал: для того чтобы дойти до 1500 пользователей, настоящим новостям требуется примерно в шесть раз больше времени, чем фейковым. И в двадцать раз быстрее фейковые новости дойдут до десятой по «глубине» цепочки ретвитов. В целом у фейковой новости шанс быть перепощенной на 70 % процентов выше, чем у настоящей. При этом наибольшей скоростью распространения и проникающей способностью обладают фейковые новости на политические темы или связанные с темой катастроф.
Но самый важный (для нас) вывод этого исследования – в другом. Его авторы говорят, что желание перепостить новость связано со стремлением людей к новизне, и это стремление настолько сильно, что с легкостью преодолевает сомнения по поводу «истинности – ложности». Кроме критерия новизны (novelty), на распространение фейковых новостей влияет еще и второй фактор – сила негативных эмоций. Чем сильнее негативные эмоции, которые вызывает фейковая новость (авторы замеряли «силу эмоций» по количеству комментариев, типа «ужас», «отвратительно»), тем больше вероятность, что ее перепостят. Эти результаты прекрасно коррелируют с теорией «эмоционального отбора» Криса Белла (хотя авторы обеих статей не читали друг друга).
Возможно, стремление распространять легенды и фейковые новости – это следствие эволюционного отбора? В ходе эволюции Homo sapiens в обществе растет навык кооперации и внимание к предупреждениям соплеменников об опасности: «Внимание, за тем холмом голодный лев». Эволюционный выигрыш, если ты последовал предупреждению и не был съеден, большой. Однако если это был розыгрыш, ничего особо страшного (кроме разбитой физиономии) не случится. Поэтому люди делятся самыми странными слухами и легендами по принципу: «А вдруг это правда и тогда я, первый предупредивший об опасности, – молодец».
Теория эмоционального отбора и теория важности нового знания предполагают, что распространение слухов и городских легенд есть следствие эмоциональных и когнитивных навыков, приобретенных в ходе эволюционной гонки. Однако мы не должны игнорировать тот факт, что даже при таком взгляде на трансмиссию фольклорных текстов очевидно, что люди распространяют слухи и легенды с разной готовностью. От чего могут зависеть личные предпочтения, когда ты думаешь – репостить или нет такой текст: «Максимальный репост!!! В кустах нашли ребенка с вырезанной почкой…»? Относительно недавно социальные психологи Роланд Имхов и Пиа Каролайн Лэмберти[62] провели серию экспериментов, в ходе которых запускали фейковые новости и конспирологические слухи в группы подопытных, а затем отслеживали, кто эти сюжеты распространяет. Исследователи пришли к выводу, что триггером распространения является запрос потенциального рассказчика на «уникальность». Те из подопытных, кто хотел «быть особенным», то есть стремился привлекать всеобщее внимание, но не чувствовал себя достаточно успешным в этом (не писал популярных постов, не мог похвалиться хорошей работой), гораздо активнее распространяли броские тексты, не задумываясь над их истинностью.
На страницах этой книги читатель еще неоднократно встретится с экспериментами когнитивных психологов, которые в течение последних двадцати лет ставили своей задачей понять, как люди распространяют конспирологические тексты (и, соответственно, городские легенды, в которые эта конспирология «завернута», как конфетка в обертку). О них мы будем говорить подробно в главах 2 и 3, а здесь мы бы хотели обратить внимание на крайне важное явление, обнаруженное в экспериментах: можно искусственно (правда, на очень непродолжительное время), за счет снижения чувства контроля, вызвать у людей стремление объяснять случайный набор фактов «теорией заговора»[63]. Другими словами, когнитивистам удалось воспроизвести ситуацию, благоприятствующую потенциальному распространению слухов и легенд.
Критика меметического подходаСторонники меметического подхода уподобляют городские легенды биологическим сущностям и, исходя из этой аналогии, утверждают, что стремление воспроизводить себя является имманентным свойством легенд. «Мем» в меметической теории ведет себя как самостоятельная сущность: им двигает слепое стремление к размножению, а люди, сами того не ведая, являются инструментами этого размножения. Для сторонников меметического подхода не важно, почему та или иная история вообще однажды появляется. Тем более они не стремятся понять, почему это происходит в определенное время и в определенном месте.
Вспомним, как теория «эмоционального отбора» объясняет распространение легенды про кока-колу с крысой внутри. Как и многие другие психологические теории, она неявно предполагает существование некоторой общей «человеческой природы»: люди устроены так, что стремятся распространять истории, вызывающие наиболее сильные эмоции. Между тем представления об отвратительном, то есть набор явлений и ситуаций, вызывающих соответствующую эмоцию, могут сильно меняться от одной культуры к другой. Где-то не вызывает отвращения крысиный хвост, а где-то никого не волнуют банки с газировкой. Даже в рамках одной и той же современной американской культуры в одном контексте оказывается более успешной история о крысе в банке с колой, а в другом – не менее отвратительная история о поваре из этнического ресторана, который добавляет в соус свою зараженную сперму.
Известные исследования в русле меметического подхода базируются, как правило, не на анализе живого распространения, а на анализе, сделанном в условиях лабораторного эксперимента. Когда же мы выходим за пределы лаборатории, то по-прежнему ищем естественные триггеры, которые запускают легенды. В условиях лаборатории этим триггером становится действие экспериментатора, который, например, вызывает у подопытных чувство потери контроля, а вот в реальных условиях выяснение причин существования легенды вне анализа социального контекста невозможно.
Операциональный подход: как воздействует легенда
В 1994 году политическая элита африканской страны Руанды, почти сплошь состоящая из представителей народа хуту, призвала устроить геноцид в отношении тутси – второй основной народности в республике. Масштабы последующей катастрофы были огромны, по разным источникам погибло от полумиллиона до миллиона тутси. В убийствах, избиениях и изнасилованиях участвовали и армия, и вооруженная милиция, но больше всего нападений было совершено гражданскими лицами. Внезапно взяв в руки мачете, мирные крестьяне шли резать соседей или участвовать в «праздниках изнасилования». Спустя двадцать лет экономист Дэвид Янагизава-Дротт решил выяснить[64], что повлияло на их поведение так сильно. Руандийский геноцид начался с того, что главная радиостанция начала называть тутси «вредителями», «тараканами» и «убийцами» (поводом для таких обвинений послужил сбитый самолет президента). Призывы к «убийству этих насекомых» поддерживались рассказами о том, как тутси только и ждут удобного момента, чтобы напасть на соседей-хуту, как они отравляют детей хуту и продают их на органы. Однако Руанда – горная страна, и хотя радио – это основный способ распространения новостей, однако далеко не все деревни находятся в зоне приема радиоволн. Янагизава-Дротт сделал карту покрытия руандийских деревень радиоволнами и выделил три категории: деревни, которые очень хорошо принимали радиоволны, деревни, в которых радио не ловилось, но которые находились рядом с теми деревнями, в которых был прием, и деревни, которые находились далеко от любых точек приема радиоволн. Далее он сравнил все три группы с количеством убийств тутси. Ответ был не самым тривиальным. Народное ополчение тех деревень, в которых радиоприемники ловили передачи достаточно хорошо, убивало на 7 % больше, чем в глухомани, однако жители из второй группы деревень (где радиосигнал не принимался, но рядом был большой поселок с радиоточкой) убили гораздо больше людей – на 23 %. Причина этого – в том, что жители снабженных радио деревень, услышав призывы убивать тутси, при общении со своими друзьями и родственниками из соседних поселков передавали им эти новости. Однако они не просто пересказывали государственную пропаганду, а подтверждали ее ссылками на свои страхи и рассказами про то, какие тутси негодяи и воры. Слухи и легенды о страшных врагах, передаваемые в режиме неформальной коммуникации (friend-of-a-friend), усиливали пропаганду, оправдывали нарушение моральных норм и легитимизировали право на насилие.
Такие случаи не единичны. В марте 1994 года разъяренная толпа в гватемальском городе Сан-Кристобаль до полусмерти избивает ни в чем не повинную американскую туристку[65]. Летом 2018 года жители небольшого мексиканского города Акатлан сжигают двух мужчин, приехавших за покупками из соседнего города[66]. Причиной насилия в обоих случаях послужила классическая городская легенда о краже детей на органы (organ theft legend), которая в первом случае распространялась устно и через публикации в местной прессе, а во втором – через WhatsApp.
Городские легенды многим кажутся забавными историями, которые способны вызвать веселый смех на вечеринке или ритуально напугать кого-то во время Хэллоуина. Но, как следует из приведенных выше примеров, они не всегда так невинны. Городские легенды могут быть очень опасными, поскольку в условиях паники очередной пересказ «достоверной» истории может подтолкнуть человека или группу людей к агрессии. Есть большое количество исследователей, которых не очень волнуют вопросы о том, почему возникают истории об отравленных джинсах или какие эволюционные механизмы в поведении человека отвечают за распространение таких историй. Однако для этих исследователей важен вопрос, как слухи и городские легенды воздействуют на социальную реальность и меняют ее. Совокупность работ, изучающих операционные возможности городской легенды в воздействии на действительность, мы назвали «операциональным подходом». Под таким «зонтом» мы объединили два направления исследований. Первое из них – это исследование феномена моральной паники социологами, второе – это открытый фольклористами эффект остенсии. Ниже мы кратко разберем основные находки, сделанные исследователями обоих направлений, и покажем, чем они важны для изучения советских легенд.



