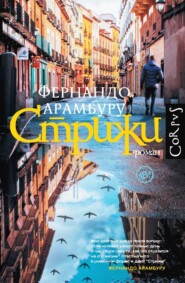скачать книгу бесплатно
Одна из женщин подняла рукав платья у девочки, стоявшей рядом с ней, и показала следы зубов моего сына на ее худенькой и бледной ручке. Потом язвительно спросила:
– Вы что, не кормите своего ребенка?
Более заметными, потому что более глубокими и, возможно, совсем недавними, были два ряда красных точек на ноге у пухлого мальчишки, которого другая женщина крепко держала за руку. Именно она обвинила меня в том, что я плохо воспитываю сына, поэтому он стал «бедой их детского сада», и она же пригрозила, что в следующий раз разговаривать со мной будет ее муж. Я хотел дать ей совет: надо, мол, научить мальчика защищаться, но на самом деле не знал, как с достоинством выйти из этой ситуации. Тем временем к детскому саду стали подходить и другие родители со своими детьми, а так как мы перегораживали дверь, им тоже пришлось задержаться рядом с нами. И кое-кто тут же вмешался в разговор, подтверждая, что Николас безо всякой причины обижает их детей. С высоты своего роста я посмотрел на сына и спросил:
– Это правда?
Когда я описал случившееся Амалии, она заплакала:
– Они хотят убедить нас, что наш ребенок – чудовище. – Потом, чуть придя в себя, добавила:
– А что мы будем с ним делать, когда ему исполнится лет пятнадцать?
Чтобы успокоить ее, но не слишком веря собственным словам, я сказал, что к тому времени он переменится, если мы постараемся правильно его воспитывать. И тут надо поднажать на общую культуру – это тоже должно сыграть свою роль.
Прошло несколько недель, как-то раз я вернулся из школы полумертвый от усталости, с головой, распухшей от школьного шума и гама. Мне хотелось немного отдохнуть, вздремнуть, чтобы хотя бы во сне отпилить бензопилой головы своим ученикам. Я застал Амалию в страшном расстройстве.
– Что случилось?
Жена только что разговаривала по телефону с директором детского сада, и та передала ей требование группы родителей: немедленно забрать оттуда Никиту. Но по-настоящему я встревожился, когда увидел, как Амалия наливает себе бокал вина, хотя время было совсем для того не подходящим.
С отчаянным видом она заявила, что мы больше не поведем сына в «этот гадюшник». Потом залпом выпила вино, словно пытаясь затушить бушевавший внутри пожар. Я возразил: если мы решим перевести сына в другой садик, нам наверняка придется снова долго стоять в очереди. И надо будет каждый день оставлять Никиту с ее родителями или с моей матерью, что обернется новыми сложностями.
– Дай мне подумать, – сказала Амалия, потом твердым шагом, стуча каблуками, двинулась с новым бокалом вина в свою комнату и заперлась там.
На следующий день мы все втроем явились в детский сад раньше обычного. На сей раз не было никакой монетки, я взял Никиту на руки, и вниз мы спустились по лестнице. Амалия шла следом за нами, она сильно нервничала и поэтому попросила, чтобы разговор с директрисой я взял на себя. Я весьма сдержанно заявил этой даме то, о чем мы с женой договорились еще дома: обязанность детского сада – применять педагогические меры, чтобы исправить плохое поведение нашего сына, а также в случае необходимости защищать от него других детей. Мы не станем забирать Никиту из садика, а если понадобится, без малейших колебаний воспользуемся услугами юристов.
Со слов одной из мамаш, с которой мы поддерживали дружеские отношения, какое-то время спустя нам стало известно, что воспитательницы частенько отделяли Никиту от остальной группы. Видимо, таким образом они старались уберечь детские руки и ноги от его укусов, а также утихомирить самых возмущенных родителей.
Мы с Амалией, откровенно говоря, восприняли эту новость равнодушно.
– Так он скорее научится вести себя как положено, – заявила моя жена.
– По мне, так пусть его хоть к батарее привязывают, – ответил я.
6.
По случаю четырехлетия тесть с тещей подарили Никите металлическую коробку с цветными карандашами фирмы «Альпино». И у меня самого, и у Амалии в детстве были карандаши той же марки, правда, помещались они в картонной коробочке, которая быстро рвалась. Мы с женой в один голос одобрили такой подарок. В нашей жизни были, пожалуй, подарки и получше, но сейчас эти карандаши воспринимались как самая отрадная метка в нашей эмоциональной памяти, поэтому нас порадовало, что сын получил такие же, какими когда-то мы с таким упоением рисовали.
Едва Никита успел содрать обертку, мы с Амалией, словно впав в детство, почувствовали искушение схватить по карандашу, чтобы испробовать их хотя бы на краешке листа. Но ведь подарок предназначался сыну, и мы запретили друг другу брать то, что нам не принадлежало.
Мой тесть, как и следовало ожидать, решил использовать ситуацию в воспитательных целях. Он сел рядом с Никитой за стол и начал произносить названия цветов, чтобы внук повторял их следом за ним. При этом то и дело поглядывал на нас, словно говоря: «Теперь вы понимаете, как надо обращаться с ребенком?» Потом решил изменить правила игры. Например, говорил:
– Ну-ка, дай мне оранжевый карандаш.
И мальчик действительно давал оранжевый. Так повторялось несколько раз, и Никита каждый раз делал все правильно, но вскоре начал хватать карандаши наобум. Игра ему явно наскучила. Он больше не мог заставить себя сосредоточиться, а дед с той же скоростью терял терпение и называл малыша тупицей, не обращая внимания на наше присутствие. Амалия резко его одернула, и старик, оскорбившись, заперся у себя в комнате и даже не захотел выйти и проститься с нами, когда ему сказали, что мы уходим.
Несколько дней спустя Амалия обнаружила, что Никита самым варварским манером обгрыз все карандаши. А некоторые еще и переломил. Чтобы хоть как-то защитить его, но в глубине души сильно огорчившись, я рассказал Амалии, будто в детстве тоже любил грызть карандаши, а с еще большим удовольствием – ластик, правда, делал это не так остервенело, как наш сын. Просто своими яркими цветами карандаши напоминали мне сладкие фрукты, жвачки и прочую ерунду, к тому же меня неудержимо манил запах дерева. А вот Амалия была очень послушной и разумной девочкой, она никогда не ломала и не грызла карандаши и уж тем более не путала их с чем-то вкусным. Однако мое признание, что ребенком я делал то же самое, что и Никита, ее успокоило. Она всегда придерживалась мнения, что мы, мужчины, с самого раннего возраста склонны совершать глупости и разрушать все подряд и это неотъемлемая часть нашей хищнической природы. Иными словами, мы глупы от рождения – что неисправимо.
Амалия, конечно, считала себя кладезем премудрости, но не знала только одного: в детстве я никогда не грыз карандашей, как бы мне этого ни хотелось, не грыз по той простой причине, что этого никогда не допустили бы мои родители. Мама надавала бы мне затрещин, а отец свел бы наказание к одной-единственной, но куда более чувствительной, чем все мамины, вместе взятые.
7.
Уже через год после свадьбы на нашу спальню опустился ледниковый период, что, по словам Хромого, рано или поздно бывает с любой супружеской парой.
– А не слишком ли рано в моем случае, как ты думаешь? – спросил я.
Он рассмеялся.
Именно в это время я почувствовал, что в постели жена стала вести себя холоднее, хотя, возможно, началось это и раньше, просто я не желал ничего замечать, пока не подтвердилась ее беременность и она не отлучила меня от своего тела. Правда, потом, через некоторое время после рождения Никиты, снова стала подпускать к себе, но все реже и реже, и держалась вяло, словно выполняя постылую обязанность. Мне, само собой, никогда не доводилось совокупляться с трупом, но стоит вспомнить безразличие и апатию Амалии, когда она лежала на спине с едва раздвинутыми ногами, как я легко представляю себе, что такое некрофилия. «Ты кончил?» – был ее обычный вопрос, как только она чувствовала, что мой натиск ослабевал.
Узнав о своей беременности, Амалия тотчас объявила мне таким тоном, словно зачитывала судебное постановление, что пока любовью мы заниматься не будем. И привела аргумент, показавшийся мне убедительным. Жена боялась, как бы внутрь к ней не проникла какая-нибудь инфекция, которая может повредить либо плоду, либо ей самой. А я мечтал стать отцом и быть хорошим мужем, поэтому не только с пониманием отнесся к ее доводам, но и безоговорочно принял их в надежде, что после рождения нашего ребенка мы снова обретем вкус к постельным играм, а также вспомним привычку доставлять друг другу удовольствие. Я полагал, что, уважительно относясь к жене, тем самым гарантирую себе ее любовь. Это была моя роковая ошибка.
На самом деле в те дни закончилось то, что было лишь имитацией физического влечения, великолепно разыгранного Амалией. Сегодня у меня на сей счет почти не осталось сомнений. За шестнадцать лет нашего брака произошло много всякого, но именно этот обман мне труднее всего простить. Будучи женщиной расчетливой и прагматичной, Амалия выбрала меня, преследуя двойную цель: получить не только сперматозоиды, гарантирующие ей материнство, но и простофилю, который будет помогать растить выношенное ею дитя. Она без труда добилась своего: хватило минета в лиссабонской гостинице, чтобы я попал в ее сети.
Случались ночи, когда я буквально умолял Амалию о близости и тем самым, не сознавая того, только углублял ее презрение, поскольку в глазах жены превращался в лишенную собственного достоинства и характера куклу, готовую за несколько мгновений наслаждения заплатить часами и даже днями унижений.
Мучат ли меня подобные воспоминания? Еще как мучат, черт побери, но тем сильнее я испытываю потребность под конец жизни вычерпать всю грязь, скопившуюся у меня внутри. Не желаю быть похороненным вместе с ней, хочу примириться с самим собой и в последние минуты почувствовать себя душевно чистым.
Однажды ночью, когда меня особенно сильно разобрало, мы с Амалией чуть не поссорились. Правда, до серьезной размолвки дело не дошло, потому что я, к счастью, вовремя сдал позиции – у меня, видимо, хватило на это здравого смысла, поскольку я сам испугался того, как неудержимо мне захотелось разбить жене лицо в кровь. Другой на моем месте, скорее всего, и вправду ударил бы ее, но я на такое не способен. Я вообще никому не могу причинить боль. И не хочу быть похожим на своего отца, который считал материнскую вагину своей собственностью и никогда бы не позволил, чтобы мать в чем-то ему отказала или его ограничивала из желания добиться невесть каких уступок, а то и вознаграждений.
По взаимному соглашению мы с Амалией стали спать отдельно. Теперь-то я понимаю, каким был дураком. И навным идиотом. И размазней. Мне казалось, что будет правильно, если я не стану нарушать ее ночной покой своим храпом. Она беременна. Скоро у нее вырастет живот. Надо делать все возможное ради здоровья жены и нашего будущего ребенка. И я настолько был в этом убежден, что не только принял доводы Амалии, но и заставил себя пойти на куда большие жертвы, чем требовала она. Знать бы тогда…
8.
Амалия, сидя на диване, кормила грудью нашего полуторамесячного сына. Я готовил на кухне ужин. В ту пору мои навыки обращения с кастрюлями и сковородками можно было назвать весьма скромными, что не мешало мне почти ежедневно исполнять обязанности повара. И еще ходить по магазинам. И еще мыть посуду, пока мы не купили посудомоечную машину. Амалия считала одним из своих главных прав требование разделять между нами домашние обязанности, и это была ее навязчивая идея, о чем она забыла предупредить меня до свадьбы. Правда, я не был тем пресловутым комедийным персонажем, который вечно путает соль и сахар. Я изо всех сил старался, набирался опыта, делал явные успехи и, пожалуй, даже с удовольствием взял бы на себя многие повседневные заботы, если бы потребность в физической любви не заставила меня очень явственно и остро осознать, что я стал жертвой обмана.
В воспоминаниях я вижу, как режу кружками баклажан, пользуясь длинным ножом, который любил, хотя он и был неудобным, потому что нож входил в кухонный набор, подаренный нам мамой. Я собирался обвалять кружки баклажана в панировке и поджарить, чтобы подать вместо мяса и рыбы, от которых Амалия стала отказываться, прочитав несколько статей с описанием процессов производства продуктов питания. Теперь, кстати сказать, она нередко рассуждает на эту тему в своей программе на радио.
Я зачем-то ей понадобился, и она меня позвала. Войдя в гостиную, я увидел жену сзади: она сидела, прижав голову ребенка к груди. Красивые длинные волосы волнами падали на плечи. Она была по пояс голой и выглядела очень хрупкой: нежные изгибы спины, тонкие руки – все это обычно вызывало у меня прилив огромной нежности. Амалия всю себя отдавала процессу кормления, главным для нее в тот миг было покрепче прижать к себе младенца, ни на что другое она не обращала внимания, а у меня вдруг разыгралась кровь. Признаюсь, что был готов на все, лишь бы занять место сына и жадно прильнуть к ее груди. В голове у меня вихрем закрутились эротические картинки, и я едва не потерял над собой контроль. До чего красива была эта ледяная статуя, притворившаяся женщиной! Я остановился в двух-трех шагах от нее и только тут заметил, что принес с собой нож. Внезапная мысль затуманила мне мозги, хотя и всего на несколько секунд, но и этого было достаточно, чтобы с жуткой отчетливостью представить себе, как я сзади кидаюсь на жену и ребенка и безжалостно закалываю их. Амалия успевает коротко вскрикнуть от неожиданности, прежде чем нож входит ей в горло, бедный ангел ничего не понимает.
Голос Амалии заставил меня очнуться от кровавой фантазии. Не поворачивая головы, она спокойным тоном попросила достать для нее из холодильника йогурт, чтобы он был не слишком холодным.
И вот теперь я задаюсь вопросом: все эти преступления против женщин или мужское насилие, назовите как угодно, о которых часто сообщает пресса, вызваны внезапным помрачением рассудка, или хладнокровно планируются, или существует некое другое объяснение, до которого мне, собственно, нет никакого дела?
Вернувшись на кухню, я с ужасом понял, что изо всех сил сжимаю в руке нож.
9.
Родители Амалии пригласили нас пообедать в «Каса Доминго», ресторан, расположенный неподалеку от их дома и оформленный в старом стиле. Мы что-то ели, что-то пили – для нынешних моих воспоминаний гастрономические подробности значения не имеют. Теща не стала скрывать, что в ресторан они нас позвали, чтобы не тратить времени и сил на готовку. Тесть не упустил случая произнести обычную гневную речь, направленную против Фелипе Гонсалеса[5 - Фелипе Гонсалес Маркес (р. 1942) – председатель правительства Испании (1982–1996).]и его правительства. Амалия, которая тайком от отца неизменно голосовала за социалистическую партию, не спорила с ним, но и не поддакивала.
Обычно мне удавалось не больше трех минут с некоторым даже сочувствием выносить фанатизм старика, идеологически застрявшего в эпохе, когда, по его мнению, у нас царили порядок, закон и единство нации. В эти три минуты его праворадикальный монолог потешал меня, как могут потешать обезьяньи гримасы. Потом запасы моего терпения иссякали, а замшелые речи тестя начинали сильно утомлять, вгоняли в сон и одновременно вызывали неукротимое желание швырнуть что-нибудь ему в морду (не знаю, салфетку или мою порцию салата оливье), и тем не менее я не мешал ему – вернее, мы не мешали ему – наболтаться в свое удовольствие, выплеснуть наружу все эти глупости, фобии и зловещие предсказания, чтобы потом наконец спокойно заняться едой.
По дороге в ресторан мы забросили Никиту к моей маме – отчасти желая избавиться от его плача и капризов, отчасти потому, что тогда в общественных местах еще позволялось курить, и нам с Амалией не хотелось отравлять малыша табачным дымом, нашим собственным или чужим. По той же причине мы не курили у себя в квартире – или высовывались в окно, если было не слишком холодно, или выходили на лестничную площадку, пользуясь тем, что живущей напротив соседке было уже почти девяносто лет, поэтому она мало что замечала и практически не покидала своего жилища.
Хорошо помню короткую сцену, случившуюся во время все того же обеда с родителями Амалии. Мы вчетвером занимали столик в глубине зала, Амалия сидела напротив меня. Я бы предпочел, чтобы жена сидела рядом, справа или слева, потому что она то и дело пинала меня под столом ногой, чтобы я помалкивал, а удары, нанесенные сбоку, получались бы менее болезненными.
И вот в какой-то миг, когда тесть настаивал, что пора сменить правительство или, допустим, даже политический строй – с помощью военных или без военных, я посмотрел Амалии прямо в глаза, а она посмотрела в глаза мне, я улыбнулся, и она тоже улыбнулась, хотя теперь я затрудняюсь сказать, кто улыбнулся первым, а кто лишь ответил улыбкой на улыбку. А может, так получилось совершенно случайно. Простое совпадение. В моем взгляде и моей улыбке таился молчаливый вызов, даже отвращение, и она, я уверен, сразу это уловила, если, конечно, незаметно не наблюдала за мной уже какое-то время, читая мои мысли, как в открытой книге. Вне всякого сомнения, она поняла то, что я без слов говорил ей. В выражении ее лица сразу же соединились высокомерие и грозная холодность. Думаю, если бы в тот миг передо мной поставили зеркало, я бы увидел на своем лице ту же гримасу.
Она все знает, решил я. Она умная женщина, она догадалась и дает мне понять, что ей наплевать на мои поступки и мои секреты. Дело в том, что пару дней назад я впервые побывал в борделе в районе Ла-Чопера. Но отправился туда не один. Один бы я пойти в бордель не решился. Хромой, у которого в ту пору обе ноги еще были целы, считал себя экспертом по этой части и хорошо знал нужное заведение. Он вызвался быть моим гидом. По дороге Хромой объяснял, как следует себя вести с проститутками. Первая, выскочившая невесть откуда, повела себя со мной почти агрессивно. Друг знаками дал понять, что она мне не подходит. Я его послушался. И вскоре завел беседу с другой женщиной, которая на вид была не хуже и не лучше первой, но на сей раз Хромой кивнул одобрительно.
Он, кстати сказать, был убежден, что проституция спасает браки. Вполне возможно, что мне она действительно помогла выдерживать супружескую жизнь на протяжении почти пятнадцати лет. Но я не располагаю достаточными фактами, чтобы признать безусловно справедливой его гипотезу. Тем не менее я твердо уверен, что почувствовал освобождение, перестав зависеть в этом плане от капризов Амалии.
10.
Наступил первый день нового учебного года – и последнего для меня, о чем известно только нам с Хромым (хотя не знаю, верит он мне или нет).
Мысль, что я больше не приговорен до самой пенсии вести уроки, подняла мне настроение. Во время занятий я был как-то непривычно весел. Словно совсем другой человек, с совсем другим характером, выселил меня из собственного тела, надел его на себя, как надевают рабочий комбинезон, и начал вести уроки, сделав их более дельными, а объяснения – более яркими и остроумными, что мне совсем не свойственно. Расхаживая по классу, я задавался вопросом: «Что со мной происходит? Откуда эти вспышки эйфории, это красноречие, эта уверенность в своих силах?» Мне даже удалось несколько раз рассмешить учеников. Не только они, но и я сам не подозревал, что обладаю чувством юмора.
Единственное, что с некоторых пор и до сегодняшнего дня привлекало меня в учительской работе, это жалованье. После самого первого этапа, когда я был в своей профессии новичком, полным иллюзий и желания делать дело как можно лучше, очень скоро я решил не принимать учеников всерьез и стал относиться к ним с презрением. Да и по-прежнему не принимаю их всерьез (иными словами, мне безразлично, научатся они чему-нибудь или нет), зато сегодня, по крайней мере сегодня, я их не презирал. Мне даже захотелось сесть среди них, хотя обычно я стараюсь соблюдать дистанцию, особенно с девочками, у которых почти оформилась грудь и которые в своих коротеньких по нынешней моде брючках распространяют вокруг запах духов и вызывают к себе отчетливо эротическое влечение.
Сегодня все было немного не так, как обычно бывает в начале учебного года. Я смотрел на учеников с симпатией, если не с нежностью, а ведь она вспыхивает у меня в глазах, только когда по дороге в школу я слежу за полетом стрижей в утреннем небе. Стрижей я обожаю. Они летают без отдыха, свободные и усердные. Иногда я смотрю в окно на тех, что устроили свои гнезда под коробками кондиционеров в доме напротив. Скоро, как и каждый год, они полетят зимовать в теплые страны. Если ничего не изменится и моя жизнь покатится по намеченному пути, будущей весной, к их возвращению, я еще буду здесь.
Посмотрим.
11.
Я умру, не совершив за всю свою жизнь ни одного убийства. Правда, не знаю, убить другого и убить самого себя – это одно и то же? Во сне я вижу, как некий член верховного суда с опущенным на лицо капюшоном дает мне в руки автомат и следом зачитывает приговор, согласно которому я должен в течение двух часов уничтожить какого-нибудь человека – любого по своему выбору. Я начинаю отказываться, ссылаюсь на свои моральные принципы, всеми силами сопротивляюсь, но ничего не помогает. Либо я выполню приказ, либо меня подвергнут диким пыткам, а затем сожгут живьем. А так как я по-прежнему не соглашаюсь, два тюремщика волокут меня в зловонную камеру. Но прежде чем они захлопнут дверь, я говорю, что уже выбрал жертву. Они хотят знать, о ком идет речь, и предупреждают: «Не вздумай тянуть время, все эти фокусы нам знакомы». Я отвечаю, что согласен выстрелить в директрису школы, в которой служу. Когда я выхожу из машины на отведенной для учителей стоянке, мне кажется, что настроение у меня просто великолепное, – я даже позволяю себе какие-то шуточки. Тюремщики недоверчиво переглядываются, но постепенно мой юмор их заражает, и они начинают хохотать во всю глотку.
В то утро директриса поздоровалась со мной, скрывая под чопорной миной презрение, которое я ей внушаю, я же ответил на ее приветствие с ледяной вежливостью, пряча за ней свою ненависть. Моя рука в кармане пиджака превратилась в пистолет, и я выпустил полдюжины пуль прямо в живот директрисе, так что она даже не успела понять, что происходит.
Уже давно я в своих отношениях с моей главной начальницей следую одной тактике: держаться как можно дальше от поля ее деятельности. Понимаю, что она простая чиновница с весьма ограниченной властью, однако проявляет завидные ловкость и упорство, когда надо испортить жизнь своим подчиненным. Понимаю и молчу, а если хочу позлословить на ее счет, что случается нередко, то стараюсь делать это так, чтобы до ушей директрисы мои отзывы не дошли. Другие учителя, до ужаса отважные, пытались возмущаться и в глаза говорили ей все, что о ней думают, но в результате только ухудшили ситуацию. Она женщина вредная и злопамятная. Я, например, именно ее должен благодарить за свое предельно неудобное расписание, которое и в этом году не стало лучше. А если оно чуть изменилось, то исключительно в худшую сторону. Я по-прежнему остаюсь жертвой постановления 2013 года, которым правительство Мариано Рахоя[6 - Мариано Рахой Брей (р. 1955) – испанский политический и государственный деятель, лидер Народной партии с 2004 г., председатель правительства Испании (2011–2018).]исключило из списка обязательных дисциплин историю философии, переведя ее в число дополнительных для второго года бакалавриата. Зато я должен для заполнения расписания преподавать предмет под названием «введение в предпринимательскую деятельность». Постановление ударило не по мне одному. Моя коллега, например, вынуждена преподавать три якобы сходных по смыслу предмета. И она имела наглость, или нахальство, или преступное бесстыдство попросить директрису отправить ее на специальные курсы и получила ответ: «Занимайтесь дома сами». С тех пор они стали врагами.
Таким образом я вынужден учить ребят вещам, в которых не слишком сведущ (не слишком сведущ? – ха-ха-ха, я в них ни черта не понимаю) и которые считаю вообще никому не нужными. И делаю это из-за жалованья.
12.
Завершив рабочий день, я хватаю портфель и спешу к выходу, но в коридоре слышу сзади обращенный ко мне голос. Это отец одной моей ученицы – из числа тех, что хорошо учатся из трусости, а не благодаря особому уму. Тон у него резкий, и я не только по этому тону, но и по выражению лица понимаю, что он остановил меня, чтобы высказать какие-то претензии или жалобы. Трудно заранее угадать, что ему от меня нужно. Сегодня только третий день учебного года, и, насколько мне известно, никаких конфликтных ситуаций на моих занятиях пока не случилось. А до экзаменов и выставления итоговых оценок еще далеко. Почему он буквально кипит от возмущения? Чем я заслужил такой гнев? Неужели среди учеников произошла серьезная ссора, а я ничего не знаю?
Мужчина был явно моложе меня, он держал в руке книгу, заложив палец между страницами. Господи, знал бы он, как я голоден и как хочу спать… Он показал мне нужное место, но без очков для чтения я мог разглядеть там только портрет Карла Маркса. Догадываюсь, что речь идет о введении в философию XIX века, совершенно пустом тексте, где несколько абзацев посвящено диалектическому материализму. Не терпящим возражений тоном, почти на грани истерики мужчина сообщает, что считает себя настоящим испанцем и настоящим гражданином, который заботится о сохранении национальных ценностей, поэтому он не позволит, чтобы его дочери внушали идеи, вступающие в противоречие со взглядами их семьи. Он формулирует свои требования более чем ясно. Я должен заранее поставить его в известность, когда намерен посвятить урок марксизму – в этот день их дочь останется дома. Потом добавляет, что о нашем разговоре не обязательно ставить кого-то в известность. Мало того, если ко мне явится его жена и скажет нечто противоположное, я не должен принимать ее слова во внимание, поскольку ответственность за воспитание их девочки несет в первую очередь отец, это для него главное в жизни, и за дочь он готов, если понадобится, даже жизнь отдать.
Он что, сейчас разрыдается?
Я слишком устал, чтобы вступать в спор с этим придурком. Поэтому решаю вести себя цинично и хлопаю его по плечу со словами:
– Не беспокойтесь. Я вырву из учебника указанную вами страницу. Мне она тоже не нравится. Только прошу, никому об этом не говорите.
Разумеется, никакую страницу я вырывать не собираюсь. Хотя, может, и вырву. Зависит от обстоятельств… А вообще-то, мне на все это плевать.
На самом деле то время, которое мне осталось прожить, я мог бы обойтись и без жалованья. На Никиту уже не уходит столько, сколько уходило раньше, а своих сбережений мне хватит, чтобы спокойно дотянуть до лета. Тогда какого черта я хожу на работу, которая меня так раздражает? Почему я должен терпеть стычки вроде сегодняшней?
Но если я не понимаю самых простых вещей, то смогу ли понять вещи более глубокие?
У меня ни на что нет ответов.
Ни на что.
13.
В такие дни, как нынешний, человек чувствует себя настолько чистым от скверны, что ему хотелось бы иметь в груди душу – некое внутреннее пространство, по которому струятся незамутненные потоки доброты, или, если описать это иначе, некий невидимый храм, расположенный между прочими органами, храм, где можно отпраздновать события, подобные небывалой моральной победе, которую я одержал сегодня. А все дело в том, что вчера вечером, вместо того чтобы готовиться к занятиям (а не надеяться в очередной раз на старые конспекты и общие задания), я застрял в социальных сетях. И таким образом узнал, что в прошлое воскресенье водяной смерч погубил муниципальную библиотеку в городке Себолья провинции Толедо, о существовании которого я даже не подозревал. Смешанная с грязью вода уничтожила, кажется, восемьдесят процентов имеющегося там фонда. Хорошие люди тотчас открыли кампанию по сбору книг для библиотеки. Движимый внезапным зудом солидарности, я в час ночи пошел на кухню, отыскал там картонную коробку, наполнил ее самыми ценными из найденных на полках книг и днем отправил их почтой в Себолью. Как только мы вышли на улицу, Пепа несколько раз лизнула мою ладонь, и смею подозревать, что ее привлек запах благородства, исходивший от моей кожи. Я почувствовал себя хорошим человеком, еще лучше того, что оставил двухтомник Хиршбергера на площади в Вальдеморильо. По дороге домой я ощущал легкое щекотание у себя на макушке, и это наверняка было результатом прикосновения к коже моего личного венца святости. Жаль, что не случилось рядом зеркала, чтобы полюбоваться на него. Когда я попал домой, венец уже исчез. Думаю, нимб оказался плохого качества – и батарейка быстро разрядилась.
14.
Сегодня утром мы в учительской вспоминали Марту Гутьеррес. Ничего особенного, какие-то слова под кофе с бутербродами в ожидании, пока звонок снова призовет нас в классы. Не знаю, с чего начался разговор. Когда я вошел, несколько давно работающих в школе преподавателей уже говорили о покойной коллеге. Каждый припоминал какие-то связанные с ней истории, какие-то ее высказывания, и тон у всех был очень сердечный и окрашенный легкой грустью, хотя мне их печаль показалась наигранной. Только ради того, чтобы поучаствовать в общей беседе, я вспомнил необычную манеру Марты размешивать ложечкой кофе в чашке. Но никто вроде бы не заинтересовался этой деталью. Никто не поспешил подтвердить, что замечал нечто подобное.
А я представляю себе тот же круг преподавателей, которые, жуя бутерброды, будут год спустя говорить обо мне: «Он был хорошим человеком, правда, немного странным». Или: «Да, у него были свои причуды, а у кого их нет?»
Сейчас я вспоминаю то утро, когда я видел Марту Гутьеррес в последний раз. Я, как обычно, нагонял скуку на своих учеников, и тут дверь в класс открыла девушка, по лицу которой сразу стало понятно, что случилось что-то серьезное. Я кинулся за ней следом в соседнюю комнату. Марта лежала на полу, никого из учеников рядом не было, все тихо сидели по своим местам, боясь подойти к преподавательнице, у которой вдруг ни с того ни с сего подкосились ноги. Марта была в сознании, с одной ноги слетела туфля, очки валялись в метре от нее. Я склонился над ней, не зная, как поступить, и чувствуя, что оторопелые взгляды учеников следят за мной и ждут, чтобы я хоть что-нибудь сделал. Марта сказала мне шепотом, словно желая, чтобы больше никто ее не услышал, что не может пошевелить ногами. Я отправил двух ребят вниз и велел вызвать скорую. Потом снял с себя свитер и положил Марте под голову вместо подушки. Я почувствовал запах духов и увидел золотой крестик на полной шее. Попросил учеников выйти в коридор, а кого-то одного – открыть окно, подумав, что немного свежего воздуха пойдет Марте Гутьеррес на пользу. Когда мы остались вдвоем, она сказала сдавленным голосом:
– Позвони моей маме.
В аудиторию вошли еще какие-то преподаватели, а с ними наш тогдашний директор, гораздо более гуманный, чем сегодняшняя тиранша. Понятно, что уже вся школа успела всполошиться. Я не отходил от своей приятельницы и продолжал с ней говорить в надежде, что она не потеряет сознания до приезда врачей.
Марта Гутьеррес скончалась той же ночью в больнице.
Она была хорошим человеком и сильно мне помогла, особенно когда я только начал работать. У нее были свои причуды, а у кого их нет?
15.
Иногда мы с Пепой совершаем длинные прогулки. Собака должна двигаться, я тоже. Сегодня мне взбрело в голову подойти к берегу Мансанареса неподалеку от Матадеро – я надеялся увидеть там последнего в нынешнем сезоне стрижа. За последние несколько дней в нашем районе я не заметил ни одного. И подумал, что, возможно, рядом с рекой они еще остались. До будущей весны стрижи к нам не вернутся. Они бросили меня одного среди человеческой толпы, которая подавляет меня и выводит из себя. Я где-то читал, что стрижи улетают за Сахару, в Уганду и дальше, проводя большую часть своей жизни в воздухе. Именно этого и желал бы я сам: не ступать на землю и ни с кем не соприкасаться. Если бы мне было позволено выбирать – родиться человеком или стрижом, то, взвесив все за и против, я выбрал бы второе. Говорю это совершенно серьезно. Сейчас я ловил бы насекомых в африканском небе, вместо того чтобы дышать автомобильными выхлопами и позволять, чтобы мне изо дня в день трепали нервы в школе. Вот ведь прекрасная жизненная философия: вылупиться из яйца, бороздить небо в поисках пропитания, взирать на мир сверху, не терзаясь экзистенциальными вопросами, ни с кем не разговаривать по принуждению, не платить налоги, не оплачивать счета за электричество, не воображать себя венцом творения, не изобретать всякие тешащие наше самолюбие понятия вроде вечности, справедливости и чести, а потом, когда придет твой час, спокойно умереть – без помощи врачей и без похоронных ритуалов. Все это я изложил Пепе, пока мы с ней лежали на траве, что, конечно, не равноценно полету, но все равно приятно, особенно в такой теплый день, как сегодня. И Пепа выражала свое согласие с каждым моим словом, что я понял по ее взгляду и высунутому языку. А раз она со всем согласна, то стоит ли обсуждать это дальше?
16.
В тот день была одна важная новость, которую не отметили газеты. У Хромого язва наконец-то затянулась коркой. Однако он не решается содрать ее, боясь, как бы вновь не началось воспаление. И с нетерпением ждет, пока корка отвалится сама собой. Мой друг уже две недели накачивается антибиотиками. Счастливый Хромой с облегчением показал мне свое бедро, зайдя между двумя мусорными контейнерами, стоявшими на тротуаре в ряд с другими. Теперь рана выглядела гораздо лучше. Заметно уменьшилась, не требовала повязки, к тому же исчезло красноватое кольцо, окружавшее ее в тот раз, когда он, трясясь от страха, демонстрировал мне свою болячку после возвращения из отпуска. Я искренне поздравил его и пожелал еще долгие годы наслаждаться богатством и всякими удовольствиями. Хромой в ответ назвал меня кретином, после чего остановил такси, решив угостить кретина хамоном на Королевском рынке на Гран-виа, где я в свои пятьдесят четыре года и Хромой, которому было на пару лет больше, казались в толпе юнцов старыми дедушками.
Там было шумно и тесно. Хромой достал из пиджачного кармана газетную вырезку. Так как мы с ним не виделись целую неделю, он берег ее для меня со дня публикации заметки в «Паис», то есть с прошлого вторника. Со злым огоньком в глазах он сообщил, что речь идет об инициативе, выдвинутой нашим министром здравоохранения буквально за несколько дней до отставки. Газета сообщила об этом предложении весьма кстати – по случаю Международного дня предотвращения самоубийств, который отмечался накануне. А я и знать не знал, что существует такой День. Теперь вот узнал, но это оставило меня равнодушным.
– И напрасно, поскольку тебя это касается напрямую. Ведь теперь целая армия работников будет проходить специальную подготовку, чтобы сорвать планы типов вроде тебя, которые всерьез задумали свести счеты с жизнью.
«Ну и что мне с ним теперь сделать? – подумал я. – Дать в морду? Развернуться и уйти? Поцеловать в губы?»
На самом деле эта дама-министр, пробывшая на своем высоком посту лишь несколько месяцев (причиной отставки стали нарушения, допущенные ею при получении магистерской степени), собиралась запустить программу, направленную на то, что она назвала «решением одной из проблем в сфере государственного здравоохранения». Полагаю, ее сменщица продолжит начатое той дело. Между тем Хромой с явным удовольствием зачитал мне статистические данные о самоубийствах в Испании. Цифры в процентах я не запомнил, уяснив себе только, что у нас они ниже среднемировых.
– Даже в этом мы отстаем от других, – заметил я.
А потом задумался: как, интересно знать, они собираются отговаривать меня исполнить задуманное? Умаслить, дав денег из государственного кармана? Засунуть в психушку? Или станут засылать ко мне домой каждое утро какого-нибудь барда, чтобы он пел «Спасибо тебе, жизнь!»? Но Хромой меня не слушал. Он увлекся газетной заметкой. И я попросил официанта принести нам еще по пиву.
Министерская программа направлена на раннее обнаружение признаков того, что сами они на своем казенном языке называют «формированием идеи суицида», для чего требуется участие людей из близкого окружения будущего самоубийцы.
– Получается, что, если ты им не настучишь, – заявил я, – они никак не смогут меня вычислить.
Моя мама медленно увядала в своих сенильных сумерках. Мой брат с удовольствием помог бы мне поскорее убить себя. Моя бывшая жена откупорит бутылку кавы, получив чудесное известие о моей трагической кончине. Мои коллеги по школе, возможно, потратят во время перемены минуту-другую на разговор обо мне. Мой сын постарается в первую очередь узнать, что я оставил ему в наследство, и вряд ли его заинтересует что-то еще. Таким образом министерство не может рассчитывать на меня в погоне за снижением статистических данных по самоубийствам.
А еще Хромой рассказал о существовании Испанского общества суицидологии, созданного также для предотвращения самоубийств. Согласно рекомендациям Общества, мы должны с особым вниманием относиться к любому человеку из нашего окружения, на лице которого вдруг отразится желание выброситься из окна. Если рассуждать здраво, то вовремя принятые меры, пожалуй, могут и сработать, но только когда речь идет о подростках. А вот начиная с определенного возраста человеку никто не помешает совершить нечто подобное – ни министры, ни психологи с хорошо подвешенным языком.
– Кроме того, чем больше они будут стараться разубедить человека, тем крепче он уверится в правильности своего выбора, – сказал я Хромому.
Автор заметки также пишет, что, как правило, самоубийцы не принимают решение с бухты-барахты. И я сообщил Хромому, что полностью с этим согласен. Под конец мы с ним обсудили судьбу тех несчастных, которые прыгали вниз с башен-близнецов в Нью-Йорке, чтобы не погибнуть в огне. По-моему, их поведение нельзя считать самоубийством, поскольку они делали выбор не между жизнью и смертью, а между быстрой и медленной гибелью, между более и менее мучительной. Хромой с ехидной миной назвал меня философом и заказал нам еще по пиву.