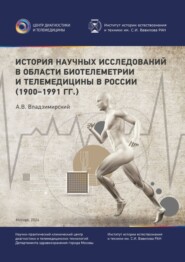
Полная версия:
История научных исследований в области биотелеметрии и телемедицины в России (1900–1991 гг.)
И здесь можно говорить о появлении «зоны обмена» второго уровня – зоны взаимодействия микро- или макрообъединения и профессионального сообщества; в ее рамках знания и методики в области биотелеметрии воспринимаются и внедряются в практическую научную и клиническую деятельность иных коллективов, учреждений.
Утверждаем, что в каждом конкретном случае «зона обмена» второго уровня может оказаться условно «положительной» или «отрицательной» («гумбольдтовской» или «негумбольдтовской»49). В первом случае имеет место положительный вариант развития, научные знания и методологии данного объединения воспринимаются, объективно оцениваются, масштабируются и внедряются.
Во втором случае, когда профессиональное сообщество проявляет свою пассивность (иногда даже агрессивную), развивается указанный выше социальный конфликт. Примечательно, что качество научных результатов конкретного объединения не всегда взаимосвязано с развивающимся типом «зоны обмена» второго уровня.
В некоторой мере преобладание отрицательного характера «зон обмена» второго уровня достаточно типично для междисицплинарных исследований. Достаточно исчерпывающе это объяснено в фундаментальной монографии Э. М. Мирского50: «исследовательская деятельность на переднем крае науки <…> в значительной своей части базируется на сотрудничестве представителей различных дисциплин, т.е. носит вынужденно междицсиплинарный характер. Поскольку каждый из участников подобных исследований обладает дисциплинарной ориентацией, а сами дисциплины располагают мощными механизмами фильтровки и ассимиляции новых результатов, междисциплинарность исследовательской деятельности в подавляющем большинстве случаев не находит отражения в информационном массиве дисциплины, а тем более в структуре дисциплинарного знания. „Внутри“ каждой дисциплины оказываются в каждый момент только те результаты, релевантность котороых предмету дисциплины хотя бы подозревается».
Однако для исследований в области биотелеметрии дополнительным весомым фактором, увеличивающим частоту отрицательной реакции, была необходимость принятия совершенно новых парадигм, о которой было сказано выше.
Таким образом, научные исследования в области биотелеметрии изначально имеют мультидисциплинарный или даже трансдисциплинарный характер (как уровень научного сотрудничества, занятый универсализацией картины «научной реальности на основе теорий и методов, утративших свою дисциплинарную определенность»51). Ученые организуются в микро-, а со временем – в макрообъединения; это галисоновские «зоны обмена» – модели развивающего взаимодействия между биомедицинским и инженерно-техническим знанием, где «возникает локальная координация убеждений и действий»52. Мы относим их к первому уровню. При трансляции научных результатов профессиональному сообществу формируется «зона обмена» второго уровня одного из двух типов (с положительным или отрицательным сценарием развития). К характеристикам процессов институционализации научных исследований в области биотелеметрии можно добавить тип и особенности «зон обмена» второго уровня.
Научная интуиция, идея, инициатива, гипотеза обуславливают научный поиск в данной конкретной области, реализуемый учеными-одиночками или микрообъединениями энтузиастов. По мере накопления знаний по проблеме, исследования структурируются в программу. Результаты исследований становятся публичными, обсуждаются в профессиональном сообществе и, при определенном (объективно неизмеримом) уровне значимости и актуальности, вызывают интерес иных ученых и научно-исследовательских объединений. Последние начинают действовать самостоятельно либо в сотрудничестве с инициативными микрообъединениями. Следующий этап характеризуется масштабным накоплением знаний, их систематизацией, стандартизацией, выведением неких правил и закономерностей; фактически – формированием фундаментальных основ новой научной дисциплины (единой дисциплинарной матрицы). Теперь уже макрообъединения ученых последовательно ведут исследования по данной проблематике. Происходит специализация отдельных макрообъединений, которая признается большей частью всего научного сообщества и проявляется, в том числе проведением научных мероприятий, выпуском тематических журналов, монографий, популяризацией новой области знаний. На этом этапе макрообъединения представлены отдельными научными коллективами и/или временными группами ученых. На последнем этапе происходит признание новой научной дисциплины (проблематики) со стороны государства, то есть – административные решения и действия по организации, управлению, финансированию, контролю и развитию научно-исследовательской деятельности. На этом финальном этапе макрообъединения ученых уже могут быть представлены научными школами.
Формальное структурирование научных исследований происходит как на этапах формирования научного направления/дисциплины (на уровне отдельных учреждений создание специальных отделов, лабораторий, кафедр; оформление и финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ), так и на этапе государственной поддержки (включение проблематики в государственные программы; создание специализированных учреждений – институтов, центров и т.д.; целевое финансирование).
Исходя из сказанного, в работе мы разработали метод условной оценки уровня институционализации научных исследований в области биотелеметрии:
1. Начальный уровень – этапы научного поиска и программы исследований; исследования ведут ученые-одиночки, научные микрообъединения (неформальное структурирование).
2. Средний уровень – переход от неформального к формальному структурированию, этапы формирования научного направления и соответствующего дисциплинарного сообщества; организационные мероприятия, в том числе представлены официальным оформлением научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; преимущественно исследования ведут научные объединения и группы.
3. Высокий уровень – формальное структурирование, государственный и административный ресурс обеспечивает системное проведение исследований по данной дисциплине; есть условия и возможности для появления научных школ.
Предложенный подход может быть повергнут определенному критицизму и детализации. Однако мы следуем принципу минимальной, разумной достаточности; указываем базовые, фундаментальные этапы, достаточно явно прослеживаемые в подавляющем большинстве ситуаций.
В заключении необходимо отметить еще одну особенность изучаемых научных исследований.
При благоприятном стечении обстоятельств, как было показано в литературе, междисциплинарность в работе ученых не исчерпывается «некоторым эпизодом исследовательской деятельности, как бы велико ни было его научное значение, а приобретает систематический хаарктер, причем сама междисицплинарность получает в подобного рода исследованиях новое, так сказать, порождающее исследовательскую деятельность качество». Полученные результаты «в виде некоторой целостности выступают базой для создания новой структурной единицы науки»53. Сказанное полностью типично для области биотелеметрии.
Задача реализации дистанционной трансляции биомедицинских данных возникла как ответ на запрос практики (параллельно от ученых-физиологов и от врачей). Для решения этой задачи прежде всего требовалось создание новых технических устройств и методов их применения; на этом этапе ученым, образно выражаясь, надо было ответить на вопрос «каким прибором и каким способом фиксировать и передавать данные». В этот момент биотелеметрия является объектом научных исследований. По мере успешного решения указанной задачи, появления биотелеметрической аппаратуры и методологий, происходит качественный переход. Биотелеметрия начинает применяться для решения запросов, ранее поступавших от практики; то есть используется в физиологических экспериментах, биомедицинских научных исследованиях, а также в практической медицине. Суть перехода состоит в том, что теперь биотелеметрия становится методом научных исследований. Только благодаря ее возможностям начинается накопление принципиально новых знаний, обеспечивающих исторические переходы от одного состояния отдельных отраслей науки к другому, а также – становление новых отраслей науки.
Нами выявлены характерные особенности институционализации научных исследований в области биотелеметрии:
1. Формирование в качестве исходной точки научного исследования микрообъединения – галисоновской «зоны обмена» первого уровня между биомедицинским и инженерно-техническим знанием. Более того, отсутствие микрообъединения ведет к провалу.
2. Наличие мультидисциплинарности как постоянного и неотторжимого свойства научных исследований.
3. Формирование галисоновской «зоны обмена» второго уровня (положительного или отрицательного типа) между объединением ученых и профессиональным сообществом при трансляции результатов исследований.
4. Наличие качественного перехода от объекта к методу. Вначале биотелеметрия – это объект научных исследований, позднее – она становится методом научных исследований. Качественный переход возможен в рамках одного макрообъединения ученых.
Предложенная систематизация особенностей позволяет проанализировать процессы формального структурирования научных исследований в предметной области, выявить и оценить качественные изменения, обуславливающие различную результативность таковых.
Актуальность и применимость разработанных методологических подходов к изучению институционализации научных исследований в области биотелеметрии будет доказана в ходе изложения нашего исследования.
ГЛАВА 2. ИСТОРИЯ НАУЧНОГО ПОИСКА В ОБЛАСТИ БИОТЕЛЕМЕТРИИ В ПЕРВОЙ ЧЕТВЕРТИ ХХ ВЕКА
…Если не сейчас, то потомки наши поймут всю сущность и значение для человечества нового средства связи.
А. С. Попов
Во второй половине ХIХ – первой трети ХХ вв. в распоряжении человечества появились три телекоммуникационные технологии, основанные на электричестве: телеграф (в том числе фототелеграф), телефон и радиосвязь. Телеграфная связь позволяла осуществлять обмен буквенно-цифровыми (текстовыми) сообщениями, электрическими сигналами (в том числе для звукового оповещения (звонка)), неподвижными изображениями (фототелеграф, в последствие – факсимильная связь). Телефонная связь обеспечивала обмен звуками и речью, а также однонаправленную передачу электрических сигналов. Возможности радиосвязи были ограничены сугубо голосовым общением. История изобретения и конструирования соответствующих технологий связана с именами обширной плеяды ученых и инженеров из многих стран мира, широко описана в иных источниках и не будет затрагиваться в данной работе.
С первых лет своего появления электрические телекоммуникации сразу привлекли внимание ученых и практиков биомедицины. Возможность трансляции информации о состоянии здоровья, физиологических параметров на десятки и сотни километров казалась манящей перспективой; научно-практический смысл ее зачастую еще оставался не вполне осознанным, тем не менее человеческое любопытство и жажда знаний толкала исследователей на новые эксперименты.
Примером предчувствия уникальных возможностей телекоммуникаций в биомедицине служит высказывание выдающегося ученого в области физиологии труда профессора
К. Х. Кекчеева (1893—1948): «Много еще чудес придумал человек себе на пользу. Разве не чудо разговор по воздуху без всяких проволок (радиотелефон) через всю Советскую Россию?
В Москве перед трубкой стоит, например, доктор и рассказывает о болезнях, которые бывают у людей, и о том, как от них уберечься. Около него никого нет, но зато во многих городах, селах и деревнях за много верст от Москвы сидят у себя по домам люди и, прижав особые трубки к уху, слушают этого доктора. Таких чудес много придумали люди для облегчения и улучшения своей жизни»54.
В раннем периоде развития биотелеметрии сразу обозначились два параллельных направления55:
1. Эмпирическое практическое использование.
2. Научный эксперимент.
В этой главе мы проследим, охарактеризуем и систематизируем значение основных событий научной деятельности, связанной с экспериментальным изучением возможностей телекоммуникаций в медицинской науке в период второй половины ХIХ – первой трети ХХ вв.
2.1. «Ранняя телемедицина»: эмпирический опыт
В изучаемый период времени практическое использование телекоммуникаций в медицине представляло собой простой диалог, то есть общение врача и пациента посредством телеграфа, телефона, реже – радио.
Подобное применение телекоммуникаций сразу начало носить глобальный характер. Например, с 1920-х гг. в США, Норвегии, Италии, Германии и иных странах мира начали формироваться службы для медицинских консультаций по радио экипажей морских судов.
В Австралии на основе радиосвязи была развернута «Воздушная медицинская служба» для оказания медицинской помощи на территориях с низкой и крайне низкой плотностью населения. Основными инстурментами службы были дистанционные врачебные консультации по радио и санитарная авиация. Известен целый ряд эпизодов дистанционных медицинских консультаций по телеграфу в разных уголках мира56. Даже Генрих Шлиман (Heinrich Schliemann) во время археологических раскопок в Греции в 1870—1880-х гг. обращался за дистанционными консультациями к своему хорошему знакомому, выдающемуся ученому и врачу – Рудольфу Вирхову (Rudolf Virchow): «В отчетах вы писали и о Николаосе и о многих других рабочих. Если кто-нибудь из них серьезно заболевал, вы бомбардировали меня телеграммами, пока моя заочная терапия не помогала и больному не становилось лучше»57).
С позиции истории науки и техники развитие эмпирического аспекта интересно и важно тем, что со временем здесь наметился переход к научно обоснованному поиску оптимальных технических и методических решений для дистанционного взаимодействия врача и пациента. Сугубо практический опыт буквально «потребовал» научного осознания, систематизации, формирования общих теоретических положений, в свою очередь ставших основой для развития новых методов и способов оказания медицинской помощи на расстоянии. В конечном итоге, прикладное эмпирическое направление, дополнив методологический и технологический аппарат биотелеметрии, эволюционировало в концепцию «телемедицины». Однако эти процессы произошли позднее, в середине ХХ в., а в изучаемый период времени шло лишь накопление практического опыта. В контексте развития научных исследований в области биотелеметрии этот этап представляет лишь общий интерес; поэтому останавливаться на деталях мы не будем, лишь лаконично перечислим основные эпизоды и тенденции.
Во второй половине ХIХ – первой трети ХХ вв. нами выявлен ряд эпизодов эмпирического практического использования электрических телекоммуникаций в биомедицинских целях (которые могут рассматриваться как некий период «осознания» возможностей):
1. Применение телеграфа в медико-организационных целях, для управления логистикой медицинского обеспечения, раненых во время вооруженных конфликтов (Россия: Русско-Японская война, 1905 г.58, Германская война, 1914‒1918 гг.59).
2. Обмен эпидемиологической информацией (в России телеграф использовался для оповещений во время эпидемии холеры в Хабаровске и Приамурье в 1902 г.60).
3. Морская медицина. В первой трети ХХ в. системное практическое применение телекоммуникаций для решения медико-организационных задач происходило в области морской медицины, обеспечивающей экстренную и неотложную помощь членам экипажей военно-морских, торговых и пассажирских кораблей. В России средства электросвязи достаточно активно применялись для взаимодействия по медицинским вопросам в военно-морском флоте. В 1910 г. во время «санитарных маневров» Черноморского флота радиотелеграф и телефон использовались для связи военно-морских судов, Севастопольского порта и госпиталя – для оповещений о количестве поступающих больных и раненых61. Во время балкано-турецкой войны 1912—1913 гг. по радио осуществлялась координация действий по эвакуации и приему раненых больниц на суше и пароходов-госпиталей62. Систематизировался опыт использования радиотелеграфа для организации спасательных операций на море63.
В 1915 г. госпитальное судно Красного Креста «Portugal» на Черном море использует радиотелеграф для координации и сообщений о прибытии в порты, о необходимости принять раненых, благодаря чему «передача раненых на берег была совершенна без особых задержек»; по радио осуществлялся вызов этого судна для приема раненых64. По телефону осуществляется вызов и координация действий санитарного персонала после взрыва в Морской лаборатории Кронштадтского порта 17 ноября 1915 г., сопровождавшегося большим количеством убитых и раненых65.
2. Освоение арктических территорий.
В начале ХХ столетия арктическое побережье Российской империи, особенно его восточная часть, оставалась плохо изученной и крайне малонаселенной землей. Изолированные, крошечные поселки старателей, охотников и рыбаков, коренных народов, разбросанные по огромным территориям, не имели ни надежных средств связи, ни медицинского обеспечения.
Об ужасающих условиях жизни, с точки зрения медицинской помощи, ярко свидетельствуют воспоминания судового врача Эдуарда Егоровича Арнгольда (1873—192066), относящиеся к 1913 году67: «Считаю долгом упомянуть о том безвыходном положении в смысле медицинской помощи, в котором находится местное население. Единственный врач на весь Анадырский уезд, по площади превосходящий чуть-ли не Францию живет в селе Марково, 500 верст вверх по реке. Из медицинского персонала в Ново-Мариинске имеется лишь бывший морской фельдшер Задвинский, но служащий уже не фельдшером, а секретарем полицейского управления в течение нескольких лет: за неимением никого другого, конечно, все медицинские обязанности приходится исполнять ему. По рассказам местной интеллигенции у двух женщин зимою предстояли тяжелые роды. Консилиум из уездного начальника, его помощника, судьи, не помню участвовал-ли в нем бывший фельдшер Задвинский, решил сделать лапаротомию. Производство самой операции по большинству голосов было возложено на уездного начальника, как старшего в чине, не помню уж кто давал наркоз и были-ли таковой вообще дан. Насколько я себе мог представить дело из рассказов производивших операцию, приступили к ней уже тогда, когда больная, как они выражались, была совсем синяя и еле дышала, кожный разрез был сделан специально отточенной и прокипяченой для этой цели бритвой. К счастью как для больной, так и для оперирующих, операцию не нужно было доводить до конца, так как тотчас же после кожного разреза больная скончалась. К сожалению, в таком безвыходном положении находится не один пост Ново-Мариинский, а их очень много, не только в Анадырском уезде, но даже на Камчатке, не говоря уже про Чукотский уезд, где нет даже никаких бывших фельдшеров».
Ему вторит его коллега, также судовой врач Леонид Михайлович Старокадомский (1875‒1962)68, рассказывая об «ужасах», услышанных от местных жителей: «…как делались „операции“ – ампутировались ноги, извлекались ржавым ножом пуля из спины подстреленного американскими торговцами стражника, наконец, как была произведена операция кесарского сечения на беременной, конечно, после этого умершей, – все без врача… В тяжелых условиях живут здесь люди».
С целью исследования и освоения восточного побережья Северного Ледовитого океана с 1910 по 1915 гг. в Арктике работала гидрографическая экспедиция. Именно она положила начало практическому освоению Северного морского пути. Несколько походов ледокольных пароходов «Таймыр» и «Вайгач» (собственно, на которых и были судовыми врачами
Л. М. Старокадомский и Э. Е. Арнгольд соответственно) позволили собрать многочисленные уникальные материалы в области гидрологии, метеорологии, зоологии, ботаники, геологии; в 1912 г. на основе ее данных изданы мореходные карты, первая лоция восточной части Северного Ледовитого океана69.
Примечательно, что экспедиция занималась не только исследованиями, но и участвовала в создании сети радиотелеграфных станций вдоль побережья. В 1911‒1912 гг. были построены соответствующие станции в Архангельске, Югорском Шаре, на острове Вайгач и у устья реки Маре-Сале, в Гижиге, Ново-Мариинске и Охотске70. «В Ледовитом океане и на Белом море имеется радиостанция в Архангельске с дальностью действия 1200 верст, на Карском море – 3 станции: в Югорском Шаре с дальностью действия в 1200 верст и две малых на о. Вайгач и полуострове Ялмань – с дальностью действия по 250 верст каждая. Эти пять станций обеспечат связь судам, совершающим рейсы по Белому морю и Ледовитому океану через Карское море к берегам Западной Сибири»71. Детально история указанных событий и процессов изложена в фундаментальной работе А. А. Глущенко – диссертации и монографии на ее основе, в которых введены в оборот многие материалы из Российского государственного исторического архива, РГА ВМФ72.
Вместе с тем указанный источник фокусируется на вопросах истории именно радиотелеграфной связи, соответствующих учреждений, экспедиций; социальные аспекты, вопросы медицинского сопровождения рассмотрены поверхностно.
Вопросы медицинского обеспечения персонала радиотелеграфных станций должны были решаться Главным управлением почт и телеграфов (ГУПиТ) в г. Архангельске, так как станции являлись подведомственными структурами этого учреждения. С целью развития арктических телекоммуникаций в изучаемый период времени осуществлялись специальные мероприятия по постройке и обеспечению содержания радиостанций и их персонала. Отдельным вопросом было медицинское обеспечение, осложнявшееся жесткой изоляцией и экстремальными природными условиями. Известна история о якобы вспышке цинги, вызывавшей значительный социальный резонанс. ГУПиТ был командирован в Архангельск
В. А. Тарасов (причем не врач, а «инженер специалист по радиотелеграфу») для тщательной проверки, чтобы «выяснить, путем сношений по радиотелеграфу, все нужды чинов, находящихся на Карских станциях, а также все недостатки жилых помещений». В результате «газетная шумиха по поводу бедственного положения наших чинов, прибывших зимним путем на Карские радиостанции» была ложной. «В действительности оказалось, что все чины и сторожа <…> здоровы и в достаточной мере обеспечены жизненными продуктами и медикаментами, за исключением одного сторожа на Маре-Салэ, заболевшего цингой»73. Причиной болезни стала собственная лень – крайне малоподвижный образ жизни и отсутствие горячего питания, не смотря на наличие нужных продуктов. Вместе с тем только лишь достаточное снабжение не решало всех проблем. А. А. Глущенко опубликована переписка с главным врачом больницы Санкт-Петербургского почтамта в которой ГУПиТ сообщал, что «не только скорой, но и вообще какой-либо врачебной помощи служащим оказывать не представляется возможным» и просил сообщить соображения «относительно возможной организации врачебной помощи на указанных станциях»74. Усилия ГУПиТ выразились снабжением персонала радиостанций «популярным лечебником» доктора Алмазова «Полная народная школа здоровья», а позднее – специальными аптечками. Вопрос комплектования которыми решался на заседании особой комиссии с привлечением врачей и представителей от радиостанций75.
При работе с источниками нами выявлен материал, который значительно расширяет и отчасти изменяет наше представление об организации врачебной помощи на указанных станциях.
В 1915 г. в издании «Почтово-телеграфный журнал» была опубликована статья столоначальника Главного управления почт и телеграфов (ГУПит) Архангельского округа
В. А. Тарасова под названием «Радиотелеграфная экспедиция на Карском море». Она посвящена описанию хода работ по проверке и ремонту существующих, а также постройке и оснащению новых радиостанций, в том числе на острове Вайгач и Югорском полуострове
(с участием указанной выше гидрографической экспедиции). В статье содержится следующий фрагмент: «Для оказания медицинской помощи на Югорской станции оставлен фельдшер, с тем, чтобы, в случае надобности, он посещал и Вайгачскую радиостанцию. Кроме того, для всех станций заготовлены аптечки с достаточным количеством медикаментов и популярные медицинские руководства, а в серьезных случаях всем предоставлено право бесплатного сношения по радиотелеграфу с врачами из Архангельска»76.
Указанная статья была переведена на английский язык и в 1916 г. опубликована в США в журнале The Wireless World. Приведенный фрагмент текста содержится и в англоязычной версии без каких-либо дополнений или сокращений77.
Это документальное свидетельство первого системного применения телекоммуникаций (электросвязи) в медицинских целях на территории России. Процитированный фрагмент свидетельствует о том, что персоналу радиостанций, помимо медицинских руководств по самопомощи и аптечек с основными медикаментами, была предоставлена возможность дистанционных консультаций с врачами средствами радиосвязи. Был решен финансовый вопрос: для запрашивающей стороны консультативная услуга врача была бесплатна.



