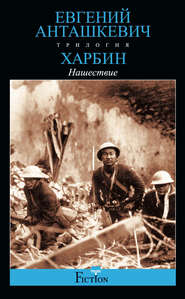
Полная версия:
Харбин. Книга 2. Нашествие
Старик недовольно посмотрел на неё, но Анна продолжала:
– Я уже об этом думала, да только куда? Может, на родину, в Россию?
– Шутить изволите, матушка! России нет! А есть одно НКВД! – Он помолчал и добавил: – Мне уже Москвы не видать, и вам – вашего Питера! А мир велик, и везде, как я слышал, русские живут.
Она отложила рукоделие:
– Я и сама понимаю, что в Россию нам уже не вернуться! Я до сих пор не могу поверить, что Николая Васильевича там расстреляли. Вы помните, – глаза её немного растерянно смотрели на Кузьму Ильича, – как он вот здесь, в этой гостиной, рассказывал о своей поездке в Москву… читал рукописи своих новых книг. Нас уговаривал…
– Да, жалко, умный был человек, профессор Устрялов, хотя и молодой совсем. Он стране много пользы мог принести… он мне напоминал одного приват-доцента московского, из университета. Фамилию его я уже не помню, но человек был такой же – с запалом… Тот вместе со студентами против охотнорядских даже в драки ходил… Однажды ему крепко досталось… И в околотке посидел, то ли день, то ли три. Тоже всё произносил речи за новую Россию. Помню, попал я на их собрание, он там с одним своим, только с профессором, в спор вступил, мол, какой России быть через пятьдесят лет!
Кузьма Ильич ненадолго задумался.
– А кстати, матушка, какой нынче год на дворе?
– Тридцать восьмой, январь… – с удивлением сказала Анна Ксаверьевна.
– О! Видите? Как в воду учёные люди глядели! Это было в 1903-м, тоже зимой. Немного они, правда, ошиблись, на десяток лет с небольшим. Так вот этот, который на Николая Васильевича был похож, до слёз доказывал, что в России быть парламенту и демократии. Лучше Англии будет, и Франции с Америкой. А другой, спокойный такой, степенный, всё его Фёдор Михайловичем крыл, Достоевским…
Анна понимающе кивнула.
– …он всё из «Бесов» цитировал. «Вы, – говорит, – мне Шатова напоминаете. Вы, – говорит, – как и он, – идеальное русское существо. Вас, – говорит, – вдруг поразила какая-то сильная идея и точно разом придавила собою, и, скорее всего, – навеки. И справиться с нею такие, как вы, не в силах, а веруете страстно. Вот ваша жизнь и проходит, как бы в последних корчах, под свалившимся и наполовину совсем уже раздавившим вас камнем». Это он так цитировал. «Какая, – говорит, – к черту демократия и парламент? Вы перейдите дорогу! А хотя вы её уже переходили!» Ну тут собрание, которое, будьте уверены, помнило побои приват-доцента и его сидение в околотке, конечно же покатилось со смеху. А приват-доцент тот, как бишь его звали?.. – Кузьма Ильич наморщил лоб. – Не помню, но уж больно был похож на Николая Васильевича нашего, Устрялова, покойника, спаси, Господи, его душу! Так вот, приват-доцент этот краснел и отдувался! А тот – дальше: «Перейдите через дорогу, а лучше отъедьте в Тверь или Калугу, посмотрите и посчитайте! Те, кому из наших соотечественников, из крестьян сейчас тридцать, как вам, или сорок, как мне, через пятьдесят лет будут иметь ещё только правнуков, в лучшем случае – праправнуков. И что они сумеют и успеют им дать? Культуру? Образование? И что они с этой культурой и образованием будут делать в этом вашем парламенте? Драться, пить и материться, потому что договориться между собой они не смогут. А там, где нет общественного договора, какая может быть демократия?»
Кузьма Ильич хлебнул из пустого стакана, поморщился и продолжил:
– Что тут, матушка, стало с нашим приват-доцентом! Покраснел, изошёл потом и как закричит: «А мы зачем? Мы должны обучить их самих, их детей и внуков! Вы сами-то, с какой целью Достоевского читаете? Только лишь для эстетического удовольствия? А если так, то зря… Не для вас он писал…» А профессор ему отвечает: «…А для вас! Вот я ещё вам процитирую, извольте! «…А между тем у нас…», то есть у вас, «…была одна самая невинная, милая, вполне русская, веселенькая, либеральная болтовня. «Высший либерализм», а «высший либерал», то есть либерал без всякой цели, возможен только в одной России. Уж если вы, уважаемый, хотите что-то сдвинуть с места, то под это нужна основательная экономическая и просветительская идея, и лет эдак на сто, а может, и того больше. Иначе русский мужик – а он был тысячу лет и ещё тысячу лет будет – придумает себе другого царя или другого тирана и будет от него тумаки получать и на него же молиться. И вам по шапке надаёт!» – Кузьма Ильич хмыкнул. – Так они, матушка, чуть до драки дело не доводили. И много раз так повторялось. А ещё просвещённые люди, а на деле так и вышло. Я потом на их собрания перестал ходить. – Он помолчал и добавил: – Не знаю, Аннушка, в красной России не был, а по слухам, опять же, вот как дело с Николай Васильевичем Устряловым-то вышло! Только не через пятьдесят лет, а ещё короче. Так-то вот!
– Он действительно арестован в Москве, полгода назад, это не слухи.
Анна и Тельнов обернулись, в дверях стоял Александр Петрович уже без пальто и шапки и в домашних туфлях.
– Сашенька! А мы и не услышали, как ты вошёл!
Он прошёл в спальню и стал переодеваться в домашний костюм, Анна зашла за ним и увидела, как ей показалось, в глазах мужа тревогу.
– Что-то случилось? – спросила она и присела на краешек стула. – Что-то на службе?
Анна Ксаверьевна редко спрашивала об этом, но сейчас у неё заскребло на душе.
Александр Петрович посмотрел на неё и спокойно ответил:
– Да в общем всё в порядке! Беженский комитет тихо умирает, а жалко, мы всё-таки, как можем, помогаем людям.
– А Бюро?
– Бюро, Анни, создано не для этого! Бюро – это ширма, а на деле…
Анне Ксаверьевне очень хотелось спросить, это ли тревожит Александра Петровича, но она терпеливо ждала.
– Ты поужинаешь?
Александр Петрович неспешно переоделся, подошёл к жене и поправил ей прядку, она всегда непослушно выбивалась.
– Ужинать не буду, с японцами поужинал, пригласили, а чаю попью.
Анна больше ничего не спросила, поднялась и пошла в гостиную.
Александр Петрович посмотрел ей вслед, ему действительно было не по себе, и он видел, что ей передалась его тревога.
За чаем все молчали. Кузьма Ильич несколько раз набирал воздуха, порываясь что-то сказать, но сдерживался, молчание нарушил Александр Петрович.
– Я невольно подслушал ваш разговор. – Он задумчиво разминал папиросу. – Мне тоже не всё нравится, что у нас здесь происходит, но тут японцы – жандармерия, там, в России, – НКВД. Кстати, и здесь – НКВД. Он долгим взглядом посмотрел на Кузьму Ильича. – Что-то и те и другие затевают. Приходится быть осторожным, особенно в рассуждениях вслух… – Он снова смотрел на Тельнова, тот хотел что-то сказать, но опять промолчал. – Даже дома! – подытожил Александр Петрович. – Японцы разбираться не станут. А мысли правильные – ситуация не становится лучше и, скорее всего, будет хуже.
Анна вся подобралась, а Кузьма Ильич, не поняв намёков Александра Петровича, но услышав оценку, которая вполне сходилась с его оценкой, распрямился и гордо расправил усы. Александр Петрович заметил это и недовольно произнёс:
– Осторожность и ещё раз осторожность, уважаемый Кузьма Ильич. Допускаю, что Номура, хотя его и называют Костей, не читал досточтимого Фёдора Михайловича и не слушал споров ваших профессоров и приват-доцентов, но в его застенках так же темно, сыро и холодно, как в охотнорядских подвалах и кладовых. У него много глаз и ушей, особенно среди наших. Люди исчезают.
– Матка Боска! – невольно произнесла Анна Ксаверьевна.
Услышав, как отреагировала Анна, Александр Петрович подумал, что, наверное, он сказал это слишком жёстко. Кузьма Ильич сидел не шелохнувшись, потом поморщился, как будто съел дольку лимона без сахара, потёр лицо ладонями и хотел что-то сказать.
– Извините, Кузьма Ильич, не обижайтесь, здесь нам опасаться, конечно, некого, но…
– Да, да! Александр Петрович, я понимаю, наверное, вы правы, кругом японцы и НКВД, да и ни к чему эти разговоры, всё одно ничего не изменишь…
– Ну и ладно! Тогда всё в порядке! – Ему стало жалко старика, и он спросил примирительным тоном: – А где Сашик?
Глава 9
После разговора с Кузьмой Ильичом и того, что сказал Александр Петрович, Анне стало тревожно.
Часы в гостиной пробили без четверти десять, за окнами было темно, городские конторы давно закончили работу. Сашик в это время обычно уже приходил домой, даже если после работы встречался с друзьями.
Дед сидел не шевелясь, и было видно, что он не знает, куда себя деть. Александр Петрович взялся за папиросу и книгу, и Анна посмотрела на него: «Господи! За семнадцать лет, как он вернулся, он почти не изменился, не постарел, не поседел, не полысел, а я?» Она почувствовала на душе непонятное смущение и, чтобы скрыть его, встала и начала собирать чайную посуду. В какой-то момент она вспомнила только что закончившийся разговор и с ужасом подумала: «Матка Боска, о чём я думаю?» В это время хлопнула входная дверь, и через секунду в гостиную заглянул Сашик; он знал, что его заждались, и решил поздороваться сразу, ещё не раздевшись.
– Всем привет! – с улыбкой сказал он. – Сейчас я вас поцелую, но только сниму вот это всё, от меня, должно быть, веет ужасным холодом, на улице такой мороз… – Он снял шапку, стал расстёгивать пуговицы и посмотрел на отца, маму и старика. – А что вы такие тихие, что-то случилось?
– Нет, сынок, – за всех ответил Александр Петрович. – Мы уже попили чаю, а ты, если хочешь…
– Спасибо, папа! Мамочка, ты не волнуйся, я если захочу, то всё сделаю сам!
Через несколько минут уже в спальне Анна подошла к мужу и спросила:
– Сашенька, тебя что-то тревожит? Скажи, если можешь!
Александр Петрович немного помолчал и улыбнулся:
– Анни, рядом с тобой ничего не может тревожить! – Он подошёл к шифоньеру и стал выбирать пижаму.
– Я понимаю, ты чего-то не говоришь… не хочешь, чтобы я волновалась, но я же вижу…
– Понимаешь, я не стал бы тебе ничего говорить, но это уже почти не секрет. Дело в том, что японцы готовят кампанию против Советов, здесь, на Дальнем Востоке. Конечно, всё секретно, но разве утаишь? Тут сама география на их стороне, грех упускать такую возможность – отрезать у Советов Дальний Восток им сам Бог велел! Ударить где-нибудь, – он резко провёл рукою сверху вниз, как будто что-то разрубил, – между Читой и Иркутском или западнее Иркутска, и до самого Владивостока всё их. Они и в девятнадцатом, и в двадцатом этого хотели, но тогда мощи не хватило… или решимости…
Он достал две пижамы, одну бумажную, другую шёлковую.
– Возьми бумажную, дома так натоплено, – посмотрев на него, сказала Анна.
Александр Петрович согласно кивнул и шёлковую положил обратно.
– Ты рассказывал про японцев, – напомнила Анна.
Она сняла халат и повесила его на плечики, прошла к комодику, открыла верхний ящик и стала выбирать ночную рубашку. Александр Петрович видел её такой каждый вечер, здесь, в этой спальне, когда она вот так готовилась ко сну. Она снимала халат, расстёгивала лиф и пояс, снимала чулки; она ставила ногу на пуф, стоящий рядом с кроватью, и, подхватывая пальцами, снимала один чулок, потом другой; она их не скатывала в колечко, а именно снимала, потом встряхивала и складывала, чтобы завтра отправить в бельевую корзину. Чуть уловимо от неё пахло духами: она брала с будуара один из многочисленных флакончиков, потом садилась к зеркалу, распускала волосы и начинала расчёсывать их. Освобождённые от шпилек, они падали на спину и закрывали её до самой поясницы. Александр Петрович любил смотреть на плавность, неторопливость и женскую уверенность, с которой она всё это делала. Он часто ловил себя на мысли, что каждый день ждёт этих нескольких минут.
– Какие японцы, о чём ты говоришь? – тихо промолвил он, подошёл к ней и положил руки на плечи; она повернула к нему голову и снизу вверх посмотрела:
– Нет, сегодня мы будем говорить о японцах. – Она улыбнулась.
Александр Петрович посмотрел ей в глаза и с улыбкой сказал:
– Ну что ж, о японцах так о японцах!
Он подошёл к тумбочке, рядом со своей кроватью, взял папиросу, долго глядел в пол и потом задумчиво начал:
– Сейчас у них в Маньчжурии стоит целая армия – Квантунская. Группировка сильная, и в любой момент они могут её двинуть. – Он говорил медленно, делая паузы между каждым предложением. – Не знаю – чего они ждут? У Советов здесь сил пока не так много. Сталин за последние два года уничтожил своих лучших офицеров. Сейчас его войсками и командовать некому; молодежь ещё не обстреляна, серьёзной боевой закалки нет…
Анна сидела у будуара, продолжала расчёсывать волосы и внимательно слушала мужа, она смотрела на него через зеркало и уже понимала, что всё, что он сейчас говорит, не является настоящей причиной его беспокойства. Планы японцев и без того были всем понятны; никто этого не скрывал. Значит, произошло что-то другое, и это другое заставляет его переживать и даже что-то, наверное, скрывать от неё; но она не перебивала. На некоторое время он замолчал, потом наконец произнёс:
– Они стали интересоваться нами… правильнее сказать, – нашей молодежью!
У Анны ёкнуло сердце – вот оно что! Что-то может произойти с… Александр Петрович осторожно глянул ей в глаза.
– Пока тревожиться нет причин. Пока они набирают добровольцев. Кстати, в прошлом году ты ездила в Шанхай, – как тебе там понравилось?
Анна всё поняла и спросила:
– Ты думаешь, нам пора?
– Ну, по крайней мере, думать об этом уже, наверное, надо.
– Сашенька! Скажи мне, пожалуйста, что с нами может случиться?
Александр Петрович пожалел, что проговорился, но деваться было уже некуда.
– С нами ничего не может случиться, но японцы могут объявить мобилизацию.
– Кого? – спросила она осторожно.
– Нашей молодёжи! И тогда… – Александр Петрович положил неприкуренную папиросу на край пепельницы.
Ей не надо было договаривать, что тогда… опасность грозила её сыну, его могут мобилизовать в японскую армию или в маньчжурскую, она в этом не очень понимала. Это будет катастрофа: мало того что они живут в чужой стране, так ещё её сын может оказаться в чужой армии и попасть на чужую войну. Ничего хуже в голову ей прийти не могло.
– Думаю, что нас это не коснётся, – договорил Александр Петрович. – Надеюсь!
Анне Ксаверьевне показалось, что она всё поняла, она встала, поцеловала его и погасила свет. Пятнадцатью минутами раньше, ещё когда она шла в спальню, когда начала готовиться ко сну, когда слушала мужа, то чувствовала, что за день устала и хочет спать и уснёт, как только голова окажется на подушке, но сон прошёл.
Кузьма Ильич топтался и скрипел половицами.
«…Или сразу с Сашиком поговорить? – задавал он себе вопрос и не мог на него ответить. – Да и о чём? С чего начать? Что он знает в свои двадцать два с половиной года?»
Он подкрутил свет в керосиновой лампе, которую по старинке держал в своей комнате, сел на край неразобранной кровати и стал перебирать иконки. В руки попалась самая толстая; не глядя он механически вертел её, потом удивлённо посмотрел, как будто бы раньше не видел, и крепким ногтем отковырнул заднюю стенку. На ладонь выпал в несколько раз сложенный ветхий листок бумаги с лохмато-бархатными серыми сгибами. Осторожно, чтобы не порвать, он развернул его, надел очки и стал вчитываться в мелкую скоропись, написанную фиолетовыми чернилами убористым почерком. Это был его почерк. Сначала он читал, скользя по строчкам, то верхним, то из середины, но вдруг остановился и стал читать внимательно: «…Как хорошо известно всем русским и, конечно, Вашему Высокопревосходительству, перед этим чтимым всей Россией Образом ежегодно 6 декабря в день зимнего Николы возносилось моление, которое оканчивалось общенародным пением «Спаси, Господи, люди Твоя!» всеми молящимися на коленях. И вот 6 декабря 1917 г… прибывшие войска…»
Кузьма Ильич читал и мысленно видел, как множество людей на Красной площади после окончания молебна стали на колени и запели «Спаси, Господи…», а на площади вдруг появились войска, они начали разгонять молящихся и стрелять по образу из винтовок и орудий… Кузьма Ильич видел святителя на иконе Кремлёвской Никольской башни, изображённого с крестом в левой руке и с мечом – в правой.
«…Пули изуверов ложились кругом святителя, нигде не коснувшись Угодника Божия. Снарядами же, вернее, осколками от разрывов была отбита штукатурка с левой стороны Чудотворца, что и уничтожило на иконе почти всю левую сторону святителя с рукой, в которой был крест. В тот же день, по распоряжению властей антихриста, эта Святая икона была завешена большим красным флагом с сатанинской эмблемой, плотно прибитым по нижнему и боковым краям. На стене Кремля была сделана надпись: «Смерть Вере – Опиуму Народа…»
Кузьма Ильич читал, почти не глядя в листок, он знал текст наизусть.
«…На следующий год… собралось множество народу на молебен, который, никем не нарушимый, подходил к концу! Но, когда народ, ставши на колени, начал петь «Спаси, Господи!», флаг спал с образа Чудотворца… Прибывшие войска разогнали молящихся, стреляя по образу из винтовок и орудий….» Кузьма Ильич вчитался в эти строки и вспомнил увиденную им, может быть, несколько месяцев назад картину, когда по улицам Харбина шли маршем колонны фашистов Константина Родзаевского. Они были одеты во всё чёрное, с белыми офицерскими кожаными портупеями и в нарукавных повязках с замысловатым орнаментом русской свастики. В их облике было что-то тревожное, неуютное и даже зловещее, заставившее поёжиться, как от холода, забравшегося под влажную, вспотевшую рубашку. Он тогда ещё подумал, как это страшно, что в этой чёрной массе есть и его внук.
Кузьма Ильич думал и немигающим взглядом смотрел на жёлтый огонек керосинки.
Как же он за эти годы сроднился с Сашиком.
В детстве мальчик был шумным проказником, любопытным, как все в его возрасте. У Тельнова не было своих детей, и он удивился, когда Сашик сразу назвал его дедом, не дедушкой, а именно дедом. Тельнова ещё удивило его домашнее имя – Сашик, потом он понял, что Анна Ксаверьевна его так называла, потому что в семье было два Александра: Александр – отец и Александр – сын. Сам Тельнов сразу принял Сашика как своего внука. Сашик вырос, проведя почти треть своей жизни у него на коленях.
Перед его взором снова встали колонны марширующих по харбинским улицам фашистов.
Всю жизнь Кузьма Ильич сторонился и политики, и партий, которых в Харбине развелось во множестве. Для него, старого московского мещанина, всё застыло и делилось только на «хорошее» и «плохое», «божеское» и «небожеское», на «за» то, о чём писал Фёдор Михайлович Достоевский, и «против» того, о чём писал Фёдор Михайлович Достоевский; поэтому ему что фашисты, что какие-то там легитимисты – было всё равно.
Точно так же Тельнов относился к тому, что происходило в России – в Советской России. Ему думалось, что, мол, – ну, революция! Это когда ничего не имущие восстали против всё имущих: надоели крестьянам помещики. Так было всегда: и при Алексее, и при сыне его Петре, и при Екатерине, и после реформ Александра, не говоря уже о Николае одном и Николае другом. Всегда «красный петух» заревал на русских горизонтах. А декабристы? Чего они стоили? Те и вовсе – свои против своих! Значит, недаром? Не потому ли в Гражданскую было так много крови? Хотя тут почти понятно – одни у других отобрали и вроде как себе поимели.
Так ведь и не поимели! Большевики раздали землю колхозам, то есть себе, а не крестьянам, как обещали. И заводы не достались рабочим! Были морозовские и путиловские, а стали?..
А сейчас Сталин своих передушил! Зачем же своих душить? Или только тех, кто переметнулся? Так уж больно много! И не могли все – переметнуться!
Тельнов помнил, с каким трудом Александр Петрович Адельберг сдерживал слёзы, когда узнал, что его бывшего командира – командующего Заамурским округом пограничной стражи генерала Мартынова, ставшего красным генералом, с часами которого он не расстаётся до сих пор, – год назад чекисты расстреляли у себя на Лубянке. Или не на Лубянке, это неизвестно. А известно то, что Мартынов к тому времени был уже никто в Красной армии, за десять лет до этого он вышел в отставку по возрасту. Так нет же, не пожалели старика. Не пожалели! И это в его-то семьдесят три года. Так, спрашивается, что же это за власть в России? И за что тогда столько людей угробили друг друга и до сих пор продолжают?
Ответа у Тельнова не было, он только понимал, что так нельзя.
Осознание политграмоты произошло у него, когда несколько лет назад, то ли в тридцать четвёртом, то ли в тридцать пятом году, фашисты по наущению японцев, а об этом гудел весь город, убили трёх харбинцев, а голову одного из них, какого-то Огнева, забросили аж во двор советского консульства. А кто они были, эти люди? Да не бог весть кто! Никому не известные! И зачем было забрасывать чью-то голову в советское консульство? Просто зверство, вот и всё. Как с теми казаками, которые, несмотря на прошедшие уже годы, так и не были забыты Кузьмой Ильичом. Они ему запомнились навек. И многое из того, что происходило в его жизни и в жизни окружающих его людей, воспринималось и оценивалось им через призму того случая на той маленькой, забытой богом сибирской станции.
«И все рассказывают про светлое будущее! Фашисты, что ли, – светлое будущее? Или НКВД – светлое будущее? Нету его – светлого!.. Вот такая она, «русская идея», всех нас и придавила, точно камнем», – думал старик.
Он разделся и лёг, и лампу погасил, и мешочек с иконками уложил в комодик, Аннушкин подарок: «Спасибо ей! Вот это – светлое настоящее! Даром что страна эта – Маньчжурия, а только здесь русские могут оставаться русскими».
И не спалось.
Не спалось и Анне Ксаверьевне.
Она поцеловала мужа, погасила ночник, повернулась на бок, затихла, но не заснула. Заснуть не давали мысли о Сашике и обо всех них.
Она давно потеряла следы своих родителей, письма от них перестали приходить где-то после июля семнадцатого. Она беспокоилась, думала даже ехать, но из России приходили такие вести, что ехать туда с маленьким сыном было немыслимо, а оставить его здесь и кинуться в неизвестность – невозможно. Так и осталась в неведении. Семья и сын стали тем единственным, ради чего она жила.
И вот сейчас, когда он вырос и стал уже таким взрослым и таким красивым и умным, – вот сейчас его надо будет отдавать в японскую или какую-то другую армию! И с кем воевать? Если правда то, о чём говорил Александр, – то воевать придётся со своими, с русскими, пусть даже с советскими.
Она – полячка, дворянка и католичка – давно уже считала себя русской. Маньчжурия стала её нерусской родиной, славянские, русский и польский, языки – её языками, хотя русский уже больше. А её Сашик – наполовину поляк, наполовину немец – даже и не задумывается – кто он. Русский гимназист, русский студент, дружит с девушкой со скандинавской фамилией, говорит по-русски, по-польски и по-китайски и уже почти освоил японский. Он – русский сын русских дворян. Он и сам так думает, она это знает!
Она давно лежала почти не шевелясь, боясь потревожить мужа. Над её головой висели их с Александром две свадебные фотографии. Они недолго выбирали, где им венчаться – католичке и лютеранину; Александр пошёл ей навстречу, и они обвенчались в костёле Святой Екатерины на Невском проспекте. Одна фотография была сделана около высокой арки костёла, другая – уже в студии. Сашик показал ей именно эту фотографию в тот день, когда Александр вернулся домой, в Харбин.
Она не спала и лежала, боясь потревожить мужа, а он тихо, чтобы не потревожить её, встал, собрал папиросы и спички и вышел из спальни.
Глава 10
Александр Петрович тоже не мог заснуть.
Сегодня к нему в Беженский комитет позвонил заместитель начальника Императорской японской военной миссии полковник Асакуса и пригласил поужинать. Звонок раздался к самому концу рабочего дня, видимых причин для отказа у Александра Петровича не было.
Закончив работу, Адельберг вышел на улицу и сразу увидел большой чёрный лимузин полковника, из него выскочил адъютант и услужливо открыл дверь.
Александр Петрович сел на заднее сиденье, они приехали на Соборную площадь и остановились около гостиницы «Нью Харбин». Она была недавно построена и светилась высокими прямоугольными окнами всех своих пяти этажей.
Адельберг жил совсем близко, практически рядом, и её строительство проходило на глазах. После японской оккупации в Харбине начался строительный бум, и всем было интересно, что предстанет перед глазами харбинцев, когда снимут строительные леса. Предстал пятиэтажный серый, по харбинским понятиям небоскрёб, лишённый чего-либо примечательного и совсем не гармонировавший с соседними домами. В центре Харбина, на Большом проспекте стояли особняки в стиле модерн: Ковальского, Остроумова, Скидельского, Джибелло-Сокко – с красивыми оградами и орнаментами оконных переплётов, ажурные Московские ряды, украшенные главками и шпилями; и в центре круглой площади – построенный брёвнышко к брёвнышку, как будто перенесённый с Русского Севера Свято-Николаевский собор.



