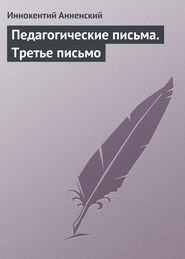 Полная версия
Полная версияПедагогические письма. Третье письмо
Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не чувствуемъ мы уже давно потребности улучшить хотя-бы акустическую форму рѣчи нашихъ учениковъ? Тѣ-же самые юноши, которые такъ ясно, свободно, громко говорятъ съ товарищами въ залѣ и корридорѣ, которые возбуждаютъ своими легкими нашу зависть, когда смѣются и поютъ, за урокомъ, въ классѣ отвѣчаютъ тихо, какъ-то сквозь зубы, неувѣренно, однотонно, съ вѣчнымъ вопросомъ въ голосѣ. При чтеніи ученики не умѣютъ справиться со своимъ дыханіемъ, передавая сколько-нибудь длинный періодъ, a декламируютъ чаще всего на распѣвъ или въ носъ, если подражаніе актерамъ не наведетъ ихъ на мысль грубо лицедѣйствовать.
Вопросъ объ ороѳэпіи, выразительномъ чтеніи, декламаціи y насъ стоитъ на очереди. Мы положительно запустили устную рѣчь. Не могу не припомнить по этому поводу словъ очень почтеннаго педагога, который считалъ неправильное произношеніе болѣе серьезнымъ недостаткомъ, чѣмъ малограмотность: по его словамъ, если человѣкъ плохо пишетъ, онъ дурно образованъ, a запущенный, небрежный выговоръ есть прямо недостатокъ воспитанія.
Можетъ быть, проектированныя здѣсь устныя сочиненія оказались-бы полезными не только для упражненія творческой способности для нихъ легче выработать планъ, матеріала не надо придумывать, не надо набирать его въ чужихъ фразахъ, статьяхъ, на половину понятыхъ отзывахъ. Сочиненіе на курсовую тему можетъ быть и гораздо богаче, и лучше обставлено. Учитель, не выходя изъ предѣловъ своего курса, можетъ остановиться на разъясненіи, разработкѣ темы и передъ ея задаваніемъ, и послѣ раздачи сочиненій. Но особенно цѣнно въ данномъ случаѣ, что ученикъ, когда пишетъ на литературную тему, можетъ сосредоточиться на самыхъ яркихъ, прекрасныхъ, поучительныхъ явленіяхъ литературы, что онъ вчитывается, вдумывается въ высокое поэтическое созданіе, проникается его эстетическими и этическими задачами.
Устныя сочиненія должны отличаться отъ письменныхъ не столько по характеру темы, сколько по ея объему. Для устнаго сочиненія я-бы назначалъ небольшіе, частные вопросы, связанные съ извѣстнымъ литературнымъ произведеніемъ и не требующіе детальнаго и сложнаго разбора. Вотъ примѣры: 1) Что можно сказать въ защиту Креонта? («Антигона», Софокла). 2) Отношеніе эпилога «Полтавы» къ самой поэмѣ.
Мнѣ кажется, что хорошо подобранныя литературныя темы могутъ съ успѣхомъ замѣнить, такъ называемыя, «отвлеченныя». Во всякомъ случаѣ, есть одинъ типъ этихъ отвлеченныхъ темъ, котораго-бы я совѣтовалъ избѣгать: это темы, построенныя на предрѣшенномъ вопросѣ: «Почему поэзія есть высшее изъ искусствъ?» «Почему слѣпой несчастнѣе нѣмого?» Подобныя темы пріучаютъ юношу къ софизмамъ, т.-е. къ искусственному подбору доказательствъ для подтвержденія такой мысли, которая не имѣетъ корней въ его сознаніи.
Темы-пословицы, нѣкогда столь излюбленныя, теперь почти брошены, да и слава Богу. Всѣ эти «перлы народной мудрости» гораздо красивѣе въ басняхъ Крылова, чѣмъ въ ученической тетради. Мнѣ лично никогда не приводилось читать сочиненій столь пошло-шаблонныхъ, безъ проблеска творчества и оригинальности, какъ тѣ, которыя писались подъ заголовками «Не все то золото, что блеститъ», «По одежкѣ протягивай ножки», «Тише ѣдешь – дальше будешь».
Я не говорю уже о малой методической пригодности темъ на пословицы, такъ какъ въ нихъ, нѣтъ никакихъ данныхъ для выработки плана. Есть тутъ и еще одно неудобство. Ученикъ старшихъ классовъ знаетъ, что пословица – это особый, очень любопытный видъ народной словесности, имѣющій свою исторію, свою систему. Пословицы часто отражаютъ древній бытъ, минувшія событія, старыя вѣрованія. Многіе ученики знаютъ навѣрное кое-что и объ исторіи пословицъ и поговорокъ, о любопытной обстановкѣ, въ которой складывались наши «крылатыя слова» (ἕπεα πτερόεντα, fliegende Wörter), въ родѣ «по Сенькѣ и шапка»: y насъ есть объ этомъ любопытная книга маститаго этнографа С. Б. Максимова.
Само собой разумѣется, что историческимъ, бытовымъ, этимологическимъ и инымъ разъясненіямъ пословицы въ ученическомъ сочиненіи не мѣсто, и вотъ юноша, которому на урокѣ словесности объяснили истинное значеніе, исторію пословицъ, долженъ искусственно ставить себя въ наивное, непосредственное отношеніе къ такъ называемымъ «перламъ народной мудрости», при этомъ не всегда особенно цѣннымъ въ смыслѣ этическомъ.
Темы историческія въ отношеніи методическомъ ближе всего подходятъ къ литературнымъ, но съ ними вотъ какая бѣда: разрабатывая историческую тему, ученикъ можетъ легко запутаться въ слишкомъ обильномъ фактическомъ матеріалѣ и, вмѣсто сочиненія, т.-е. разсужденія, y него выйдетъ тогда своего рода изслѣдованіе; a не то, еще хуже, онъ проявитъ верхоглядство, претенціозность. Такъ бываетъ при темахъ слишкомъ широкихъ, въ родѣ «Значеніе крестовыхъ походовъ», или темы, которую, между прочимъ; проектировалъ г. Добровскій: «Условія, содѣйствовавшія занять (?) древнимъ грекамъ передовую роль въ культурной исторіи древнихъ народовъ».
Наставникъ не справился даже съ темой, не совсѣмъ грамотно ее изложивъ, a хочетъ чтобъ юноша справился съ сочиненіемъ на эту тему. Нѣтъ, мнѣ всегда подобныя темы казались смѣшными, и даже прямо вредными[4]. Въ самомъ дѣлѣ, не наивно-ли предполагать, что мы содѣйствуемъ всестороннему развитію, если задаемъ ученикамъ темы, требующія всесторонняго развитія? Развитіе идетъ медленно, исподволь, a самообольщеніе, которое поддерживается задаваніемъ непосильныхъ темъ, есть одинъ изъ тормозовъ на пути правильнаго развитія.
Мнѣ остается сказать только о способѣ выполненія письменныхъ сочиненій.
Опытъ развилъ во мнѣ глубочайшее убѣжденіе, что русское сочиненіе, особенно въ старшихъ классахъ, гдѣ оно должно являться болѣе отвѣтственнымъ и серьезнымъ, полезно лишь въ случаѣ основательной, не спѣшной, вдумчивой работы. Въ теченіе класснаго урока иногда впору справиться только съ планомъ: соблюсти-же въ 50–55 минутъ всѣ условія хорошаго сочиненія: каллиграфію, орѳографію, стиль, планъ, логическое развитіе темы, это – вещь едва-ли выполнимая. Къ сожалѣнію, ученики чаще всего жертвуютъ орѳографіей, a это ужъ прямо вредно. Можетъ быть для классной работы полезнѣе давать не сочиненіе, a изложеніе (урока словесности, исторіи, главы классика, пѣсни Иліады).
Домашнее сочиненіе, во всякомъ случаѣ, несравненно полезнѣе.
Оно можетъ и должно быть написано хорошо съ внѣшней стороны, a если въ немъ есть орѳографическія ошибки, то ученика надо прямо стыдить – это уже признакъ небрежнаго отношенія къ дѣлу, неблаговоспитаниости: онъ, вѣдь, имѣетъ возможность дома провѣрить правописаніе по словарю и грамматикѣ, да и y добрыхъ людей спросить, если сомнѣвается.
Случаи, когда ученикъ не самъ пишетъ работу, очень рѣдки, потому что въ громадномъ большинствѣ случаевъ ученики любятъ писаніе сочиненій, и въ школьномъ міросозерцаніи русское сочиненіе всегда считалось работой «полезной».
Затѣмъ, развѣ мы не имѣемъ возможности убѣдиться въ самостоятельности работы?
Да, наконецъ, развѣ можно какой-нибудь взглядъ на учебное дѣло, на программу школы основывать на томъ, что дѣти лгутъ.
Вотъ вамъ, Яковъ Григорьевичъ, нѣсколько было высказанныхъ, но долго жившихъ во мнѣ мыслей,
Ума холодныхъ наблюденійИ сердца горестныхъ замѣтъ.Подводя итогъ сказанному, повторяю: наши ученики пишутъ очень много, но имъ даютъ возможность дѣлать ошибки и привыкать къ ошибкамъ: пусть пишутъ меньше, да правильнѣе. Пусть письменная работа станетъ упражненіемъ, a не замаскированнымъ экзаменомъ.
Пусть письменныя работы будутъ поставлены въ болѣе нормальныя условія и чаще даются на домъ, a урокъ пусть служитъ для класснаго обученія, для совмѣстной, живой работы. Пусть въ нашей педагогической средѣ установится сознаніе въ необходимости тѣснѣе сблизить письменную работу съ устнымъ преподаваніемъ, и пусть за этимъ послѣднимъ, какъ болѣе подходящимъ къ задачамъ школы, установится подобающая ему роль – руководящая.
Примечания
1
Первыя два письма почтеннаго автора были помѣщены въ «Русской Школѣ» за 1892 годъ: первое письмо – «Языки въ средней школѣ» напечатано въ іюльско-августовской книжкѣ за 1892 годъ, a второе – «Къ вопросу объ эстетическомъ элементѣ въ образованіи» въ ноябрьской книжкѣ нашего журнала за тотъ же годъ. Ред.
2
В. М. Добровскій. «О причинахъ малоуспѣшности въ дѣлѣ преподаванія Русскаго языка и литературы въ связи съ вопросами о концентраціи учебно-воспитательной части нашей средней школы, о школьныхъ бесѣдахъ и переутомленіи учителей русскаго языка» («Филолог. Зап.», 1894, II–III, 1-38).
3
Подобные конкурсы существуютъ въ Кіевскомъ учебномъ округѣ, при мѣстномъ отдѣлѣ Общества классической филологіи и педагогики.
4
Соглашаясь вполнѣ съ мнѣніемъ почтеннаго автора предлагаемаго здѣсь читателямъ «Русской Школы» педагогическаго письма относительно трудностей. связанныхъ съ историческими темами, мы, съ своей стороны, считаемъ нужнымъ указать еще на одно обстоятельство, говорящее противъ задаванія историческихъ темъ, для которыхъ почва не подготовлена самостоятельнымъ чтеніемъ учениковъ рекомендованныхъ преподавателемъ статей и сочиненій и руководящими вопросами послѣдняго. Дѣло въ томъ, что, при современной обычной постановкѣ преподаванія исторіи въ нашихъ средне-учебныхъ заведеніяхъ, всѣ историческія познанія учениковъ черпаются почти исключительно изъ учебныхъ руководствъ, изложеніе которыхъ страдаетъ шаблонностью и безцвѣтностью и никоимъ образомъ не можетъ служить образцомъ изложенія; сочиненія-же учениковъ, писанныя на основаніи руководствъ, представляютъ только печальную перефразировку изложенія даннаго авторомъ руководства, поражающую обыкновенно крайнею поверхностностью пониманія излагаемыхъ явленій. Другое дѣло, если историческія сочиненія пишутся на темы, вполнѣ доступныя ученикамъ, разработанныя предварительно класснымъ преподаваніемъ и на основаніи серьезныхъ и обстоятельныхъ статей, a тѣмъ болѣе монографій, прочитанныхъ учениками съ должнымъ вниманіемъ. Ред.



