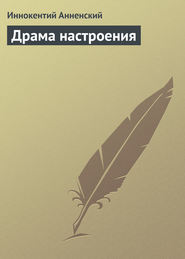 Полная версия
Полная версияДрама настроения
Тузенбах видит здесь логическую ошибку, а Маша чувствует разбитое сердце. Маша русская – пожалела и полюбила – и все стало трын-трава. Ну да, люблю… целую… Ну… Милый… Милый… Вот если бы… Положим, Федор Ильич… Ну Федор Ильич уж как-нибудь… Ольга? Москва? Могилы в Симоновом монастыре… Да… могилы, конечно, но ведь жизнь-то одна… Ищи ее потом. Эх, Маша, бедная Маша! Курить, поди, выучится. А то и сплетничать… Как, Маша? Никогда. Вы не знаете нашей Маши. У Вершинина тоже своя Москва. Только его Москва не теперь, а через триста лет. Мне, конечно, что же, я человек конченый, кровать, два стула, не все ли равно где доживать? Да и стою ли я лучшего? Но вы, вы? Единственная, несравненная. Господи, скольким он это говорил… а все же он – милый… Потому что если бы жалеть было некого, если бы Вершининых не было, так ведь русская женщина застыла бы, сердце бы у нее атрофировалось, поймите. Вы думаете, что Вершинин Дон Жуан или хотя бы Сердечкин[10]? Как вы ошибаетесь, как вы не знаете своего сердца, русского сердца. Нет, Вершинин отвлеченнейший человек. Он – это мы, это Россия. Это вся бесплодность самозабвения. И он действительно любит труд. Но труд-то для него не труд, а скорее какой-то длинный, длинный разговор, вот как все эти, – бестолковый, бесполезно-горячий, философский по туману и благородный по своей полной неприкосновенности к жизни. Итак, в мечте-то Вершинин всегда трудится, т. е. он говорит. Я говорю в мечте, потому что, если прикажут, если будет не его, Вершинина, мечта, а чья-то высшая воля, он пойдет и умрет, и об Маше не вспомнит, и философию забудет…
Но войны нет теперь, и Вершинин мечтает… Вокруг походная обстановка. Бедно, знаете, но это греет. Жена бы отравилась, что ли, наконец… Нет, не надо, – ну просто куда-то и неизвестно куда исчезла. Словом, нет жены. Девочек тоже нет… Спят или в Ксениевском институте, словом, в картине им нет места… А около лампы чьи-то две белых и нежных руки набивают ему, Вершинину, папиросы, и чьи-то глаза, знакомые, серые, но бывающие и синими, глядят на него и жалеют его… Не улыбаются, а серьезно жалеют… Боже, как он устал… от разговора… то бишь труда этого самого. Но какая награда! И знаете ли, что в этой награде самое лучшее? Вы думаете руки? Вовсе нет. А то, что вместе с этой лампой, и этим остывшим самоваром, и ровно дышащей за розовым корсажем грудью приходит и в какой-то неловкой позе становится тут же ни более ни менее как Общее Счастье… Да, это оно, несомненно оно. Черт его знает, откуда и как, но оно явилось. Не Кулыгин же его, в самом деле, привел. А он тоже доволен теперь, он директор, и все теперь сбрил, не только усы, но и бакены также. Уж не Ферапонт ли затащил это общее счастье с управскими бумагами? Как-то, видите ли, вышло так, что собрались неглупые, искренние люди и честные натуры, сидели, сидели, желали, желали, раскинули на бобах, – и все теперь довольны, и трехсот лет ждать не надо. Поработайте-ка вы сами, потомки, а с нас довольно… и мы, уж извините, будем себе спокойно спать на кроватях с любимыми женщинами. О, сила красоты!..
То, что является драмой для Маши, то, что таким ореолом светится около нежной Ирины, – какой это фарс около лысеющей головы Вершинина! Позвольте, господа… Вы забыли еще одного москвича… Вы забыли наш последний фазис… Теперь это чуть видный серп и не светит нисколько… Но, господа, ведь этот серп был тоже когда-то полнолунием, и он гляделся в реку и серебрил реку, а на реке качалась лодка, и белая, неестественно белая в лунной полосе рука тянулась за желтой лилией.
А он глядел, любовался и молчал. И зачем он, глупый, молчал? Нет, о нет же, мы-то не будем такими. Что за ужас… Оставьте… Конечно, он и жалкий, и милый, и честный… Но ведь он пьет… Что же из того, что пьет? Это кому как бог даст. Но посмотрите ж, однако, ведь он даже не читал Шекспира. Он знает Добролюбова из газет… Понимаете, даже не из «Мира божия»[11], а из газет. Он не знает, что Вольтера называли фернейским отшельником и что он… что он был… атеистом, что ли? Или нет, постойте… Как это? La pucelle. La pucelle.[12][13].
А по-моему, господа, у Чебутыкина тоже только наша общая душа… И такая же она у него совершенно, как и у вашей благородной и нежной Ирины. Ирина-то вот сейчас клянется, что пойдет в школу, что она будет работать… а снег падать, а она работать и т. д. И так ей, бедной, пока она говорила, стало жаль, и не Тузенбаха, который убит из-за нее, убит, оттого что у нее турнюр и глаза умирающей лани, а себя жалко, потому что она… Ирина… Понимаете, Ирина, перед которой все упадают… И вдруг она скажет: дети, откройте северного оленя на 24 странице хрестоматии. К вечеру у Ирины разболятся зубы. Ольга уложит ее и закутает в оренбургский платок. Потом Ирина наденет черное суконное платье… Я не знаю, что будет дальше, но я слышу одно: завтра, завтра… Москва… Школа… Триста лет… Бобик спит… Ну и пускай, все это прекрасно, живите, бог с вами, кто как умеет, но, право же, и «Тарабумбия… сижу на тумбе я», ну, ей-богу же, я не понимаю, чем этот резон хуже хотя бы и кирпичного завода в смысле оправдания жизни.
Список сокращений
КО – «Книга отражений».
2КО – «Вторая книга отражений».
Бкс – Бальмонт К. Будем как солнце. В изд.: Бальмонт К. Д. Собрание стихотворений. М., 1904, т. 2.
Блок А. – Блок А. Собрание сочинений: В 8-ми т. М.-Л., 1960–1963.
Вн – Брюсов В. Все напевы. М., 1909 («Пути и перепутья», т. 3).
ГБЛ – Отдел рукописей Государственной библиотеки СССР им. В. И. Ленина.
Гз – Бальмонт К. Горящие здания. В изд.: Бальмонт К. Д. Собрание стихотворений. М., 1904, т. 2.
ГИАЛО – Государственный Исторический архив Ленинградской области.
ГЛМ – Отдел рукописей Государственного Литературного музея.
ГПБ – Отдел рукописей Государственной Публичной библиотеки нм. М. Е. Салтыкова-Щедрина.
ГСс – Гиппиус 3. Н. Собрание стихов. Кн. 1–2. М., 1904–1910.
ЕИТ – журнал «Ежегодник императорских театров».
ЖМНИ – «Журнал Министерства народного просвещения».
ИРЛИ – Отдел рукописей Института русской литературы (Пушкинский Дом) АН СССР (Ленинград).
Кл – Анненский И. Ф. Кипарисовый ларец. М., 1910.
Мд – Гоголь Н. В. Мертвые души.
МБ – журнал «Мир божий».
Пн – Достоевский Ф. Н. Преступление к наказание.
Псс – Майков А. Н. Полное собрание сочинений: В 3-х т. СПб., 1884.
Пк – Сологуб Ф. Пламенный круг. Стихи, книга восьмая, М., 1908.
Пп1-Пп2 – Брюсов В. Я. Пути и перепутья. Собрание стихов, т. I–II. М., 1908.
РБ – журнал «Русское богатство».
Рс 1–3 – «Русские символисты». Вып. 1. М., 1894; вып. 2. М., 1894; вып. 3. М., 1895.
РШ – журнал «Русская школа».
Тл – Бальмонт К. Д. Только любовь. М., 1903.
Тп – Анненский И. Ф. Тихие песни. СПб., 1904.
Uo – Брюсов В. Я. Urbi et orbi. Стихи 1900–1903 гг. М., 1903.
ЦГАЛИ – Центральный Государственный архив литературы и искусства (Москва).
ЦГИАР – Центральный Государственный исторический архив СССР (Ленинград).
Примечания
1
«Новое время» – политическая газета, издававшаяся в Петербурге с 1868 по 1917 г.
2
«Я не слышу тебя. Маша…» – У Чехова: «Я не слышу все равно. Какие бы ты глупости ни говорила, я все равно не слышу» (III, с. 163).
3
Ну, да что уж там с вами делать? – У Чехова: Вершинин: Я пришел проститься… (Ольга отходит немного в сторону, чтобы не помешать прощанию) (IV, с. 175).
4
Мари, вы немного грубоваты (фр.).
5
Юлиан (331–363) – римский император, деятельность которого была посвящена возрождению язычества; за это был прозван «отступником».
6
Бисмарк фон Шенгаузен Отто (1815–1898) – государственный деятель и дипломат Пруссии и Германии.
7
Гладстон Уильям (1809–1898) – английский государственный и политический деятель.
8
О, только бы Иерусалим не изменил. Горит ли еще на западе его тень?.. – Намек на стихотворения А. С. Хомякова «Широка, необозрима…» (1858) и «Мечта» (1835). Указано Б. Ф. Егоровым.
9
…егеровская фуфайка… – тонкое шерстяное нижнее мужское белье, названное по имени Отто Егера, немецкого теоретика гимнастики.
10
Сердечкин – вероятно, герой какого-нибудь популярного водевиля; устаревшее – влюбчивый человек («Словарь современного русского литературного языка», т. 13).
11
«Мир божий» – ежемесячный литературный, политический и научно-популярный журнал; издавался в Петербурге в 1892–1906 гг.
12
Девственница (фр.).
13
…Вольтера называли фернейским отшельником… La pucelle… – В 1758 г. Вольтер, удалившись от политической и светской жизни, поселился в своем имении Ферне, на границе Франции и Швейцарии. Отсюда – «фернейский отшельник». «La pucelle d Orleans» («Орлеанская девственница», 1735) – поэма Вольтера.

