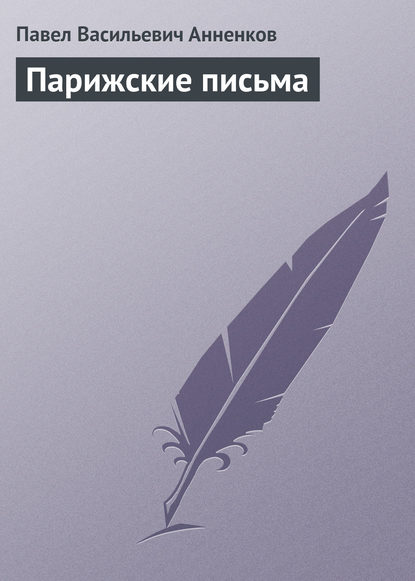 Полная версия
Полная версияПарижские письма
Еще несколько слов по случаю этой комедии. Я заметил, что избранная публика Королевского театра всегда сильно потрясена резонерскими выходками пьесы. Кто знает, что в обществе французском резонерство весьма мало, тот должен, конечно, удивиться присутствию его в искусстве. Я не говорю о проповедническом начале, которое вплетается почти во все произведения Мольера: наставления этого гениального человека до того проникнуты любовью к людям, здравым смыслом, исполненным чистоты, что имеют силу даже до сих пор. Я говорю о тяжелом ходе некоторых условных моральных положений, которые проникают всюду, даже в исторические и экономические сочинения и, сказанные перед публикой, всегда вызывают электрическую искру. Для меня явление это объясняется только вечною молодостью народа, который может быть потрясен всяким общим местом, лишь бы представляло оно воображению благородный, увлекательный образ. На представлении комедии г. Араго я смотрел столько же на пьесу, сколько любовался самим автором, выглядывающим из-за нее, и наблюдал волнение публики, слушающей его. Это было, так сказать, тройное представление для меня, и вот почему я так долго и остановился на нем.
В ту минуту, как я пишу вам, Королевский театр празднует новый и решительный успех. Трагедия г-жи Жирарден: «Клеопатра», благодаря мастерству г-жи Рашель, интересному полу, к которому принадлежит автор, многочисленным друзьям г. Эмиля Жирардена и сценическим эфектам, была принята с великим одобрением. Завязка ее могла бы показаться стара на всяком другом театре, но, привязанная к историческим именам и к лицам в котурнах и тогах{284}, она получает какого-то рода новизну. Приятно видеть, что Антонии и Августы думают и поступают так, как будто знакомы с новейшею мелодрамой. Этот оттенок, приобретенный классическою современною трагедией, уже давно развит г-жею Жирарден с несомненным превосходством. Она пошла так далеко, как до нее никто не доходил. Дурная репутация, каковою пользуется Клеопатра в истории, показалась г-же Жирарден преувеличением профессоров истории, большею частью мужчин. Плутарх{285} был, как известно, мужчина. Порочной женщины в таком неимоверном градусе г-жа Жирарден никак не могла себе представить, да оно, конечно, теперь и трудновато несколько. Кто же ныне так коварен, так очарователен, так бесстыден и жесток в наслаждениях? Если кто и провинился в наше время, так это более из удовольствия приобрести на всю остальную жизнь поэзию раскаяния, чем из страсти. Считая все рассказы про Клеопатру выдумкой, г-жа Жирарден почувствовала призвание восстановить и оправдать Клеопатру: услуга женщины оклеветанной сестре своей тем более замечательная, что исходит от особы, пользующейся, по справедливости, всеобщим уважением и ничем не запятнанной. Со всем тем, эта попытка восстановления, оправдания (réhabilitation)[56] приобрела участь всех современных попыток этого рода. Лицо сделалось гораздо хуже после восстановления, чем было до него. Точно то же случилось даже с талантливым Луи Бланом. Он так, например, восстановил в последнем своем произведении Лоу{286}, Колонна{287} и других, что эти лица не только сделались другими, да и совсем перестали быть ими: вышли невозможными лицами. Тем менее могла надеяться г-жа Жирарден на успех своей попытки. И действительно, Клеопатра продолжает быть порочной женщиной, но мягко, нерешительно, с частыми укоризненными возвращениями на самое себя и горьким воззванием к добродетели, оскорбленной ею. Клеопатра г-жи Жирарден все то выиграла в нравственном достоинстве, что потеряла в характере и в облике, данном ей историей. Сцена, где Клеопатра г-жи Жирарден сознает моральное величие оставленной жены Антония и кается перед ним, столько же похвальна по намерению, сколько ложна в отношении обоих лиц. Это торжество и падение автора. Правда и то: нельзя в одно время иметь все за себя – историю и свою собственную цель, хорошую трагедию и благонамеренность побуждений. Довольно, когда произведение может служить характеристикою современного быта, а это качество несомненно принадлежит новой трагедии г-жи Жирарден.
Но будет о театрах; поговорим о другом. Люди, утверждающие, что время сильного влияния книг на народ уже прошло, получили недавно фактическое опровержение. Брошюра г. Капфига «La présidence de M. Guizot»{288} доказала, что не только хорошие книги могут еще производить шум и влияние, но даже и весьма плохие способны к этому. Правда, автор смешных биографий современных дипломатов выбрал весьма удобное время, чтоб пустить в ход свою книгу. Во-первых, она появилась почти вслед за манифестом г. Ламартина и могла показаться официальным опровержением его. Известно, что в декларации своей г. Ламартин, всегда находящийся в восторженном состоянии, поднял вместе с политическими и социальные вопросы, предлагая для разрешения последних устроить два новых министерства: публичной благотворительности и народной жизни. Г. Капфигу показалось очень кстати отвечать на странность этого предложения еще большею странностью, именно – посоветовать искоренение всякой жизни. Во-вторых, давно уже носились слухи, что г. Ленге (Lingnet){289}, директор в министерстве иностранных дел, занимается историей семилетнего существования нынешнего министерства. Г. Капфигу показалось крайне остроумно прибавить под заглавием своей книги: «par un homme d'Etat»[57], и спустить ее как ожидаемое сочинение г. Ленге. Этот род остроумия очень часто и у нас встречается в рядах, где потемнее. Основанное на двойной спекуляции, сочинение г. Капфига отличается еще тем, что упрекая кого следует в снисходительности к некоторым закоренелым мнениям и к веселой жизни парижан, советует прибавить и то, и другое: результатом, разумеется, будет тишина в головах и на улицах! Поднялся говор; думали, что это программа нынешнего президента. Я того и ждал, что биржу запечатают, появится комиссар и отберет с окон магазинов музыкальные сочинения, гравюры, изображающие Павла и Виргинию{290}, и книги вроде «Voyage pittoresque autor du monde»[58]. Все это, конечно, можно заместить чем-нибудь дельным, например: собранием документов, записками академии и историей просвещения в Европе в бесчисленном количестве экземпляров, но я недоумевал, какое употребление сделают из танцорок публичных балов, которые, вероятно, были бы тоже закрыты.
Впрочем, шум продолжался недолго. «Journal des Débats» торжественно отказался от г. Капфига и одною статьей отбросил его в ничтожество, из которого ей никогда и выходить не следовало.
Теперь общественная мысль занята двумя новыми происшествиями – самоубийством г. Брессона и помешательством графа Мортье{291}, едва не зарезавшего своих детей. Официальный рассказ последнего происшествия возбуждает много толков: удивляются, как призванные графиней сановники могли три часа без действия стоять у дверей, наблюдая страшную сцену безумного отца, вооруженного бритвой и трепещущих перед ним детей, как наконец, могли прорубить стену (реляция говорит: «une porte condamnée»[59]), не обратив внимания графа, и проч. Подозрительные люди видят в этом происшествии новую, непонятную и страшную драму; но ведь, надо и правду сказать: подозрительные люди иногда совершенно напрасно считают самих себя прозорливыми людьми. Это только смешение понятий, а не истина; истину откроет время!
Истина только теперь наступает для события, совершившегося во дворце Себастьяни. Несчастная графиня Пралень, так бесчеловечно зарезанная, останется надолго образцом женщины, вполне и строго понимавшей супружеские обязанности. Она требовала от мужа всего человека, всего существа его, так точно, как сама отдалась ему. Ни малейшего снисхождения, никакого послабления, так облегчающих в семейной жизни исполнение долга, не дозволяла она ни себе, ни ему. С какою-то суровою строгостью доказывавшею, между прочим, присутствие невидимого директора совести, она отказывалась от необходимости взаимных уступок. Крепко опираясь на свои права законных семейных наслаждений, герцогиня единственно занята была мыслью вступить в полное обладание ими и действительно потеряла способность воспитывать детей своих. Редко можно встретить характер более полный, более благородный и вместе непреклонный: ограниченность сферы еще увеличивала силу его порывов. С другой стороны, убийца-герцог, смотревший на жизнь гораздо проще, был приведен ежедневным оскорблением его гордости, достоинства и независимости к сопротивлению, которое превратилось скоро в отчаянное злодейство. Катастрофа явилась тут сама собою и покрыла имя герцога позором, а злополучную супругу увенчала ореолом в искупление ее страшной мученической смерти. Нам, как посторонним наблюдателям, дозволено будет сказать, однакож, что по сущей правде они оба, и герцог, и герцогиня, равно усердно работали для ускорения трагической развязки, которая постигла их.
Вот почему не совсем понятна для меня несколько сантиментальная литература, образовавшаяся вокруг этого события как здесь, так и в других странах Европы. Происшествие, видимо, серьезнее, чем брошюры о нем. Желание схватить поучительную сторону его заметно только в одной книге, которая принадлежит г-же Каза-Мажор{292} (Casa-Major) и носит довольно хитрое название: «Pathologie du mariage»[60]. Многие из ее глав, говорят, подсказаны автору учеником и ревнителем Анфонтена{293}, старым Баро{294} (Barault). К несчастью, тут уж не может быть помину об исторической верности, а именно на ней-то и основывает автор свои выводы. Как только воззрение автора сталкивается с примером – или пример разрушает воззрение, или воззрение не сходится с примером. Это часто бывает, когда от события во что бы то ни стало хотят добиться показания в пользу собственной идеи. Выходит, что рассуждения о положении женщины в обществе и о пристрастии французского кодекса к мужчине могут быть написаны с жаром, а к делу совсем не идти. Но самое любопытное в книге – это разрешение, предлагаемое автором всему вопросу. Он требует именно вмешательства государства тотчас, как начинают запутываться дела человека. Здесь это почти всеобщий и неизменный рецепт при всяких затруднительных случаях, где писатель не знает, что сказать. Одно слово «l'état»[61] все разрешает и выпутывает из беды как автора, так и читателя, к обоюдному их удовольствию. Подумаешь, что магическое слово это увольняет каждого человека от управления самим собою, от труда искать законного благосостояния и от необходимости основывать его собственными силами.
На днях освобождена из тюрьмы девица де-Люзи, бывшая гувернанткой в доме Пралень, которая три месяца находилась в заключении и притом долгое время отдельно от всех (au secret)[62], что составляет, как известно, само по себе строгое наказание. Из напечатанных писем и отрывков журнала можно заключить, что г-жа де-Люзи, вообще свободно развитая, мало понимала фанатизм многих правил и убеждений, царствовавших в доме, где она была принята. К тому же она имела своего рода гордость – гордость бедности, упорство незначительного человека, который старается сберечь свое достоинство перед знатным. Все усилия юстиции привязать ее к ужасному преступлению каким-нибудь фактом остались безуспешны. Со всем тем трехмесячное заключение, которому она была подвергнута, вероятно, было необходимо для искупления преступных мыслей и надежд, какие мог иметь злодей-герцог, а также для искупления тех мучений ревности и законного негодования, какие только могла иметь герцогиня. Наказывая г-жу де-Люзи, юстиция поступила точь-в-точь, как будто она принадлежала к школе покойного Балланша, который видел всюду необходимость очищения (expiation)…
С некоторою смелостью можно сказать, что общественный разговор всего Парижа вращается теперь между этими трагическими происшествиями да еще обедами в пользу парламентской реформы{295} и швейцарскими делами{296}. Что касается до первого предмета, то мнения о нем чрезвычайно различны. Иные говорят, что обеды эти связываются с народной почвой только посредством шампанского; другие наоборот утверждают, что это – единственная вещь, которая может теперь серьезно беспокоить твердое, установившееся министерство. Последним происшествием в истории политических обедов был раздор, оказавшийся в недре самих оппозиционных партий, за которым, вероятно, последует анархия и совершенное уничтожение меры, как это уже часто здесь бывало.
Журналы известили об открытии Ниневийского музея{297}, но он еще до сих пор не открыт, и я только снисходительному позволению директора королевских музеев г. де Калье{298} обязан был честью видеть эти удивительные памятники. Всем известно, каким образом достались они Франции. Консул ее, г. Ботта (Botta){299}, вздумал прорыть горку, на которой расположилась ничтожная деревушка по соседству с старою Ниневией, и имел удовольствие открыть царский дворец с бесчисленным количеством скульптурных произведений и гвоздеобразных надписей. Правительство тотчас же послало ему военное судно и искусного живописца в особе г. Фландена (Flandin){300}. Они срисовали те памятники, которые от внезапного действия воздуха разрушались в их глазах, нагрузили остальными присланное судно, причем колоссальные статуи распилены были на три и четыре куска, и теперь эти представители ассирийского народа и древнейшей известной цивилизации находятся в одном углу великолепного четырехугольника, образуемого Лувром.
Признательно сказать, впечатление, произведенное на меня этими остатками, было сильнее, чем я ожидал. Я уже видел в British muséum[63] в Лондоне несколько фигур из развалин Персеполиса, довольно подробно осматривал богатое издание гг. Коста{301} и того же Фландена «Voyage en Perse»[64], где памятники монархии Ахеменидов{302}, имеющие большое родственное сходство с ниневейскими, переданы с удивительным искусством; наконец, очень пристально смотрел на рисунки гг. Ботта и Фландена с настоящих ниневейских остатков в превосходном сочинении «Monuments de Ninive»[65], которого теперь вышло тридцать девять тетрадей (полное издание будет состоять из девяноста тетрадей и стоить 1.800 франков); но все это приготовление ни к чему не послужило. Когда действительные памятники очутились у меня перед глазами, мне показалось, будто я видел прежде детскую игру, которая едва-едва успевает подделаться под окрепшую и возмужалую жизнь.
Ниневийский музей состоит из двух больших и высоких зал. В первой из них находятся барельефы с фигурами выше роста человеческого и колоссальная отдельная дверь ниневийского дворца. Эта гигантская дверь образуется двумя огромными крылатыми быками, имеющими человеческие головы, увенчанные коронами поверх рогов, красиво вьющихся по лбу их. Туловища животных составляют проход. Передать вам особенный род тупого, неподвижного величия, которое представляют эти символические ворота, я, разумеется, не в состоянии. Рядом с быками по обеим сторонам должны были стоять два колосса с свирепым выражением лица, задушающие каждый одною рукой степного льва на груди своей. Колоссы эти, за неимением пространства, прислонены теперь к внешней стороне прохода. Ясно, что они должны были служить символом могущества и вместе с быками представлять архитектурное целое, нечто вроде громадного перистиля{303}, полного религиозного и политического значения. Как всегда почти в искусстве востока, на этом памятнике вы видите едва порабощенную резцом массу камня и необычайную отделку подробностей, действительность и символ, поставленные рядом, не смешанные друг с другом. Одна часть предмета полна жизни и истины, а другая принадлежит мистической идее и фантазму. Так, мускулы, члены и жилы огромных быков резко и грубо обозначены, тогда как шерсть их, завитая правильными косами на груди, коленях, животе, исполнена с поразительной тщательностью. Человеческие головы, заменившие головы животных, блестят истинною действительностью, верностью природе при грубой, но энергичной отделке, напоминающей позднейшее этрусское искусство; это – типы ассирийской физиономии, в красоте, какая только ей доступна. Головы эти можно назвать родоначальниками всех остальных лиц на барельефах: один и тот же тип принадлежит царю и служителю, воину и евнуху, жрецу и лодочнику. Самое божество ниневийское нисколько не разнится в облике с последним. Властитель, обитавший в этом великолепном дворце, куда ни обращался, всегда видел только самого себя, ибо условный тип, по всем вероятиям, был царственного происхождения, что доказывают и короны, венчающие первообраз его – головы на быках. Я не знаю, можно ли вам дать какое-нибудь понятие о нем, сказав, что он представляет полное, круглое, мускулистое лицо с большим носом, загнутым клювом, глазами правильного, прекрасного разреза и толстыми губами, концы которых подняты несколько кверху, как это видно в Эгинских мраморах. Какое-то мягкое, задумчивое выражение лежит на нем, несмотря на то, что лицо зорко смотрит вперед. Можно подумать, что оно находится еще под влиянием или сильного религиозного упоения, или непомерного испытанного наслаждения. В религии ассириан эти вещи могли сходиться. Обильные волосы, падающие на плечи, тщательно завиты по оконечностям, борода разделена на множество прямых параллельных кос, и каждый волосок ее и усов расплетен с сверхъестественным прилежанием и осторожностью.
Когда от этих великолепных ворот перейдешь к громадным барельефам, составлявшим стены дворца, странное чувство наполняет вас. Тут нет ни одной женщины, ни одного мотива, в котором сказалось бы чувство или проглянула фантазия; все строго и положительно. Дело идет только о том, чтоб увековечить бесчисленную прислугу властителя и ее занятия, покорность его вождей и жертвы, приносимые божеству. Нагота, которая составляет необходимый элемент скульптуры и принята даже египтянами, здесь почти совсем изгнана, если исключить часть руки и ноги, да обнаженные колени воинов и служителей. Туника, плотно облегающая тело, и поверх ее особенного рода мантия, едва обрисовывающая формы его, покрывает всех с головы до пят. Это очень удобно для нетвердого рисунка мастера, искусство которого еще не вышло из младенчества, но сообщает грубый, варварский оттенок всем представлениям. С первого взгляда чувствуешь, что это – первообраз того внешнего великолепия одежды, которым доселе щеголяют азиатские народы – персияне и турки. Притом же, по условному образцу все лица на барельефах видны уже в профиль, сбоку, и ноги их находятся непосредственно одна перед другою. Так точно представлены евнухи, несущие седалище, служители, украшенные мечами и несущие вазы и сосуды, воины, слагающие руки ладонь в ладонь в знак покорности, молящиеся с опущенною рукой перед священным и символическим растением, конюхи, тоже с мечами, перетаскивающие колесницу, чрезвычайно похожую на одноколку, и жертвоприносители с лотосом в руках. Некоторое стремление искусства к характеристике лиц замечено в евнухах, безбородым лицам которых оно придало особенную полноту и мясистость. Нельзя не сознаться также, что фигуре самого властителя оно, видимо, старалось сообщить горделивость позы и строгость выражения; но властитель гораздо более отличается от других своим посохом, высокою конусообразною шапкой, какую до сих пор носят персиане, и великолепием ткани, составляющей одежду его. Почти совершенно схожее лицо представляет сановник, беседующий с ними почтительно, но в более скромной одежде и с непокрытою головой. Почти совершенно схожее лицо представляет само божество, также в одежде: разница состоит в одном: вместо конусообразной шапки оно увенчано особенного рода тиарой и снабжено еще четырьмя великолепными крыльями, по два спереди и по два сзади. Божество это, особенно замечательное своим полным человеческим образом, держит в одной руке нечто вроде корзинки, а другою рукой подает плод, похожий на кокосовый орех. Если вы представите себе, что все эти барельефы были ярко раскрашены, что они окружены были малыми побочными изображениями и гвоздеобразными надписями, что поверх их шел разноцветный карниз, и все завершалось деревянным потолком, тоже покрытым различными красками, вы легко поймете, сколько могло тут быть блеску, внешнего великолепия, ослепительной пышности при неподвижности и сухости внутренного содержания.
Во второй зале замечательны три барельефа, сильно попорченные, но не настолько, чтоб нельзя было различить их содержания. Они развивают одну и ту же мысль с барельефами первой залы: это – история постройки самого дворца. Вы видите тут, как все поле барельефа, представляющее чрезвычайно условно реку, воду посредством завитков, без всякой перспективы, наполнено рыбой, черепахами, змеями. Даже в этом элементе на дне реки присутствует сам властитель, опять в образе крылатого быка с человеческою головою. Река покрыта лодками, влекущими бревна и доски, и гребцы, всегда видные в профиль, сильно упирают на весла. На самом верху четырехугольник означает восстающий мало-помалу дворец. Второй барельеф показывает гребцов и лодочников, занятых разгрузкой привезенных ими материалов; третий тоже условно представляет землю с дорогою, далеко вьющейся по ней: множество людей влекут на канатах с великим усилием тяжелую массу чего-то. Ее не видать, но самые усилия обнаруживают громадный камень восточных построек. И ясно, барельефы повествуют снова о могуществе владыки и о величии его предприятия. Здесь надо вспомнить еще, что задняя сторона досок, та, которая должна навечно была примкнуться к стене, еще покрыта надписями, вероятно, тоже свидетельствующими о славе его. Они теперь все сняты и ждут разбора европейских ученых. Вы понимаете теперь, что каждый угол дворца, даже навеки недоступный человеческому глазу, еще имел голос для прославления великого его жильца и строителя.
Что касается собственно до искусства, оно не лишено некоторой строгой важности, напоминающей церимониал современных азиатских властителей. Всего более удивило меня в нем столкновение условного представления с желанием естественности, столкновение которое произвело весьма странные вещи. Так, в переносчиках колесницы ноги их, по обыкновению, стоят боком, между тем как верхняя часть туловищ взята спереди, а руки, поддерживающие ношу, из желания естественной верности находятся в невозможном и чудовищном положении. Бедный мастер, отступив от образца, данного раз навсегда, видимо, потерялся.
Безусловное удивление заслуживают только фигуры животных; таковы, например, три коня, богато разукрашенные и приводимые в дар властителю. Античною своею простотой они напоминают коней парфенонских. Довольно большой медный рыкающий лев, с кольцом на спине, служивший, по всем вероятностям, застежкой для какой-нибудь драпировки, есть совершенство (chef d'oeuvre[66]) выражения и исполнения. Животное в эти времена имело для человека важное значение, которому он подчинял даже собственно свое.
Вот вам общий, поверхностный взгляд на Ниневийский музей. Когда разберутся надписи и памятники его сличатся с древнеперсидскими и египетскими, история получит множество новых, вероятно, неожиданных открытий; что касается до меня, два часа, проведенные с этими камнями, от которых веет смертью, не обратили мысль мою на ничтожество человека, а, напротив, возродили во мне потребность жизни. Прямо из музея я побежал в Пале-Рояль и с вящим наслаждением стал смотреть на детей, играющих в саду его, на шум, движение и говор людей, постоянно царствующий в его галереях… Прощайте до нового года!
Париж, 22 ноября н. с.
IX
Поздравляю вас с новым годом, господа. Вы, вероятно, встретили его за корректурой и за перечетом всего, что было сделано в минувший год русскими литераторами и учеными. Занятие почтенное, которому и я поддался со своей стороны благодаря статье Шарля Луандра{304} «De la production intellectuelle en France depuis quinze ans (1830–1845)»[67], напечатанной в «Revue des deux mondes» и вам, без сомнения, уже известной. Вы видите, что мои воспоминания на этот раз заняты были Францией и превосходят ваши объемом: последнее и составляет их преимущество.
Статья Луандра чрезвычайно замечательна по собранным в ней фактам, а также по бесцветности своего направления, добровольным утайкам и недоговорам. Это как-будто официальный отчет господствующего класса об умственном движении Франции за 15 лет. Сама статья почти столько же любопытна, как содержание ее. Везде, например, где дело касается до упадка теологических наук, Луандр делается зорок, остроумен, сжат. Он показывает, как из 575 увражей, являвшихся круглым числом каждый год по этой части, не было ни одного самостоятельного творения, но все они сильно пропитаны были грехами века, с которым борются. Так, литература эта, преследуя незыблимые духовные интересы, делалась, однакож, попеременно роматическою, легитимическою, гуманитарною, следуя шаг за шагом за господствующим направлением. В последнее время она приняла даже сильный оттенок индустриализма продажею книг, касающихся до ритуала, и журналами «L'Univers»{305}, «L'Ami de religion»{306} и проч. Когда случалось ей возвращаться назад к преданиям, она останавливалась большею частью на таких, которые еще в XV веке были осуждены, как, например, «Золотая легенда» (La légende dorée){307} и друг<ие>. В числе 575 сочинений каждый год являлось 250 книг мистического содержания. Луандр чрезвычайно остроумно проводит параллель между книгами этого рода, появлявшимися в XVII столетии, и современными. Там дело шло об удовлетворении сердечных стремлений, сильно поднятых религиозным созерцанием; здесь дело идет уже об обрядах самого узкого ханжества; первые носили заглавия: «Внутренний замок», «Часы на колокольне ангела хранителя» («Le Château intérieur», «l'Horloge de l'ange gardien») и проч., вторые называются «Manuel du rosaire vivant»[68] и т. д. Жалко, что автор не упоминает, какой именно класс общества наиболее занимается чтением подобных книг. Можно, однакож, предполагать, что, кроме семинарий, только праздный класс легитимистов имел на это потребное время; рабочий, торгующий, официальный и крестьянский заняты, по крайней мере теперь, совершенно другими интересами. Замечательны также усилия этой литературы, несправедливо пользующейся почтенным названием теологической, перевести на свой язык явления других отделов. В ней мы видим, например, очищенного Вальтер Скотта, который приспособлен был таким образом к чтению благочестивых детей обоего пола. Издатели выпустили в романах его любовные интриги, впрочем, с осторожностью, какая нужна была, чтоб не повредить занимательности. Точно так же поправлен был «Жиль-Блаз»{308}, «Тысяча и одна ночь» подверглась подобной же участи, причем Динарзада сделалась помощницей инспектрисы в женском пансионе. Сам Тартюф{309} должен был испытать влияние реформы и из лицемера обратиться в честного добряка, имеющего свои недостатки. Кто не имеет их? Если бы г. Луандр присоединил к этому отделу и некоторые биографии, вроде «Жизни Елисаветы Венгерской» г. Монталанбера{310}, то оказалось бы, что даже скандальёзность некоторых современных романсов не была чужда ему, хотя и проявилась совершенно в другой форме.



