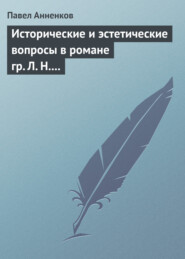 Полная версия
Полная версияИсторические и эстетические вопросы в романе гр. Л. Н. Толстого «Война и мир»
Мы не скрываем от себя, что в ответ на все эти требования могут сказать: – Да кому какое дело до вашего развития, когда роман в той форме, какая ему дана, достигает всех своих целей и намерений. Характеры и с помощию отдельных сцен приобретают типическое выражение, что, в сущности, только и важно. Картина эпохи, даже и разбитая на множество этюдов, тем не менее есть полная картина, сообщающая каждому одно нераздельное и неотразимое впечатление своей истины. Притом же изображения автора облечены в такую ткань поэзии, рисуются с таким участием драматического элемента, тонкого анализа, широких приемов мыслителя и художника, что думать тут о развитии может только человек, нечувствительный к этим качествам. Может быть даже, что труд развития помешал бы здесь свободному проявлению творчества, может быть даже, что само требование развития принадлежит к числу орудий старой эстетической рутины, которая не в силах понять новых форм создания, возникающих у писателя вместе с новыми задачами. Какое развитие способно заменить нам хоть, например, две, поистине чарующие, сцены, два особенно замечательных перла из множества перлов, рассыпанных в романе? Мы говорим о двух сценах из эпохи пребывания полуразоренных Ростовых в деревне. В первой из них Наташа Ростова, мучимая самым избытком физических и нравственных сил, является на охоту за волками, переживает все ее ощущения и проводит часть вечера в доме простака-помещика Илагина{10}, угощающего ее всем богатством своего еще нетронутого русского житья-бытья, дворней, составляющей одно лицо с барином, балалайкой, которая странно потрясает образованный слух гостей, и наконец своей русской песнью, которая вызывает у них слезы. В другой сцене та же Наташа Ростова устраивает переодевание на масленице и, захватив переряженных подруг, горничных, встречных и поперечных, в бешеной скачке на тройках мчится ночью, при луне, мимо леса, вдоль снежной пустыни к своей родственнице и соседке по имению. Тут и без развития отразилась вся русская природа, вместе с упоительными народными, племенными потехами и мотивами, которые лучше всех других заглушают, обманывают, целят страдания даже и образованной русской души. Какое развитие способно довести писателя и до этой поэзии и до этих откровений, – оно, которое, по сущности своей, вместо исторических, политических и бытовых картин предпочитает долгое чахлое занятие помыслами двух-трех лиц, томительное изображение переворотов их внутреннего мира и возмутительное оправдание их эгоистического самозаключения в самих себе!
Как бы, в сущности, ни казались нам эти и подобные им возражения несправедливыми в настоящем вопросе, мы умеем ценить все, что под ними таится законных требований на дельность и серьезность художественных изображений, на участие искусства в разрешении и объяснении задач, вопросов и чаяний нашего времени. Но так ли верно предположение, что в романе история и частные характеры достигли всей необходимой полноты и ясности даже и без развития, – это другой вопрос. Вряд ли новое произведение гр. Толстого докажет возможность обойтись, ввиду других важных задач, без исполнения какого-либо условия дельной художнической работы. Скорее наоборот: оно докажет необходимость соблюдения всех условий ее и невозможность жертвовать ими ни под каким предлогом, даже самым благовидным. Так, оставаясь при нашем мнении, мы думаем, что недостаток развития повлиял неблагоприятно даже на историческую и бытовую стороны его произведения, к которым теперь и переходим.
Что касается до исторической части, то мы намерены развить здесь несколько подробнее положения, высказанные нами в начале статьи. Какое бы место историческая сторона ни занимала в романе – первое, последнее или серединное, она подчиняется точно тем же законам художнического существования, как и вымысел: она должна доказать свое право выражать то, что выражает. Известно, что весь исторический отдел романа гр. Толстого построен на документах и свидетельствах так называемой маленькой истории, без которой, спешим прибавить, чуть ли и невозможно появление настоящей наукообразной истории. Трудам Шлоссера, Ранке, Гервинуса{11} и проч. предшествовало, конечно, множество нескромных откровений, частных разоблачений, тайных записок – словом, вся работа «маленькой» истории, на которую они часто и ссылаются и которая тогда только и входит в особенный почет, когда в известном обществе обнаруживается потребность самоопределения. До тех пор общество очень хорошо удовлетворяется официальной, условно-учебной и легендарной историей; но с первыми проблесками критической мысли, желающей проверить настоящее время прошлым временем, услуги «маленькой» истории неоцененны и принимаются с великой, вполне заслуженной благодарностью. Она помогает низводить политических деятелей с тех туманных высот, где они невозмутимо жили дотоле, как боги Олимпа, в ряды человечества и делает еще более. Устраняя ореолы и лучи, приданные им суеверием или политическим расчетом, она помогает различать их настоящую физиономию и находить в ней черты, общие людям их века. И этим еще не ограничиваются ее услуги: она обнаруживает в великих исторических событиях присутствие и влияние сил и причин, действующих и теперь, на глазах всех, кто способствует политическому воспитанию людей. Отсюда и успех в публике тех, впрочем почтенных, изданий, которые сделались у нас органами этой «маленькой» истории{12}, да также отчасти и успех книги гр. Толстого, на ней построенной и обнаруживающей большую в ней начитанность автора. Но при этом он уже не мог избежать весьма неблагоприятного обстоятельства для своей задачи, не существующего у сборников и изданий, ею занимающихся. Те оставляют все документы свои, за очень малыми исключениями – открытыми вопросами, терпеливо ожидая приближения будущей, настоящей и наукообразной истории, которая должна их порешить, и если делают иногда попытки утвердить за документами своими известный смысл, то попытки эти принадлежат обыкновенно не к самой существенной и даже не к самой блестящей стороне изданий. Автор романа поставлен в иное положение. Гр. Толстой, например, везде говорит утвердительно – и должен так говорить, и говорить иначе не может. Малейшее сомнение перед документом было бы здесь упразднением самого романа, или лучше – его исторической части. Везде и всегда должно слышаться от художественного произведения твердое, решительное, смелое слово, ибо там, где речь происходит на языке образов, малейшее колебание должно внести смуту и неясность в образы, что равняется уничтожению, немоте, погибели самой речи. Из этого выходит, что «маленькая» история, положенная в основу образов, вдруг заявляет горделивую претензию раздавать окончательные приговоры лицам и событиям, как будто вся сущность предметов исчерпана ею вполне. Суд свершается, таким образом, не совсем законным, компетентным судьей, и чем решительнее, эффектнее его определения через посредство картин и образов, тем более обнаруживается его самозванство. И добро бы убеждения и воззрения этого судьи слагались на основании всех документов, уже находящихся в его обладании, но условия романа не позволяют ему заняться даже и несколько полным разбором своего дела. Роман принуждает его, вследствие внутреннего своего распорядка, вследствие необходимой для себя экономии, ограничиться всего чаще одной чертой, одной скудной чертой, чтобы, раздув и распространив ее до неимоверных границ, он – этот непризванный судья – мог в ней одной заключить и все основания, поводы и причины своего приговора людям и событиям. Таким образом, «маленькая» история, сделавшись романом, решает вопрос о личности Кутузова на основании некоторых слов, сказанных им там и сям, и на основании мины, взятой им при том и другом случае; вопрос о личности Сперанского – на основании его искусственного смеха и программы, устроенной им для разговоров за столом; вопрос о проигрыше битвы под Аустерлицем – на основании влияния молодых генералов-любимцев, окружавших императора Александра, и измены своему долгу у остальных, что стоило бы разъяснения… и т. д. Развития и здесь недостает, как недостает его в завязке романа; сцены всегда поразительно отчетливы относительно той минуты, которую изображают, а многое из того, что должно оправдать их появление, лежит опять вне романа, в пустом и глухом пространстве между сценами. Обстоятельство это тем печальнее, что чрезвычайно меткие, живые заметки и соображения автора заставляют думать, что он сам гораздо более знает о всяком деле, чем его лица и картины. Зато, когда «маленькая» история удаляется на задний план, возникают картины безусловного мастерства, обличающие в авторе необычный талант военного писателя и художника-историка. Таковы (мы уже имели случай сказать об этом) изображения военных масс, представляемых нам как единое, громадное существо, живущее своей особенной жизнию, имеющее свои страсти, симпатии, даже мыслящее и по-своему возражающее на ошибочные или неверные распоряжения; таковы все изображения канцелярий, штабов, австрийского тупого, узко эгоистического понимания вопросов и явлений, что отражается на каждом лице его двора, носящем печать упорной неспособности, но под конец всегда выигрывающей партию; таковы особенно изображения пыла, катастроф и волнений битв и пр. и пр.
Бытовой отдел романа возбуждает вопрос не менее важный, чем тот, о котором говорили сейчас при исследовании политического отдела. Эта часть, заключающая в себе олицетворение нравов, понятий и вообще культуры высшего нашего общества в начале текущего столетия, развивается довольно полно, широко и свободно благодаря нескольким типам, бросающим, несмотря на свой характер силуэтов и эскизов, несколько ярких лучей на все сословие, к которому они принадлежат. Здесь уже не найдет себе места тот укор в прославлении дикости и невежества, который делали автору некоторые критики за лучший, образцовый его роман «Казаки»{13}. Здесь, наоборот, мы находимся в среде утонченнейшей цивилизации, пресыщены изяществом фигур, свойственным даже и не совсем видным фигурам, французским диалектом и неустанным анализом автора, который объясняет нам настоящий смысл почти каждого движения выводимых им лиц, каждого их взгляда, слова и костюма, потому что в этом своеобычном мире люди выражают свое нравственное содержание гораздо более неуловимыми знаками, намеками, безделицами всякого рода, чем простой человеческой речью, поступком или естественной игрой своей физиономии. Надо запастись особенным ключом, чтоб понимать их сношения между собою, надо быть посвященным в таинственное значение гиероглифов, которыми они обмениваются, чтоб угадывать их настоящие мысли и намерения. Автор принадлежит к числу посвященных. Он владеет знанием их языка и употребляет его на то, чтоб открыть под всеми формами светскости бездну легкомыслия, ничтожества, коварства, иногда совершенно грубых, диких и свирепых поползновений. Всего замечательнее одно обстоятельство. Лица этого круга состоят словно под каким-то зароком, присудившим их к тяжелой каре – никогда не достигать ни одного из своих предположений, планов и стремлений. Точно гонимые неизвестной враждебной силой, они пробегают мимо целей, которые сами же и поставили для себя, и если достигают чего-либо, то всегда не того, чего ожидали. Исключения касаются только самых ничтожных, пошлых замыслов и расчетов: все, что посерьезнее, никому из них не уступает себя. Можно подумать, следя за мастерским изображением этой среды у нашего автора, что для людей ее существует особо приставленная к ним Немезида{14}, которая поражает их бессилием на полудороге ко всякому предприятию и постоянно оставляет в их руках пыль и прах вместо искомого и желанного добра. Ничего не удается им, и все валится из их рук. Даже чувство и мысль, самые простые и общечеловеческие в ограниченном значении эпитета, или приносят не те плоды, какие от них обыкновенно получаются, или разрешаются по прошествии некоторого времени в нечто похожее на свою пародию и карикатуру. Молодой Пьер Безухий, способный понимать добро и нравственное достоинство, женится на светской Лаисе{15}, столь же распутной, сколько и глупой по природе. Князь Болконский, со всеми задатками серьезного ума и развития, выбирает в жены добренькую и пустенькую светскую куколку, которая составляет несчастие его жизни, хотя он и не имеет причин на нее жаловаться; сестра его, княжна Мария, спасается от ига деспотических замашек отца и постоянно уединенной деревенской жизни в теплое и светлое религиозное чувство, которое кончается связями с бродягами-святошами и т. д. Так настойчиво возвращается в романе эта плачевная история с лучшими людьми описываемого общества, что под конец, при всякой картине где-либо зачинающейся юной и свежей жизни, при всяком рассказе об отрадном явлении, обещающем серьезный или поучительный исход, читателя берет страх и сомнение: вот-вот и они обманут все надежды, изменят добровольно своему содержанию и поворотят в непроходимые пески пустоты и пошлости, где и пропадут. И читатель почти никогда не ошибается; они действительно туда поворачивают и там пропадают. Но, спрашивается, – какая же беспощадная рука и за какие грехи отяготела над всей этой средой… Что такое случилось? По-видимому, ничего особенного не случилось. Общество невозмутимо живет на том же крепостном праве, как и его предки; екатерининские заемные банки открыты для него так же, как и прежде; двери к приобретению фортуны и к разорению себя на службе точно так же стоят нараспашку, пропуская всех, у кого есть право на проход через них; наконец, никаких новых деятелей, перебивающих дорогу, портящих ему жизнь и путающих его соображения, в романе гр. Л. Н. Толстого вовсе не показано. Отчего же, однако, общество это, еще в конце прошлого столетия верившее в себя безгранично, отличавшееся крепостью своего состава и легко справлявшееся с жизнию, – теперь, по свидетельству автора, никак не может устроить ее по своему желанию, распалось на круги, почти презирающие друг друга, и поражено бессилием, которое лучшим людям его мешает даже и определить как самих себя, так и ясные цели для духовной деятельности. Подумайте, что между 1796 и 1805 годом, когда начинается роман Толстого, протекло только девять лет! Как могла совершиться в такой незначительный промежуток времени такая сильная перемена?
Невольно и само собою представляется мысли читателя предположение, что роман, пожалуй, ошибся в одном из двух: или он просмотрел, оставив без надежного представителя какое-то новое, могущественное начало, появившееся в русской жизни и успевшее, в течение 10–15 лет, незаметно подорвать веру общества в основания, на которых оно жило спокойно дотоле; или картина несостоятельности этого общества в первое десятилетие нашего столетия, и особенно нравственных страданий его, преимущественно выражаемых лицом князя Андрея Болконского, сильно преувеличена и составляет некоторого рода анахронизм. Мы думаем, с своей стороны, что роман отчасти заслужил этот упрек не по одному из этих пунктов, а по обоим вместе.
Нам не приходится учить такого мастера и художника, как гр. Толстой, по профессии романиста; поэтому мы и позволяем себе выразить только скромное сожаление об отсутствии в его книге всякого намека на те начала, прямо исшедшие от правительства описываемой эпохи, которые, между многими другими последствиями своими, имели и то, что предоставили высшее наше общество суетливым хлопотам по отысканию настоящего смысла современных явлений и всего брожения расстроенной силы, некогда видевшей ясно свое призвание, а теперь принужденной гоняться за призванием по всем лабиринтам социальных, мистических и всяческих учений. Начала эти и прежде были знакомы многим на Руси, но они приобрели угрожающий вид только с той минуты, когда к ним склонилось правительство, от которого всегда зависела и всегда будет зависеть у нас участь передовых классов общества. Определить этот новый действующий принцип, конечно, можно; но определение его потребовало бы долгого развития, между тем как он весьма хорошо объясняется разницей воззрений, существовавших у правительства и высшего общества на их общего врага Наполеона I. И то и другое, с малыми перерывами, употребили первые пятнадцать лет столетия на энергическую борьбу с бесцеремонным завоевателем. Не раз борьба эта служила и патриотической связью между ними, так же точно, как она же роднила часто и все слои населения империи в одном чувстве народной чести, национального достоинства. Император французов был символом брани по ту сторону Немана, но он устроивал мир и патриотическое общение интересов внутри России. Со всем тем правительство и высшее общество подразумевали нечто иное, когда единогласно называли Наполеона «возмутителем спокойствия Европы», «нарушителем общих прав» и т. д. Под покровом одинаково выражавшегося негодования, а в главные моменты борьбы – и одинаковой ненависти, таилось у правительства и высшего общества вплоть до 1812 года различное понимание своих слов. Правительство, как и следует всякой законной и сильной власти, оскорблялось преимущественно у Наполеона его системой попирания всех оснований прежней политической истории, его презрением к самым старым монархиям в Европе, его игрой престолами и трактатами, всеми признанными; но оно не имело ничего против нового строя государственной и общественной жизни, которого он был представителем. Правительство Александра I относилось не только не враждебно, но дружелюбно к принципам, унаследованным Наполеоном от французской революции и им водворяемым посредством новых династий в Европе. Оно нисколько не думало бороться с такими основаниями, каковы: равенство всех граждан перед судом, свобода личности, отрицание сословных привилегий, право каждого на всякую ступень в государстве, под условием труда и способности и пр. Совсем наоборот, оно думало усвоить их себе и положить в программу собственной своей деятельности, со включением, как кажется, и принципа совещательных собраний, который никогда не отвергался французским императором, а только заслонялся им своей, увенчанной славой, особой. В таких границах вращалась вражда к Наполеону в правительственных сферах той эпохи. Она, во всяком случае, оставляла еще место другим соображениям, даже сочувствию, как видим из попыток сближения с ним…
Совсем другой вид имела вражда высшего нашего общества к Наполеону: она была полная, без оговорок и уступок. В императоре французов общество это ненавидело отчасти и нарушение принципа легитимизма{16}, в чем совершенно сходилось с правительством, но оно ненавидело и тот строй, порядок жизни, который Наполеоном олицетворялся. По инстинкту страха и самосохранения общество относилось с величайшим отвращением точно так же к Наполеону-завоевателю, как и к Наполеону, узаконяющему гражданское наследие новой европейской истории. Наполеон-идея был для него столь же противен, как и Наполеон-солдат. Под мыслию об опасности для отечества разумелось у многих, вместе с возможным политическим унижением России, и мысль о заразе вольнодумными реформами, которых правительство, с своей стороны, тогда еще нисколько не боялось. Вообще, подражание французам, на которое так жаловался гр. Растопчин{17}, было крайне поверхностное в обществе и ограничивалось ничтожными предметами, конечно, не стоившими жарких филиппик этого оригинального патриота. Общество, в сущности, хотело жить по-старому.
Когда явились первые административные реформы царствования Александра, они возбудили, как известно, ропот и сомнение не только в публике, но и в некоторой части самой администрации, имевшей причины бояться их духа. Оппозиция не смела возвысить голоса внутри империи, но она выместила это стеснение на Наполеоне как на тайном родоначальнике всех русских реформ. В криках общественных кружков, так хорошо переданных автором при описании салона фрейлины Шерер, против Наполеона сказывалось еще и раздражение по поводу домашних наших дел, по поводу реформ, только что показавшихся на политическом горизонте и направление которых можно было уже предвидеть. Наполеон собирал дань гнева, следовавшую ему по всем правам, и служил проводником оппозиционной мысли, которую не смели послать по настоящему адресу. Между общественными и правительственными сферами существовало, таким образом, в скрытом виде довольно сильное разногласие. Для самой администрации оно не было серьезной помехой на избранном ею пути, но оно пошатнуло общество, оставшееся без опоры, и повергло его в то состояние беспокойства, растерянности, недоумения и бессилия, которое описывает автор и которое обыкновенно сопровождает первое действие нового начала в жизни на старые и отходящие. Вот почему мы и выразили сожаление, что автор не обратил на него внимания, а показал одни результаты его влияния. Внезапный переворот, свершившийся в высших слоях общества, остался, таким образом, без должного пояснения; одно историческое звено выкинуто из дела, и только посильное размышление читателя успевает найти его, работая уже, так сказать, за поленившегося автора. И в самом деле, почти непонятно, как мог автор освободить себя от необходимости показать рядом со своим обществом присутствие элемента разночинцев, получавшего все большее и большее значение в жизни. Два великие разночинца, Сперанский и Аракчеев{18}, стояли у кормила правления и не только не делали усилий скрыть свое бедное происхождение, но гордились им и заставляли других чувствовать его при случае. Дети этого нового, народившегося сословия должны были пробить ряды высшего дворянства во всех направлениях; но покамест в форме самостоятельного чиновничества, начинающего сознавать свою силу, новое сословие уже распоряжалось материальным положением, делами, а часто влиянием и способностями высокопоставленных лиц. Из него были уже губернаторы, судьи, секретари разных правительственных мест и пр. На первых порах оружием этой демократии, скрытой под чинами и мундирами, которыми она добывала себе значение, было лихоимство, притеснение, нажива. В театрах наших публика еще продолжала смеяться над подьячими и крючкотворцами, думая, что она осмеивает современные пороки и злоупотребления, а между тем, в действительности, вместо их существовал или начинал свое существование могущественный и по внешнему своему виду весьма приличный класс людей, который заставлял склоняться перед собой, не покидая своего скромного положения, весьма гордые головы. Невозможно представить себе, чтоб высшие круги, изображаемые автором, ничего не знали об этом элементе, не чувствовали его влияния и не обращали на него ни малейшего внимания. Чрезвычайно подозрительно это общество чистейшей крови – pur sang, – успевшее укрыться от исторического явления, начинавшего проникать почти во все отправления публичной жизни. Из видов даже простого художнического расчета можно было бы пожелать ему некоторой примеси сравнительно грубого, жесткого и оригинального элемента. Он помог бы растворить несколько эту атмосферу исключительно графских и княжеских интересов, выделенных, по забывчивости автора, из круга других, равносильных им интересов. По крайней мере, присутствие в романе новой, отчасти злобной и завистливой, но самоуверенной и здоровой силы дало бы возможность читателю отдохнуть несколько от постоянно условного, иногда манерного изящества великосветской картины, которую автор держит перед его глазами. Мы далеки от мысли находить в этой картине положительное сходство с рисунками старых севрских и саксонских фарфоров (vieux Sèvres, vieux Saxe), но не можем не сказать, что подчас она невольно напоминает их. Возвращаемся назад.
Конечно, были и энтузиасты Наполеона в этом недовольном обществе, обожавшем, однако же, своего императора, как все его обожали за молодость, красоту, мягкость сердца и умеренность в пользовании своими правами. Автор показывает нам таких энтузиастов Наполеона, положивших в основание своих протестов против тогдашней жизни нечто подобное соображениям высшего порядка, в двух лицах – в Пьере Безухом и молодом князе Андрее Болконском. Об них обоих, но всего более о кн. Болконском, можно сказать, что они, по роду своих убеждений, только номинально принадлежали к тому обществу, где судьба привела им родиться. Особенно последний – истинный герой романа гр. Толстого, сколько можно судить по беглым и еще не конченным очеркам этого лица, – является нам человеком того же самого закала и направления, как и молодые советники императора Александра I, которыми он окружил себя при начале царствования»{19}. Та же уверенность в себе, та же смелость в планах и предначертаниях, построенных, без участия опыта, на одной собственной, ничем не проверенной мысли, то же гуманное, благородное отношение к низшим слоям общества, при чувстве своего превосходства над ними, и, наконец, то же презрение к русской жизни, не удовлетворявшей ни в какой мере политическим идеалам, которые носились перед их глазами. Только Андрей Болконский не испытывал блестящей и почетной участи своих двойников; оттого недовольство его жизнью и порядком вещей уже связано с огорчениями и разочарованиями собственной его жизни, как и понятно в безвестной единице, пропадающей между рядами окружающей его публики. Со всем тем, всякий раз, как он выходит из рядов этих, он носит на себе печать и облик праздного министра, не узнанного, природного советника короны. В том, кажется, и заключается трагическая сторона его жизни, что он не узнан, и когда он говорит с отчаянием о невозможности какого-либо общественного труда на Руси, то уже мы знаем, что под настоящим трудом он подразумевает только тот, который совершается на высших постах в государстве, – и никакой более.



