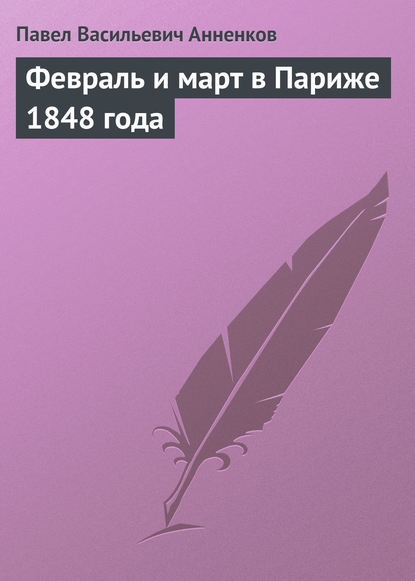 Полная версия
Полная версияПолная версия:
Февраль и март в Париже 1848 года
Мы уже часто упоминали о журналах, но обязаны прибавить, что революция породила мало замечательных органов журналистики. Журнал Прудона «le Representant du Peuple»{109}, отличавшийся оригинальностью взглядов и энергий речи, весь был обращен на беспощадное осуждение людей, принципов и самого хода революции. Новая «Presse» Жирардена, возвысившая число своих подписчиков с первых же дней переворота до огромной цифры, преследовала временное правительство с либеральной точки зрения, требуя от него в одно время крепкой устойчивости и безграничной смелости, притворяясь революционнее самой революции и защищавшая дисциплину не хуже любого алжирского генерала. Репутация гениального спекулянта, какою уже пользовался Жирарден, еще возросла, особенно оттого, что никто не мог разобрать, в чем состоит его настоящая игра. Позднее оказалось, что он играл в пользу бонапартизма. Его дерзкая, обличительная речь и постоянная диффамация правительства и его партии, все это имело вид гражданского мужества, все это служило как бы упреком собратьям по журналистике, робко соглашавшимся («Journal des debats») предоставить устройство республики, если только оно возможно, самим республиканцам; но в сущности и этот вид мужества был не что иное, как дальновидный биржевой расчет. Когда раз газета позволила себе сделать сравнение Ламартина с Гизо и Ледрю-Роллена с Дюшателем, не находя большой разницы между ними, то одна фанатическая толпа, выведенная из терпения или направленная коноводами, бросилась на улицу Монмартр разбивать типографские станки газеты, при кликах: «à mort Girardinl»[82] Редактор показал себя и в эту минуту игроком не ниже обстоятельств. Он велел отворить ворота типографского дома, вытребовал к себе депутацию из толпы и тотчас завел с ней жаркую полемику, но в это время уже прибыл отряд национальной гвардии, а за ним поспешили явиться на место происшествия начальник ее, генерал Курте, и сам оскорбленный Ледрю-Роллен. Ламартин готов был броситься туда же. На другой день все журналы, без исключения, осуждали выходку толпы: так важно казалось всем сохранить полную свободу книгопечатания. Жирарден на это и рассчитывал, однако после этого случая тон журнала, на некоторое время, значительно смягчился. С «Прессой» соперничествовала только, как своими 27-ю тысячами подписчиков, так и ожесточенными нападками на временное правительство, газета «l'Assemblée Nationale», орган клуба «свободных выборов», хотя поводы к вражде тут были совершенно иные. Она считала правительство просто-напросто похитителем власти, относилась к нему как к самозванцу и следила за каждым его движением как за новым преступлением против законности, представляемой в ее глазах только будущим Национальным собранием Франции. Всякое распоряжение администрации она оспаривала во всех отношениях. Разоблачение тайных пружин клубов и партий, их скандальёзная хроника составляли также часть ее программы. Затем оставалось только или яростное ничтожество, или ничтожество резонирующее. К первому отделу, кроме уже названных нами прежде изданий и множества других, не заслуживающих названия, принадлежал и журнал «La Garde National» Капо-де-Фелида{110}, отличавшегося способностью к бесцеремонному ругательству с противниками еще в 30-х годах. Ко второму отделу, вместе с «Commune de Paris» Барбеса и Собрие, вместе с «Réforme» Флокона и его партии, вместе с «La vraie République»{111} – органом Люксембургской комиссии, принадлежал еще «le Peuple constituant» Ламене, уже едва-едва сохранивший свой ультра-радикальный оттенок. Журнал «тот постоянно отзывался чем-то вроде укорительной проповеди; он сильно негодовал на социализм, которым закрашивались его товарищи по радикальной пропаганде, неумолкаемо гремел против заносчивости и безумства новых теорий, влекущих Францию на край погибели, когда перед ней лежит один верный путь – именно путь обработки политических догматов и затем безусловной покорности им. Гораздо яснее видел свое призвание и неуклонно следовал ему, несмотря на всю мечтательность заданной цели, настоящий социалистический журнал «La Démocratie pacifique». Почти все время революции он находился в состоянии какого-то вдохновения, отвечая на каждый частный вопрос новою теорией. Он хлопотал о водворении на земле блаженного царства кредитных бумаг, освобождающих частные лица и государства от гнета долгов, денег и всяческих затруднений. Решение всех задач (было ли то накопление мертвых векселей в банке, была ли то продажа общественных земельных участков, или покупка железных дорог правительством) вызывало у редакторов особого рода творчество, ту деятельность богатого воображения, которою они постоянно отличались в изложении своих планов общей мобилизации, универсального превращения всех достояний в бумажные ценности, отвечающие сами за себя. Когда ультра-радикальные журналы принимали серьезную мину экономистов, они или рабски следовали фантазиям Луи Блана, или бессовестно обкрадывали «Démocratie pacifique», поочередно с журналом Прудона. Был однако еще один радикальный журнал, замечательный по диалектическому искусству речи и блестящей литературной форме, который издавался в министерстве внутренних дел. Это были знаменитые «бюллетени»{112} Ледрю-Роллена, которые выходили из-под пера Жорж Занда{113} и, вывешенные на стенах домов и по углам переулков Парижа, подымали столько противоположных страстей в его народонаселении. Мы помним эти художественные радикальные бюллетени, где знаменитый романист Франции, добровольно превратившийся в тайного секретаря министра, говорил с народом великолепным языком страсти. Особенно два бюллетеня сделались всем памятны по своему лирическому одушевлению. В первом Жорж Занд призывала работников рассказать миру свои неслыханные страдания, а во втором умоляла оскорбленных и униженных женщин не удерживать своих стонов, не подавлять в себе чувства обиды из великодушия и смирения, а, напротив, рыдать громко, упрекать людей во всеуслышание, для того чтобы отвечать равнодушному обществу еще раз услугой – указанием на тайную язву его, хотя услуги этого рода уже накопились в значительном количестве, не принося особенной пользы. Пламенная речь министерских дифирамбов разносилась по Парижу наравне с декретами и важными политическими известиями. Знаменитый бюллетень Жорж Занд о выборах, появившийся 16 апреля, накануне манифестации работников, был уже настоящим политическим событием. Он пророчески возвещал Франции, что если выборы в национальное собрание не будут соответствовать ожиданиям народа, то народ возьмется опять за оружие и уничтожит их. Бюллетень старался заблаговременно утвердить право на этот поступок за народом. Ужас, произведенный бюллетенем в умах тех, которые только с появлением национального собрания ожидали правительственного порядка, общественного спокойствия, разразился яростною полемикой; но никто не заметил тогда, что грозный бюллетень, явившийся накануне дня, который мог сделаться роковым для Франции, ослаблял приготовленное движение, способствовал к отнятию доброй части энергии у напора анархических сил, отчасти успокоенных лестной перспективой, какую открывал им министр в будущем. Люди, слушавшие накануне торжественное признание их всемогущества, держали слабее оружие в руках и менее были расположены употребить его в дело. «Тогда не останется (говорил бюллетень, подразумевая неудачные выборы) другого спасения народу, строителю баррикад, кроме того, чтобы еще раз возвысить свой голос и устранить решение ложного народного представительства… Париж, по праву, смотрит на себя, как на доверенное лицо от народонаселения всей французской земли. Париж – аванпост той армии, которая сражается за республиканскую идею… Если анархия, издали подводящая свои мины, если общественные влияния успеют ввести в заблуждение или обмануть ожидания разрозненных и удаленных друг от друга масс народа, то народ Парижа объявляет себя ответчиком за всех, оберегателем всей нации». Так в смутные эпохи государственной жизни партии иногда служат в одно и то же время двум, совершенно противоположным целям, которые глаз современников не всегда различает.
Что касается до социалистических учений разных других толков, дробившихся до бесконечности, то большая часть их пристроилась к Люксембургской комиссии, как бы обрадовавшись твердой почве, которую, благодаря ей, почувствовали они внезапно под собой. Сама «Démocratie» потеряла одного из сотрудников своих, Туссенеля, покинувшего фурьеризм за слишком почетное место, которое назначено капиталу в его системе, а Видаль, автор книги «О распределении богатств», уже заседал в Люксембурге, рядом с Альбером. За Люксембургскую комиссию схоронились также и работничьи журналы, слывшие коммунистическими при Луи-Филиппе. Основатель католическо-демократического журнала «L'Atelier» Бюше и один из главных его редакторов, резчик по дереву, работник Карбон{114} уже заседали в парижской мэрии в качестве секретарей и прославляли в своем журнале благодеяния порядка и достоинства правильного труда. Другой журнал, издаваемый работниками, «la Fraternité», с умеренным социалистическим оттенком, приобрел покровительство мэра, Армана Мараста, и некоторые из его редакторов попали в список кандидатов на депутатство, составленный партией «National». Так, в виду всех, уже образовалась рабочая аристократия, отделяясь вт своих собратьев Во имя прав личности, высшего развития и благоприятных условий. Сам мэр города, Арман Марает, глава умеренных республиканцев и владелец журнала «le National», считает социализм бедствием Франции, а Люксембургскую комиссию полезным злом, рожденным для того, чтоб уничтожить все прочие вместе с собою, и не скрывает своего мнения. При всеобщем молчании изящной и ученой литературы, которую застала врасплох февральская революция и которая во все ее течение так и не выходила из своего изумления, – политическая печать царствовала безгранично. Беллетристика давала знать о своем существовании только продолжением романа «Paturôt a la recherche d'une position sociale» – этим вялым возобновлением «Жилблаза»{115} в современной форме, с злым намерением, но без силы и одушевления в исполнении; натянутыми и немного искусственными шуточками огорченного «Шаривари», который напрасно слыл республиканским шутником при Луи-Филиппе; да еще адресами к избирателям от знаменитых литераторов Франции: Дюма, Сю, Виктора Гюго и проч. Адресы эти заключали в себе политическую исповедь авторов, объясняли их отношения к прежнему правительству, которым многие из них были облагодетельствованы и, несмотря на разницу стиля, достигавшего у иных космического и вместе чудовищного выражения, приходили все к одному общему смыслу: они всю жизнь призывали в душе царство народа, предчувствовали февральскую катастрофу и способствовали ее появлению по мере сил своих и способностей.
Молчал и театр. Театр был теперь не на сцене, а на улице. Разумеется, прежде всего дирекции театров бросились на постановку пьес, запрещенных цензурою Дюшателя. На афишах тотчас же появились объявления о похороненных и воскреснувших драмах и водевилях: «Les filles clôitrées»{116} в Одевне, «Le poéte de Famine»{117} в Амбигю и проч. и проч.; все эти жертвы административной тирании, как их называли, действительно обнаружили бесполезность приговора, их поразившего. Нелепость и бессмыслица их были так велики, что решительно уничтожали действие чудовищных и скандальёзных подробностей, которыми эти пьесы изобиловали. Пошлость играла тут роль спасительницы нравственного и человеческого достоинства. Из этих запрещенных пьес еще довольно забавна была, при крайней пустоте своей, пьеса Пале-Рояля «Le camarade de lit»{118}, представлявшая солдата первой революции, который пошел отыскивать по свету своего старого друга и товарища по казарме, Бернадота. Допущенный к нему, он мало-помалу разговорился с ним за бутылкою вина о прежнем житие-бытие, о богатырских походах, о том, как начинали они карьеру, и довел своего растроганного друга до того, что тот начинает припоминать песенки своей молодости и, наконец, уходит спать, крича на весь народ: «vive la République, une et indivisable»[83]. Несмотря, однакоже, на эти забавные и незабавные нелепости, партеры театров постоянно были пусты, и ни одно произведение, мало-мальски замечательное, не явилось в течение всей революции побороться с общим безденежьем и общим равнодушием к театру и поддержать разорявшиеся дирекции, которые тщетно взывали к правительству о помощи. Одна Рашель спасала еще общников классического французского театра Théâtre Francaise. Она придумала декламировать на сцене «la Marseillaise» и для того явилась перед публикой в образе древней статуи, с белою туникой, но с трехцветным знаменем в руках, олицетворяя таким образом Францию. Певучим речитативом и вполголоса, при мертвой тишине партера, произносила она стихи знаменитой песни, сообщая каждой строфе особенную интонацию, переходя от глубокого чувства грусти по родине к сосредоточенному негодованию на врагов и, наконец, к отчаянной решимости сопротивления. За всеми этими оттенками песни следило и выражение необычайно подвижного лица актрисы, а когда, в минуту призыва к оружию, она падала на колени, страстно прижимая к груди трехцветное знамя, глаза ее горели лихорадкой энтузиазма. Благодаря этой декламации, продолжавшейся не более одной четверти часа, зала Французского театра наполнялась народом сверху донизу и оглушалась неистовыми рукоплесканиями. Легко было понять, что люди различных партий и направлений видели в Франции, олицетворяемой актрисой, каждый свою собственную Францию, по своему вкусу и понятию, а в знамени, к которому она приникала, различали множество таких девизов, каких на нем вовсе и не было нашито.
Посреди этой общей несостоятельности и ничтожества театров выдавался в это время Фредерик Леметр, известный актер театра Porte St. Martin. Он также возобновил две запрещенные пьесы: «L'Auberge des Adrets»{119} и «Robert Macaire»{120}, которые не уступали ни одной из своих подруг в отсутствии человеческого смысла. Спектакль, составленный из этих драм, продолжался, напоминая римские времена или ближайшую эпоху мистерий, два дня, то есть два вечера сряду. О содержании пьес распространяться нечего: автор их, имя которого я позабыл, очень добродушно воображал, что создает страшную мелодраму; но актер, Фредерик Леметр, понял дело иначе и превратил мелодраму в площадный фарс, для потехи публики, создав при этом из главного действующего лица чудовищного героя Робера Макера, поразительный тип современной испорченности. Первая пьеса, «L'Auberge», вся наполнена страшным преступлением, которое совершает Робер (кажется, убийством своего благодетеля); вторая – дальнейшими успехами Робера на пути возмутительных измен, злодейств и обманов всякого рода. Чего тут только не было!.. Но вот что замечательно. Робер казался страшен не столько подвигами своими, превосходившими меру возможного нравственного безобразия, сколько сам собою, психическою задачей, – которую представлял из себя. Этот человек ни на минуту не лишается веселого расположения духа; он обладает неистощимым юмором и прикрывает крайнее развращение мысли и сердца лоском блестящего остроумия, располагающего в его пользу людей, которые всюду ищут потехи для себя. Притом же Робер, созданный актером Фредериком Леметром, не только сочинившим всю свою роль, но еще и дополнявшим ее блестящею импровизацией в минуту исполнения, является и вполне свободным человеком. Он свободнее всего своего века. Нет ни одного так называемого предрассудка, которому бы он верил; нет ни одного чувства, ни одного правила, ни одного общественного или нравственного догмата, которые бы он признавал. Он подсмеивается над всеми условиями человеческой жизни, даже такими, которые принадлежат всему животному царству, как, например, влечение матери к своему детенышу, и окидывает презрительным взглядом мир, который лежит перед ним, опутанный сетями разных моральных чувствований и предрассудков. Подделываясь под лад этого бедного человечества, над которым еще тяготеет ноша обязанностей и добродетелей, уже сброшенная им самим, Робер постоянно говорит о святости долга, о будущем торжестве правды на земле, о величии самопожертвования на пользу общую и проч., и становится особенно красноречив именно в те минуты, когда он предает друга, обкрадывает сына, наносит побои отцу и позорно клевещет на жену. Как Искусный артист, хвастающий своим умением владеть знакомым инструментом, Робер любит перебирать лестницу ощущений и помыслов людских для того, чтобы каждая нота издала под его рукою резкий, нестерпимо фальшивый звук, который можно было бы покрыть хохотом, сарказмом и злою иронией. Прибавьте к этому, что Робер – даровитый человек, чувствующий себе цену и способный занять какое угодно место в обществе. Несмотря на свои преступления, он является постоянно нищим и в лохмотьях; он поэт порока, и поэтому всегда переступает меру, необходимую для выгодных преступлений; он с сумой за плечами и протягивая руку за подаянием, он держит себя, как английский лорд и говорит гордо, как вельможа. Изменившееся положение тоже не имеет влияния на Робера. Сделавшись главою огромного мошеннического общества на акциях, ворочая миллионами и щеголяя в изящном фраке, Робер нисколько не возбраняет себе удовольствия отрезать у посетителя цепочку на часах. Нищенство и богатство стали для Робера такими же мало обязывающими понятиями, как совесть или честь; все это уже ниже его, хотя, разумеется, он предпочитает богатство бедности, по материальным результатам, для которых не щадит ни себя, ни ближнего. Замечательно, что Фредерик Леметр, исполняя свою роль, несколько раз превращался сам, не подозревая того, в действительного Робера Макера. Оно и понятно: нельзя так близко породниться с типом, не имея в себе самом каких-нибудь отдаленных на него намеков. Так, речь, которую Робер, в качестве главы торгового общества, держит к акционерам, Фредерик Леметр начал теми обычными словами, какие влагались в уста экс-короля его министрами при открытии парламентов: «e'est toujours avec»[84] и проч., и пересыпал ее намеками на прошлое, мало приличными и еще менее великодушными. Еще хуже было, когда, следуя роли, Фредерик Леметр вышел на большую дорогу грабить проезжающих в костюме, имевшем разительное сходство с одеждой важного лица, только что покинувшего Францию: в партере пронесся какой-то смутный, почти болезненный вопль, без всяких рукоплесканий. Признаюсь, этот вопль, неожиданно раздавшийся, посреди постоянного, непрерывного хохота, имел для меня огромный смысл. Он свидетельствовал, что как бы ни ослаблена была общественная совесть софизмами и потворствами всякого рода, были же все-таки посягательства, которые возмущали ее. Со всем тем роль Робера, повторяем, была художественным произведением Фредерика Леметра; и если тип, им созданный, не присоединился к знаменитым типам театральной летописи: Дон-Жуанам, Фальстафам{121} и проч., то единственною помехой этому было то обстоятельство, что он не отлился в незыблемую форму письменного памятника. Рожденный на мгновение сценическою импровизацией одного очень даровитого человека, он вместе с ним и пропал, оставив по себе воспоминание только в бывших зрителях своих, все более и более редеющих. Теперь уже много потерял в своем значении и серьезный вопрос, им возбужденный, о нравственном состоянии того общества, которое дало материалы для создания подобного типа и которое встречало его, судя по общему хохоту и одобрению, как очень знакомое лицо. Толпа не может рукоплескать чистой клевете, в какой бы форме она ни являлась: всякий фарс, всякое преувеличение, ради комических и художественных целей, должны сохранять связь с жизнью, по крайней мере для того, чтобы возбуждать смех. Самый смех есть тут не что иное, как результат сличения комической гиперболы с действительностью, сличения, которое каждый зритель делает про себя. Что тип Робера не был произвольным созданием одной фантазии Фредерика Леметра, это доказывалось, между прочим, и страстями, которые волновали партер во время представления. Множество лиц выражало непритворное благоговение к того рода величию, которое сообщил знаменитый актер своему детищу, и множество глаз устремлены были на него с выражением чего-то вроде почтительной зависти, испытываемой обыкновенно учениками перед великим образцом. То и другое сказывалось еще в разных восклицаниях, раздававшихся из партера, посреди представления, и в уединенных рукоплесканиях какого-нибудь пораженного зрителя. Партер, видимо, находился под обаянием идеи, олицетворяемой типом. Когда в последнем акте Робер Макер, преследуемый полицией, садится в лодочку воздушного шара, пускаемого каким-то антрепренером, и, подобно Фаусту, уносится с ним в небо или бог весть куда, избавившись таким образом от ответственности за все свои проделки на земле, – оглушительный восторг партера показывал довольно ясно, в каком состоянии умственной анархии находятся все эти головы, и служил хорошим комментарием для многого, что делалось на улицах Парижа, что говорилось в клубах и что думалось большинством толпы про себя.
Примечания
Очерк П. В. Анненкова «Февраль и март в Париже 1848 года» состоит из трех частей и впервые был опубликован в русской периодике 1859–1862 гг. Первая часть под названием «Париж в конце февраля 1848 года» появилась в журнале «Библиотека для чтения», 1859, № 12, с. 1–40, за подписью: П. Анненков. Вторая под названием «События марта 1848 г. в Париже» и третья – «Физиономия Парижа в марте месяце» были опубликованы в «Русском вестнике», 1862, № 3, с. 239–299, также за подписью: П. Анненков.
Публикации возникли на основе «Записок о французской революции 1848 года», написанных Анненковым в Париже в период революционных событий 1848 г. (см. ниже), но представляют собой качественно новый материал. Во-первых, Анненков, использовал лишь первую часть своих «Записок», значительно сократив ее, но в то же время ввел в текст сведения о последующих событиях революции. Во-вторых, сам рассказ о парижских событиях в очерке лишен непосредственности и взволнованности, присущих «Запискам», но взамен чувствуется определенный отбор описываемых событий и даны обобщения, отсутствующие в «Записках».
Анненков намеревался продолжить публикацию своих воспоминаний о революции, что явствует из его письма к M. H. Каткову, редактору «Русского вестника», от 15 февраля 1863 г., где он спрашивает: «Да уведомите – найдется ли место в «Русском вестнике» для продолжения моих заметок о французской революции 1848 г., последнюю часть которых привожу теперь в порядок» (ГБЛ, ф. 120, Катков, карт. I, ед. хр. 11).
В ответном письме от 5 марта 1863 г. Катков уведомляет Анненкова: «…не может быть сомнения, что продолжение Ваших воспоминаний будет принято «Русским вестником» с полным удовольствием и радушием» (Анненков и его друзья, с. 494) Однако продолжения воспоминаний не последовало.
Впоследствии Анненков объединил журнальные публикации в один очерк, состоящий из трех частей, и под названием «Февраль и март в Париже 1848 года» опубликовал в I отделе своих «Воспоминаний и критических очерков» (СПб., 1877, с. 241–328). Текст первой и второй публикаций очерка идентичен, есть лишь небольшие отклонения. Так, в книжной публикации опущено придаточное предложение в заключительной фразе первой части очерка: «История возвращения необдуманного переворота назад, домой, к старым, но уже опустошенным местам, может быть, еще поучительнее истории его мгновенного и неожиданного успеха, который мы старались представить в кратком очерке нашем» («Библиотека для чтения», 1859, № 12, с. 40). Кроме того, изменена начальная фраза второй части очерка. В журнальной публикации читаем: «Мы начинаем с той минуты…» («Русский вестник», 1862, № 3, с. 239), в книжной: «Начнем с той минуты…» (см. ниже).
В основу настоящего издания положен текст второй, книжной публикации, т. к. она была последней прижизненной публикацией автора.
Сноски
1
Реформа (франц.).
2
Как Марат{122} (франц.).
3
Инсуррекцию (от франц. insurrections) – мятежников.
4
«Да здравствует реформа! долой Гизо!» (франц.).
5
«Марсельеза» (франц.).
6
Ферулу (от лат. ferula) – линейку (в значении розги).
7
«В министерство иностранных дел, в Тюльери!» (франц.).
8
Дело чести (франц.).
9
«Да здравствует муниципальная гвардия!» (франц.).
10
Амбулатория (франц.)
11
Передовая статья в парижских газетах (франц.).
12
«Уйдите прочь, люди крови и несчастья» (франц.).
13
Континуум (франц.).



