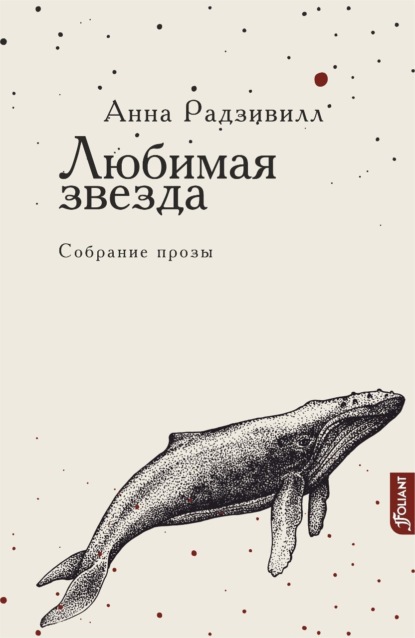
Полная версия:
Любимая звезда
– Ну что ж, недурно, недурно… Правда, чувствуется влияние Эрмитажа… Гм… золотое сечение. Но в общем можете, Оленька, можете…
Лёлька стоит перед ним как натянутая струна, какое-то между ними устанавливается молчаливое взаимопонимание, и я тихонько выхожу из комнаты.
Однажды так вот вышла, а вернувшись через несколько минут, застала странную картину: Лёлька, скрученная в три погибели (мне даже сначала показалось – связанная), была притиснута к дивану рядом с художником. Одной рукой он с трудом удерживал её в таком положении. Другая рука тоже была занята – в ней был журнал вверх ногами. Невозмутимо и рассеянно он в этот журнал поглядывал.
– Господи, что у вас произошло? – ахнула я.
Оба молчали. Художник всё ещё пытался придать себе безразличный вид. Журнал в его руке вздрагивал.
На запястье виднелись синие следы от зубов. Кровь яркими каплями выступала прямо на глазах.
– Она меня укусила, и мне пришлось её обездвижить, – наконец холодно произнёс он.
– Ольга! Что с тобой? Гостя? Кусать?
Лёлька молча мерцала потемневшими глазами. Такой взгляд я видела у неё впервые. Вдруг она извернулась, распрямилась как пружина и выпалила:
– А чего он сказал, что у меня зубов нету? «Где ж у вас, Олечка, зубки-то?» – передразнила она его. Слёзы уже кипели у неё в горле. – А вот теперь он знает, где у меня зубы! – Тут выдержка оставила её, она кинулась ко мне на шею и горько разревелась.
Я вытерла ей слёзы и увела её спать. Натягивая пижаму, она всё ещё всхлипывала.
– Ну ладно, ладно, – говорила я, – хватит реветь. Не такой уж он мерзавец, чтобы его кусать. Вот ты бы, например, вышла за такого замуж?
– Вышла бы, – сказала она печально. – А где я такого возьму, когда вырасту?
– Ну, например, у него будет сын. Такой же высокий, сильный… Ну, в общем, совсем такой же…
– Так пусть он сначала женится, – ехидно сказала дочь. – Он же сам себе сына не родит, ему ведь жена должна родить! – блеснула она эрудицией.
Наутро я, моя свекровь и Лёлька обсуждали события вчерашнего вечера.
– В моё время детей воспитывали иначе, – гордо сказала бабушка Валя. – У нас на Пасху гостей бывало человек по сто. Целые копчёные окорока на столы ставили, и гости всё съедали. И ни один не уходил укушенный.
– Да, дорогая, напрасно ты его укусила, – рассеянно улыбнулась я, расчёсывая волосы перед зеркалом. – Такой мужчина тебе ещё не по зубам.
– Но они же у меня вырастут, мамочка! Ты же сама говорила: «Солнышко пригреет – зубки и вырастут!»
– Кто его знает… – задумывается бабушка и тут же спохватывается: – Конечно, если ты каждое утро будешь есть сырую морковку, то уж… тогда уж без сомнения вырастут!
И вдруг загадочно улыбается нам, сверкая ослепительными новыми зубами.
Подарочек
Этот рассказ я начну так: к сожалению, мой муж не любит дарить подарки. Вернее – не умеет. Чужие мужья умеют, а мой – нет.
– Ну, ясно, – небрежно сказал муж, – все женщины-писательницы обязательно пишут про своих мужей. Наверно, поэтому они так однообразны. Вот если бы они писали про своих разных хороших знакомых… Вот тогда читателям было бы интересно!
Но я всё равно начну так: увы, мой муж не умеет и не любит дарить подарки.
Сначала я обижалась. Потом это прошло. Даже если подарить ему сразу плавки и роскошное пляжное полотенце, он всё равно не обрадуется, ни о чём не догадается, и нужно брать его за руку, вести в магазин и между прочим так сообщать: «Знаешь, мне так хочется эту (совершенно ненужную мне) элегантную брошку, и не потом, а сейчас!» Он удивится и скажет: «Ну хорошо. Ну давай купим, всё равно деньги-то все у тебя!» И тогда нужно дать ему денег, а потом поцеловать прямо перед продавщицей и обрадованно прощебетать: «Спасибо, мой дорогой! Какой ты щедрый!» – только тогда он догадается, что подарил мне брошку. А научить его дарить так, как это умеют делать другие, мне не удастся уже никогда…
Правильное воспитание человек должен получать в детстве. В начале жизни нужно понять: хочешь получить что-то от мира – так сначала дай ему что-нибудь… Ведь мир – это зеркало. Улыбнись ему – и он улыбнётся тебе в ответ, а скроишь кислую физиономию…
Поэтому я и сказала однажды своей маленькой дочке:
– Хочешь, я научу тебя дарить подарки?
– Хочу. А как?
– А очень просто. Вот смотри: я дарю тебе эту вот целую шоколадину!
Лёлька была ещё так мала, что жадности своей скрыть не сумела. Она протянула ручки и быстро сказала:
– Дай!
– Да нет, не так… Ты мне скажи: «Спасибо!»
– Спасибо. Дай!
– На. Это я подарила тебе подарочек. Поняла?
Понять-то она поняла. Но желания дарить самой не появилось у неё и через три шоколадины. Не прорезалось даже после того, как я привезла ей из Москвы шагающую куклу с неё ростом.
* * *Время шло. А что делать – я не знала.
Осенью мы с Лёлечкой уехали в Одессу. Ловить ускользающее лето.
Я сидела на веранде. Виноградные листья нежно светились на солнце. На песчаную дорожку передо мной сами падали грецкие орехи. А петербургская тоска, унылость и дожди были так далеко…
Посередине дорожки лежала краюшка хлеба, над которой хозяйский Тобик трудился всё утро, а потом всё-таки бросил. Видимо, решил поберечь зубы.
Лёлечка задумчиво вышла из виноградника. Боже, как она была хороша! Маленькая, пузатенькая, в белом сарафанчике, вся перемазанная виноградным соком.
Она увидела хлеб и остановилась. Подняла, бережно почистила о свой сарафанчик и, ни в чём не сомневаясь, потянула ко рту. Как вдруг новая, захватывающая мысль засветилась в её глазах. Она прижала краюшку к груди и побежала прямо ко мне на веранду:
– Мама, мамочка! На! Это же тебе подарочек!
Я осторожно взяла в руки этот первый результат моего правильного воспитания. Машинально сказала: «Спасибо». Из конуры меня с интересом разглядывал хозяйский Тобик.
– Ешь, мамочка, ешь! Это же тебе подарочек! – и, счастливая, бросилась меня обнимать.
А уж на пляже дочь развернулась… Она несла мне все ракушки, камушки и окурки, которые ей удавалось раздобыть в песке. Когда она, пыхтя, выкопала своим зелёным совочком пробку от шампанского, счастью не было предела. Общему. Потому что в своё ликование ей удалось втянуть всех, кто лежал рядом. Ей тоже старались что-нибудь подарить. Она тащила мне пуговицы, розовых варёных креветок и подтаявшие шоколадные конфеты.
Я складывала всё в большую пляжную сумку и благодарила, благодарила, благодарила. А Лёлечку было уже не остановить. И откуда у маленького ребёнка столько сил? Ведь жара-то – с боку на бок повернуться лень.
Мы выкупались в бирюзовых морских волнах. Стало легче. Дочь опять куда-то скрылась. А когда снова появилась передо мной – из кулачка у неё свисало что-то сверкающее, какой-то непонятный мокрый блестящий хвостик…
– Что это?
– Подарочек, – беззаботно сказала она, сунула мне это что-то в руку и унеслась за новой добычей.
На ладони у меня лежали золотые часики на золотом браслете. Вымазанные мокрым песком.
Я ахнула.
– Вернись! Где ты их взяла?
– Там… – неопределённо махнула она рукой в сторону моря.
На пляже никто никаких часов не терял. Целая делегация потрясённых свидетелей отправилась в милицию. В милиции оказалось только одно заявление отдыхающей из Воркуты о том, что у неё на нашем пляже украли золотые часы. Полгода тому назад.
С гражданкой созвонились. Приметы часов не совпадали совершенно. У гражданки даже никакого браслета не было, только ремешок.
– Ну что ж, – пожал плечами начальник отделения милиции, – что тут скажешь – дары моря! У нас в Одессе это бывает…
Подарочек достался мне.
И вот я снова сижу на той же веранде с золотыми отремонтированными часиками на руке. Которые очень идут к моей загорелой коже. И смотрю на закат сквозь виноградные листья.
Ну а что я теперь скажу своему мужу?
Муж-то, может, ещё и поверит, но вот уж свекровь – никогда. Отпустил жену с ребёнком на юг, молодец!
Я вздохнула и поймала откровенно-иронический взгляд Тобика. Он сидел в своей конуре, как Диоген в бочке. Тоже мне, философ!
– Глупая ты собака! Ну что ты понимаешь в воспитании?
Велосипедная история
Мы купили Лёльке первый приличный детский двухколёсный велосипед за год до того, как она смогла на него взобраться. Зимой он пылился в комнате свекрови, а весной все увидели, что ребёнок вырос и уже может.
Но ребёнок хоть и вырос, на самом деле ничего не мог, потому что, как тонко заметила бабушка Валя, два колеса – это вам не три.
Всё самое захватывающее – как именно папа на даче научил её кататься – я пропустила. Я работала. И получила ребёнка, уже «владеющего машиной». В белом платьице, в белых носочках она скромно стояла возле голубого велосипеда и ждала.
Я выкатила из сарая свой, повидавший многое, и мы молча вышли на дорогу. Дорога была асфальтированная и длинная.
Дочь обогнала меня через пятнадцать метров. Шикарно виляя задним колесом, она стремительно понеслась вперёд, не оглядываясь, а когда велосипед въезжал в лужу, поднимала колени к ушам, как кузнечик.
Я поднажала. Она быстро завертела ногами и опять оказалась впереди. М-да…
Километра через два мне стало жарко. Видимо, от того, что в этом году я села на велосипед впервые.
Справа от нашей дороги сочно зазеленел старинный Павловский парк. Очень он мне понравился в эту минуту. Мы свернули на просёлочную дорогу и поехали рядом. Когда едешь рядом – удобно петь.
– Солнце на спицах – синева над головой! – начала Лёля.
– Ветер нам в лица – обгоняет шар земной! – ответила я.
Мы лихо пели, а тонкие сосны и толстые липы подъезжали нам навстречу, неудержимо вырастали на наших глазах.
– Сядешь – и просто нажимаешь на педаль! – грянули мы и с этими словами внеслись в самую заброшенную часть парка.
Гуляющие поспешно заскакали по газонам в разные стороны. Что-то они, по-моему, кричали нам вслед…
И ахнуть мы не успели, как перед нами открылся спуск в глубокий овраг. Тормозить было поздно. Далеко впереди, посредине крутого и довольно кривого склона, торчал вкопанный в землю столбик для автомобилей, чтобы они сюда не сворачивали.
– Ай! – только и успела крикнуть я, как ветер завыл у меня в ушах. «Держись!» я крикнуть даже не успела.
Взлетев на другую сторону оврага, мой велосипед остановился, дрожа, как неукротимый мустанг. За спиной слышался вопль родного ребёнка.
Я обернулась, не слезая. Раскинув руки и закрыв глаза, родной ребёнок в белом платьице валялся внизу на дороге. Голубой велосипедик тихо лежал рядом, остаточно вращая задним колесом. Руль у него был свернут набок. Столбик для автомашин остался на своём месте.
– А-а-а! – вопил ребёнок.
Мне даже страшно было к ней подходить. Бросив своего мустанга, я побежала вниз.
– A-a-a…
He сразу стало ясно, что ребёнок вопит от страха, а не встаёт принципиально.
– О-о-о! Зачем ты повезла меня по просёлочной дороге? А-а-а! Папа катал меня только по ровной дорожке! Я никогда больше не поеду по такой дороге! Я буду ездить только по ровной дорожке! А-а-а… О-о-о!
– Встань! – приказала я.
Но она даже не села.
– Встань, возьми велосипед и спустись ещё раз!
Она так удивилась, что даже замолчала. Я и сама удивилась.
Всё-таки через десять минут Лёлька себя превозмогла. Мы завернули велосипедику руль на место, и я, стоя на обрыве и собрав всё своё мужество, пустила её вниз навстречу автомобильному столбику.
Когда она победно въехала на противоположный склон, кое-как разминувшись со столбиком, это был другой ребёнок. Как будто в ней загорелась лампочка: глаза блистали, а щеки светились изнутри розовым светом.
– Я упала, – рассказывала она потом всем подряд, – а когда встала, то плюнула так (тьфу!), залезла обратно и съехала ещё раз! Сама съехала! По просёлочной дороге… Мама, отпусти меня в парк одну!
Я опять собрала теперь уже последнее мужество и через несколько дней отпустила. Моя мама перестала со мной разговаривать.
Вернулась Лёля тихая, затаённая. Минут двадцать она хранила в себе что-то необыкновенное. Потом позвала меня за сарай и повисла у меня на шее, замирая от счастья. Видно было, что в её жизни произошло потрясающее событие.
– Я видела белочек… Они на ёлке. Они знаешь как бегают? Кругами, по ёлке, друг за дружкой! И пальцами так шуршат…
Потом отпустила меня, тряхнула волосами лихо и гордо, совсем как моя мама в молодости, и засмеялась:
– Знаешь, мне прямо всем встречным хотелось хвастаться, что я уже сама еду! Одна!
Почему луна идёт за мной
– Мама, почему луна идёт за мной, когда я иду?
Вечер. У меня сидит человек, который пришёл по делу, и мне некогда отвечать на бесконечные Лёлькины вопросы.
– Извини, дорогая, – говорю я. – Сейчас мне просто некогда. Пойди помой руки, скоро будем пить чай.
Лёлька уходит безропотно, вежливость её всегда обезоруживает.
– Бабушка, – слышим мы через пять минут из комнаты свекрови, – а почему луна идёт за мной, когда я иду?
– Это обман зрения, деточка.
– Нет, бабушка, это не обман. Я оглянусь – а она уже тут. Я опять оглянусь – а она уже вон тут. Она сама идёт за мной!
– С ума сойти! – поражается бабушка. – Я барышней была – и то об этом не задумывалась. Мне такие вопросы даже сейчас в голову не приходят… Тебе же только пять лет! Нет, в моё время дети о таких вещах не спрашивали.
Проходит полчаса. Дверь тихо приоткрывается, и Лёлька опять осторожно входит к нам. На её халатике сверкает моя самая блестящая брошка.
Человек, который пришёл по делу, всё ещё сидит, и уходить ему не хочется. Мне тоже не очень хочется, чтобы он уходил.
– Ах, какая у тебя брошка! – крайне восторженно замечает он. Лёлька честно верит в этот восторг и, засияв, влезает ему на колени.
– Правда похоже на люстру? Люстры – это в театре такие бывают, красивые-красивые, – объясняет дочь.
– А ты руки мыла? – спрашиваю я.
– Мыла, – врёт она мне прямо в глаза и, почувствовав, что нельзя упускать ни минуты, выпаливает в лицо моему собеседнику: – А почему луна идёт за мной, когда я иду?
– Луна?.. – он тихонько гладит Лёльку по волосам. – Луна – это волчье солнышко, у неё свои законы. Вот когда вырастешь и будешь такая же высокая и красивая, как мама, поедешь ты на поезде куда-нибудь в тёплые страны, – говорит он печально и смотрит на меня. – И луна поедет за тобой. Так и побежит за поездом. И никакие тучи её не проглотят. Ты будешь ехать, а она будет всё смотреть на тебя и смотреть…
Лёлька становится очень серьёзной, задумывается, тихо сползает с его колен и молча сама уходит.
– Папа, – слышим мы через минуту, – а почему луна идёт за мной, когда я иду?
Папа, который целый вечер всё что-то приколачивает, а у него это что-то всё время падает, говорит с Лёлькой долго и подробно, только нам ничего не слышно. Наконец, она врывается, торжествующая, и заявляет:
– А папа объяснил мне, почему луна идёт за мной! Он снял с ёлки шарики и всё объяснил.
– Ну и почему же она идёт за тобой?
– Он мне объяснил… но только я не знаю… – вздыхает Лёлька и смотрит на меня ошеломленно.
* * *А ведь в самом деле: идёшь – и луна идёт за тобой… Сама! Почему?
Самая первая любовь
Печёнкин сидел на первой парте и, как говорили наши учителя, «вертел головой назад». Потому что сзади сидела я.
Когда я была на первой парте, то головой назад вертела я. Поэтому меня отсадили к Лариске Ксендзовой, отличнице. Я-то тоже была отличницей, но ещё я была выскочкой, а Ксендзова – тихая, она должна была на меня влиять.
– А у меня косы длиннее твоих! – сказала она сразу.
– А у меня зато толще!
– А зато ты не знаешь, что такое ямб и хорей!
Мы помолчали. Я не знала, что такое ямб и хорей.
Мне узнать было не у кого. И мне стало нестерпимо стыдно.
– Невежда несчастная, несчастная ты тупица! – с наслаждением прошипела Лариска и перестала меня замечать. Она здорово это умела – не замечать.
А Печёнкин всё равно вертел головой назад.
На русском ему сделали замечание. Он встал, а когда садился, то как-то опять растерянно оглянулся на меня. Класс заинтересованно захихикал, а Лариска тихо, но внятно сказала: «Раз!»
Сёмка Водотынский, который сидел впереди, написал записку: «Печёнкин, не верти головой, а то Ксендзова считает!» Но пока там передавали, записка попала на учительский стол и до Печенкина не дошла.
А на перемене Широчкин, столкнувшись со мной, сказал:
– Гы-ы! – И подтянул штаны локтями.
– Дурак ты, и больше ты никто! – небрежно бросила я.
– Ага, дурак, – согласился он, – а почему ты покраснела?
– А ты штаны подтяни, двоечник несчастный!
– Я вот дам тебе сейчас по вывеске! – нервно сказал Широчкин.
– Дай. Свою будешь в кармане носить, – ответила я.
Папа говорил, что человек должен всегда держать себя в руках, и вообще надо иметь мужество. Тогда все тебя будут бояться. Широчкин меня боялся.
И так было изо дня в день.
Я просто не могла не смотреть на Печёнкина. Но только когда он не видел. Но стоило ему взглянуть на меня, как я сразу же почему-то делала вид, что вообще тут не при чём.
Я уже наизусть знала, как он поднимает руку, аккуратно ставя локоть на парту (я-то всегда руку тянула так, что учителям казалось, будто я вылезу сейчас из своего передника). Наизусть знала, как у доски он сначала отыскивает взглядом меня, а уж потом слушает вопрос, который ему надо повторять. Разговаривать с ним мы совсем не могли, только краснели, то вместе, то по очереди. А Ксендзова, когда ей уже нечем было крыть, презрительно кривила красивые губы и бросала мне в лицо: «А тебя зато Печёнкин любит!» И я замолкала под тяжестью какой-то непонятной вины.
В июне пришла весна. На Колыме весна всегда приходит в июне, а снег выпадает к первому сентября. Школа кончилась, и мы занимались чем попало.
Я ловила рыбу, потому что это мне запрещали родители, и дралась с мальчишками с нашего рудника, потому что они меня дразнили «длинноногая».
Они знали, что я могу вынести всё, но этого оскорбления не прощу. Собирались по несколько человек, подкарауливали меня и кричали: «Длинноногая идёт!» А когда я бросалась на них – били меня. Но я всё равно каждый раз бросалась и приходила домой в синяках. И тогда папа говорил, что вот люди, некоторые, на ошибках учатся, а некоторые – нет.
Печёнкин ходил за мной часто, но издали, смотрел только, и всё.
А рыбу мне запретили ловить потому, что берег Колымы с нашей стороны обваливался. Река его подмывала, и он бухался в воду. А напротив берег намывался, и река поэтому не только текла в длину, но и понемножку двигалась вбок. Когда в воду обвалился клуб, папа взял с меня честное слово, что на берег я не пойду.
Я, конечно, была честным человеком и два дня не ходила, а потом как-то забыла про честное слово и пошла… У меня в затоне под корягой стоял самодельный перемёт с двумя крючками, и, может быть, на крючке уже болтался таймень, кто его знает, надо же было проверить!
А таймень и правда попался, только маленький. Я даже сначала подумала, что он головастик, а потом сообразила, что у нас вечная мерзлота, лягушки-то не водятся.
Прозрачная и холодная река билась и шумела впереди на перекате, а внизу в затоне вода крутилась чёрная и глубокая. Я сидела на берегу и смотрела на своего тайменя, когда кто-то заорал прямо у меня над ухом: «Длинноногая!»
Я оглянулась и увидела, что земля за мной расползается, как старая материя, и быстро-быстро змеится трещина, и всё расширяется, расширяется, расширяется…
– Да прыгай же ты! – крикнул кто-то, но прыгать было уже поздно. Земля под ногами оседала всё ниже, берег вырастал вверх и уже слышался тяжёлый подземный гул…
Я только успела вцепиться в чьи-то пальцы, как земля сама ушла у меня из-под ног и ухнула в воду.
Всё это было совсем неожиданно и поэтому не очень страшно. Я даже не успела вспомнить, что плавать-то я не умею. И только когда оказалась наверху, почувствовала вдруг, что ноги у меня ничего не соображают, и обняла какую-то лиственницу. И близко-близко увидела Печёнкина…
– Господи… – прошептал он совсем бледными губами.
Внизу текла мрачная Колыма, где-то рядом опять ухнул в воду подмытый кусок берега. Я чувствовала щекой кору лиственницы, мягкие её иголочки и не могла произнести ни слова.
– Г-ы-ы… – вдруг сказал кто-то. – Стоите, да?
Широчкин. Он подтянул штаны локтями и снова растянул свой красный широкий рот:
– Надо же… Стоят! Гы-ы-ы! – и залился, чувствуя свою безнаказанность. Ему было весело, и он был прав.
Мы с Печёнкиным наклонили головы, повернулись и медленно разошлись в разные стороны.
* * *Я давно уже знаю, что такое ямб и хорей. И давно не дерусь с мальчишками. Но если я когда-нибудь встречу Широчкина!..
А недавно на трамвайной остановке, в Петербурге… Я стояла и куталась в плащ, а воротник был какой-то маленький, и, конечно, с Невы дул ветер…
– Длинноногая, это же ты! – вдруг сказал кто-то. И первый протянул мне руку, улыбаясь неудержимо.
Широчкин. Загорелый, господи, какой высокий…
– Широчкин… Ты с ума сошёл! – почему-то сказала я. – Ты откуда взялся?
– Из Средней Азии, – ответил он просто.
В тот вечер я не уехала на Петроградскую на своём трамвае. Мы бродили по Невскому. Выяснилось, что я никогда не знала его имени. Теперь спрашивать было неудобно.
В кафе-мороженое мы не попали, поздно. В ресторан я не захотела. И мы уехали на трамвае в Стрельну, в парк.
– Вот, этому парку двести лет, – рассказывала я.
– Ага, а почему ты блондинка?
– А кем ты работаешь? – спросила я вместо ответа.
Он мне не сказал, а когда я стала настаивать, рассердился:
– Ну что ты, маленькая, что ли?
«Наверно это как-то связано с войной», – подумала я.
Толстые одинаковые липы важно стояли по сторонам. Мы остановились, потому что дальше было море. Залив. Розовый, светлее неба.
– Белая ночь, надо же… – сказал он и положил мне руку на плечо.
– А у тебя есть дети? – спросила я.
– Нет, я не женат. А у тебя?
– У меня есть всё, что полагается иметь в моем возрасте, – ответила я, как мне показалось, уклончиво.
Он молчал. Смотрел вдаль, на море.
– А ты помнишь, как мы с тобой дрались? – наконец повернулся он ко мне.
– Не помню… – притихла я. Действительно, я этого не помню.
– А помнишь, тебя ещё звали Лисичка-сестричка?
– Нет.
– Эх, ты. Всё забыла. А что Печёнкин был в тебя влюблён, тоже не помнишь?
Я почувствовала, что надо сказать: «Забыла».
– Какой Печёнкин?
Он посмотрел на меня недоверчиво, но ему очень хотелось в это поверить, и поэтому он поверил.
– Ну ладно, это я понимаю… но… но как я-то по тебе с ума сходил, тоже забыла?
Забыла! Да я и не знала…
До города мы добирались на последнем трамвае. Вагон был совсем пустой. Вагоновожатая смотрела, по-моему, больше на нас, чем на дорогу. Я пряталась в сирень, которую он наломал мне в парке, а ему спрятаться было некуда.
Трамвай несся в молоке белой ночи как будто в безвоздушном пространстве. В зеркальце нас нагло разглядывала, поджав губы, эта вагоновожатая, но мы не разошлись в разные стороны. Мы улыбнулись ей взрослой улыбкой и вышли из вагона вместе.
Вешалка оборвана
У меня оборвалась вешалка. Обыкновенная. От старого пальто.
– У вас вешалка оборвана! – как-то радостно сообщила мне утром тётя Фиса, наша гардеробщица. Я ей не нравилась. – Прогуляла, наверно, вечером, не пришила…
Чего-то я пробормотала, мне было стыдно. Ну как же ведь, женщина, а вешалка оборвана. Конечно, стыдно.
– Вешалка у вас оборвалась! – крикнул мне мрачный гардеробщик в столовой, роняя на пол моё пальто.
Я уже знала, что она оборвалась.
Когда я после обеда подала ему номерок, он швырнул на барьер моё несчастное пальто, а потом высокомерно отвернулся.
– Мадам, у вас оборвана вешалочка, – деликатно улыбнулся мне гардеробщик в парикмахерской и развёл руками. Он снимал с себя ответственность.
Я не взглянула на него.
В троллейбусе мне хотелось толкаться, но было пусто.
А дома муж, помогая мне раздеться, удивился:
– Лапочка, ты знаешь… но у тебя…
– Что? Вешалка оборвана? – невинно спросила я. – Да?
– У тебя… у тебя сегодня прелестная причёска, – сказал он, ловко зацепляя пальто за воротник, и вздохнул.
В тот вечер я не пришила вешалку. Я забыла.
Утром всё началось сначала. Изощрялась тётя Фиса, просто презирал меня мрачный гардеробщик в столовой. В парикмахерскую я не ходила, но зато в поликлинике мне сообщили как новость, что вешалка у меня оборвана.
Оттуда я пошла в Эрмитаж. С несчастным лицом я подала гардеробщице своё пальто и стала ждать. Она повесила его молча, а потом дала мне мой номерок.



