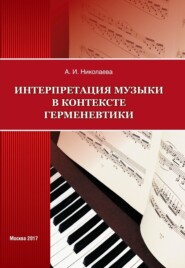 Полная версия
Полная версияИнтерпретация музыки в контексте герменевтики
Утверждение плюралистического отношения к эстетическому предмету мы находим у Канта. В его понимании, существует равноправие (правда, относительное) эстетических суждений; однако, при всей возможности субъективного фактора в восприятии искусства, оно не должно переходить неких границ в истолковании прекрасного, приводящих к произвольной интерпретации.
Так, в философских воззрениях Канта зарождается идея «гиперинтерпретации», развитая многими десятилетиями позже. Кант, в отличие от Данте, считавшего, что лучше всех понимает свое произведение сам автор, утверждал, что в произведении содержится не только то, что автор вложил в него сознательно. Учитывая тот факт, что в произведении воплощено еще и то, что автор воплотил в силу своей интуиции, читатель или критик (для нас, это – исполнитель) может понять художественный смысл текста даже лучше, чем автор. Эта идея, являясь аргументацией плюрализма в интерпретации, будет подхвачена и развита в эпоху Романтизма.
В романтическую эпоху возникает мысль, подготовленная еще Кантом, о том, что любой читатель, а, главное, критик, при восприятии художественного текста «наращивает» его смысл. Более того, это наращивание оказывается необходимым, т. к. без него акт восприятия не состоялся бы. Иными словами, «наращивание» смысла с самого начала присуще восприятию. При этом момент его субъективности не кажется романтикам вредным или мешающим понять текст; напротив, преодолевать субъективность не имеет никакого смысла. Этот взгляд обретает особую актуальность в XX столетии и, прежде всего, в эпоху постмодернизма.
Романтики выдвинули еще одну, на наш взгляд, интересную идею: для того, чтобы смысл текста «состоялся», необходимо сознание другого человека. Этот «другой» в творческом акте понимания обогатил бы этот смысл, открыв в нем те грани, о которых, возможно, автор текста и не подозревал.
Переориентируя это положение на деятельность музыканта-исполнителя, мы можем сделать следующий вывод: речь идет о том, что реализация нового смысла осуществляется уже другим человеком и этот другой дает новую жизнь произведению, открывая его для понимания еще новым «другим». Здесь вновь возникает идея диалога, становящаяся едва ли не важнейшей составляющей философской концепции М. М. Бахтина и «ключевой метафорой современной культуры» [1, 188]. Можно предполагать, что эта романтическая идея послужила основанием для П. Рикера утверждать, что культура живет благодаря интерпретации.
Невозможно, однако, не заметить, что предоставленная интерпретатору свобода несет в себе опасность чрезмерно субъективного толкования текста, чего опасались еще во времена античности. Действительно, в чем разница между «переписыванием» смысла и его «наращиванием»? По-видимому, в том, что наращивание предполагает углубление и расширение исходного, авторского смысла, «переписывание» же означает внесение своего собственного. Может возникнуть такая метафора: читатель в процессе интерпретации балансирует на тонкой линии, разделяющей уходящую в бесконечность громаду смысла и пучину «лжесмысла»…
Вероятно, в теории это выглядит убедительно, но на практике человек наделяет собственным значением окружающие его вещи, события его жизни, обычаи, установленные, имеющие отношение к его жизни. Однако эти установления, бытующие в обществе, в значительной степени выработаны не им. В них закреплен опыт живших ранее поколений. Эти установления выступают посредниками между человеком, живущем ныне, и той реальностью, в которой он существует. В то же время, он сам тоже становится посредником по отношению к другим людям – его современникам и тем, кто будет жить после него, т. к. он также обогащает коллективный опыт своим пониманием действительности. Так возникает одна из важнейших для герменевтики идея «всеобщего посредничества». Но случайно, в самом слове «герменевтика» заключено имя греческого бога Гермеса, выступавшего в роли посредника между олимпийскими богами и людьми, которым он передавал их веления. Эта идея словно изнутри скрепляет человеческую культуру, позволяя видеть в ней единый поток, текущий во времени, или же единое развивающееся целое.
Романтизм, с присущей ему свободой в трактовке выразительных средств и, прежде всего, с расширением и углублением образно-эмоциональной сферы музыки, способствовал развитию герменевтических устремлений. Однако мыслителям этой эпохи еще не удалось создать герменевтическую теорию. Эту задачу, т. е. придание герменевтике статуса научной дисциплины выполнил Фридрих Даниель Шлейермахер (1768–1834), пастор, философ и теолог, названный «отцом герменевтики». Основой интерпретации им был назван инстинкт, а не логика, при этом он считал необходимым изучение внутренней логики текста. Главным средством познания и понимания текста для Шлейермахера служило вживание во внутренний мир автора для того, чтобы понять его замысел. Краеугольным камнем учения Шлейермахера являлся принцип связи частей и целого, называемый «герменевтическим кругом» (подробнее о нем несколько позже).
Первостепенную роль для Шлейермахера играло понятие «общения», как личностного, так с помощью приобщения к памятникам культуры; герменевтика же для него была средством коммуникации. Это положение представляется чрезвычайно актуальным для нынешнего времени, когда количество средств коммуникаций неимоверно возросло, а личного общения становится все меньше. Для музыканта же актуально само определение герменевтики, данное философом, как «искусства» понимания.
Едва ли не основным моментом герменевтической методологии Шлейермахера является необходимость установки на максимальную идентификацию интерпретатора с художественным произведением, а, главное, с его автором. Кроме того, интерпретатор должен реконструировать понимание современными автору людьми, т. е. перенестись в ту эпоху, когда создавалось произведение. «Перед тем, как прибегнуть к искусству, – пишет Шлейермахер, – нужно (…) уподобиться автору объективно (изучив внутреннюю и внешнюю жизнь автора), однако этого можно добиться лишь путем «истолкования», изучая произведения автора и получая, таким образом, представление об авторском словаре, характере и обстоятельствах жизни» [2, 64–65]. Этот путь ставил задачу постижения изначальных значений художественного текста. По мысли философа, любое из них должно пониматься в изначальном контексте, т. к. произведение создано представителями определенной эпохи и для своих современников. При этом ученый утверждал, что смысл художественного текста никогда не сможет быть понятым до конца.
Казалось бы, последнее утверждение давало дорогу плюрализму интерпретации, который, однако, не реализовался в контексте шлейермахеровской парадигмы. Установка же на контекст авторской эпохи, выраженной в следующих словах ученого: «художественное произведение укоренено в своей почве, в своем окружении. Оно уже теряет свое значение, если вырвать его из этого окружения и передать в обращение, оно тогда напоминает нечто, что спасено из огня и теперь хранит следы ожогов [3, 111], чревата опасностью консервации произведения искусства, его короткой исторической жизни. Установка на реконструкцию изначального смысла авторского текста делает работу интерпретатора не творческой (что коренится в самом явлении понимания), а репродуктивной. Таким образом, в ту пору еще нет осознания диалектической роли интерпретации, когда произведение искусства, живя в культуре и обрастая новыми смыслами, остается, при этом, равным самому себе. Однако, многие мысли Шлейермахера остались актуальными и по сей день.
Нет однозначного мнения относительно того, имел ли право, по мнению Шлейермахера, интерпретатор вносить в текст свой собственный смысл. Однако ученый признавал, тем не менее, вслед за Кантом, что читатель может понять текст даже лучше, чем его автор. Для нас важно то, что в учении Шлейермахера утверждается идея диалога, которая по сей день остается актуальной.
Следующим этапом развития герменевтики является творчество Вильгельма Дильтея (1833–1911). Его позиция во многом продолжает шлейермехерскую: он, так же, как его предшественник, считает интуицию главным средством понимания художественного текста. Признавая большое значение интуитивному пониманию, ученый утверждал, что лишь интуитивно постигается целостность предмета, который должен быть рассмотрен долее уже с использованием логических средств. Солидаризируясь с мыслителями эпохи романтизма, он полагал, что интерпретатор может лучше понимать текст, чем его автор, которому не дано понять всю бесконечность и глубину своего творения. При этом основной задачей интерпретатора философ считал реконструкцию авторского смысла, т. к. автор, по его мнению, есть главная фигура интерпретации.
В. Дильтей разделил человеческое знание на две части: «науки о природе» и «науки о духе» (для нас – это науки «точные» и «гуманитарные»), считая, что нельзя методы одной науки использовать в другой. Так, если средством науки о природе является объяснение, то для наук о духе – понимание. Науками, которые должны превалировать в гуманитарной сфере, В. Дильтей считал антропологию и психологию. Последняя, как полагал ученый, должна быть дополнена герменевтикой, т. е. «понимающей психологией», которая, с помощью переживания, способна выявить внутреннюю смысловую структуру как самого автора, так и его текста, и его эпохи.
По мысли В. Дильтеля, чтобы войти вглубь того или иного произведения, надо идентифицироваться с его автором и его миром, становясь поочередно то Гете, то Шекспиром или Шиллером. Эта мысль чрезвычайно важна для музыканта-исполнителя, который, вживаясь в душевный мир композитора, также должен становиться то Бахом, то Рахманиновым и т. д. Понимая метафоричность этого утверждения, мы не можем не увидеть в нем рациональное зерно.
В. Дильтей как представитель направления в философии, называемого «философией жизни», выделяет три типа проявления жизни: понятия, суждения, умозаключения (1); поступки (2) и «выражения переживания» (3). Для нас особенно важно последнее, т. е. третий тип проявления жизни, т. к. на художественном выражении основаны литература, живопись и другие виды искусства.
В художественном тексте, считает В. Дильтей, всегда есть какая-то доля бессознательного. Для его познания нужны особые методы, которыми, по мнению философа, могут служить «сопереживание», «вчувствование», «симпатическое проникновение во внутренний мир другого». «Тем самым, во всяком понимании есть нечто иррациональное, коль скоро иррациональна сама жизнь; понимание не может быть никогда репрезентировано формулами логических операций» [4. 23]. Так как внутренняя жизнь человека представлена ему непосредственно, Дильтей предлагает здесь в качестве основного метода исследования самонаблюдение.
В. Дильтей не обходит молчанием один из основных вопросов герменевтики, т. е. вопрос о самой возможности понимания. Как считает философ, возможности понимания заложены объективно в недрах историко-культурной общности, где живет и действует человек. Для решения этого вопроса Дильтей вводит в контекст своих исследований категорию «общность». Любое состояние индивидуального сознания, по его мнению, выражается в словах, поступках, жестах, выражениях лица. Все это может быть объективировано, выражено вовне в национальном устройстве языка, в структуре общественных отношений и общественных организаций. Кроме того, смысл не принадлежит только одному индивиду, а является достоянием многих людей. Таким образом, общность того, что было названо, выступает основой понимания и объясняет тот факт, что, при всей неповторимости душевного строя каждого человека, все же понимание людей друг друга не только возможно, но и необходимо, т. к. без этого понимания общество не смогло бы существовать.
В. Дильтей, вслед за Ф. Шлейермахером, считал, что «искусство интерпретации состоит в умении видеть невидимое, не лежащее на поверхности, ментальное, а именно, увидеть то, как определенные черты индивидуальности автора текста, которые «навязаны» ему внешними обстоятельствами в процессе воспитания или в течение его жизни, внешними условиями его существования, а также внутренние черты его личности, такие как здоровье, характер, темперамент, сила воли, талант, политические взгляды, мировоззренческие установки и пр., влияют на характер произведения» [5, 25–26]. Одно из достижений В. Дильтея можно увидеть в том, что как философская наука, герменевтика стала у него теорией познания общественно-исторической деятельности, а как исследование процедуры понимания она стала логикой наук, исследующих историю и культуру.
В XX веке отношение к художественному тексту представляет пеструю картину. Эта проблема рассматривается в контекстах разных наук: структурализма, семиотики, «рецептивной эстетики», «мифокритики», психоанализа, постструктурализма, герменевтики. И в каждой из отраслей знания предлагается собственная концепция. Если вспомнить триаду: автор – текст – читатель, то и в ее недрах происходят изменения. За самодостаточность текста выступают структурализм и семиотика, права, читателя утверждает постструктурализм. Не случайно, в эпоху постмодернизма возникает столь часто упоминаемая нами «гиперинтерпретация». Права же автора всегда защищала герменевтика. Видимо, именно с этим ее качеством связан «герменевтический бум», возникающий на Западе в 70-е годы XX столетия, явившийся протестом против чрезмерной вольности в трактовке авторского текста.
Герменевтика XX века становится, наряду с экзистенциализмом, ведущей философской наукой. Именно в ее контексте рождается «новая онтология». В своем главном философском труде «Бытие и время» немецкий ученый Мартин Хайдеггер поставил вопрос о смысле бытия. Без понимания бытие человека признавалось им неподлинным. Иными словами, понимание и интерпретация становились отныне способом существования человека в мире.
В философских трудах герменевтов прошлого века большое значение придавалось языку: «В жизни языка обитает человек», «существо человека покоится в языке», «язык – дом бытия» (М. Хайдеггер). «Язык впервые дает имя сущему, и благодаря такому именованию впервые изводит сущее в слово и явление [6, 103].
Главной задачей герменевтики признается поиск скрытого смысла, хранящегося в многозначных, символических выражениях. Поэтому одним из основных вопросов герменевтики становится вопрос о человеке как субъекте интерпретации. Интерпретация включает человека в контекст культуры, а ее цель – преодоление расстояния между культурной эпохой, которой принадлежит текст и интерпретатором.
Интерпретация, таким образом, живет в двух временных плоскостях – времени текста и, одновременно, в настоящем времени. Интерпретация связывает эти два времени. Однако есть и еще одно время, благодаря которому становится возможной эта связь: глубинное время смысла…
Близки сказанному и идеи Г. Г. Гадамера, возражавшему против идентификации с автором. «Герменевтическое усилие направлено не на то, чтобы переместиться в ситуацию автора, а на то, чтобы отнести несомое им сообщение к своей собственной ситуации» – писал он [7, 329]. Это ведет к безусловной множественности интерпретации и к утверждению того, что не существует единственно «правильного» понимания. При этом в отличие от представителей постструктурализма, Г. Г. Гадамер выступал за научную объективность в герменевтическом постижении истины.
Среди ведущих философов-герменевтов XX в. следует назвать Э. Гуссерля, М. Хайдеггера, Г. Г. Гадамера, П. Рикера, Э. Бетти. В нашей стране, в советское время, герменевтика признавалась буржуазной наукой. Однако и отечественная философская наука дала нам двух величайших представителей этого направления. Это – Г. Г. Шпет и М. М. Бахтин. Необходимо назвать имена и других философов, много сделавших для популяризации герменевтики в нашей стране. Это – П. Гайденко, В. Кузнецов, Е. С. Громов, С. М. Филиппов и другие. Первое десятилетие нашего века отмечено особенным интересом к этому учению, способному изменить отношение человека к миру и самому себе.
2.2. Герменевтика и практика
2.2.1. Герменевтические принципы и методы понимания художественного текста
В этом разделе пособия мы приводим конкретные методы понимания и интерпретации художественного текста, которыми располагает герменевтика. В одном из последующих разделов мы вновь обратимся к тем же методам, однако, ориентируя их непосредственно на интерпретацию музыки. Рассмотрим их подробнее.
Французский философ-герменевт Э. Бетти предлагает четыре герменевтических канона понимания, которые мы имеем все основания считать принципами понимания художественного текста, т. к. они составляют основу, фундамент этого процесса. Они заключаются в следующем:
1. Автономии смысла – (смысл не вносится, а истолковывается).
2. Принцип герменевтического круга – (целое понимается из частей, а части из целого). Соответствие их – критерий правильного Понимания. Сюда же относится и метод дивинации – погружение в целое – озарение, инсайт, интуиция.
3. Актуальность Понимания. Понимание всегда актуально, индивидуально-личностно, исторически-действенно, не может уйти от себя.
4. Канон смысловой адекватности понимания. Внутреннее согласование своей актуальности с побуждениями, идущими от текста.
Канон актуальности понимания означает: интерпретатор не может уйти от себя самого, от субъективных желаний и оценок. «Бессмысленно стремление некоторых историков избавиться от собственной субъективности» (Бетти).
Современные специалисты предлагают модификацию этих канонов. Приводим их ниже:
1. Понимание всегда селективно (выборочно).
2. Истолкование не может быть окончательным.
3. Текст понимается исходя из той ситуации, в которой он возник.
4. Текст обретает завершенность в истолковании.
В герменевтике существует два вида понимания и познания художественного текста: интуитивный и рационально-логический. Оба пути, которые мы вправе назвать методами должны применяться независимо друг от друга. Результаты, достигнутые посредством одного метода, сопоставляются с результатами, полученными другим. Если результаты не противоречат друг другу, то, следовательно, интерпретатор находится на верном пути. Их согласование свидетельствует об успешности психологической интерпретации [8, 37].
Среди способов понимания художественного текста герменевтами выделяются четыре:
1. Грамматический (аналитический);
2. Стилистический (род и жанр);
3. Индивидуально-исполнительский;
4. Реально-исторический.
Эти способы также не следует смешивать, однако, вместе они дополняют друг друга.
Самым важным для герменевтики методом выступает «герменевтический круг». Его корни уходят еще в эпоху Античности, но свое теоретическое и практическое обоснование он получил в концепции Ф. Шлейермахера. Его суть состоит в следующем: для того, чтобы в сознании интерпретатора сложилось представление о целостности предмета познания, должно быть познано некое множество его частей. Однако без познания целого части не дают представления о специфике предмета, поэтому уже после познания целого приходится возвращаться снова к частям. Соответствие целого частям является показателем адекватности понимания предмета.
Представим себе этот путь в виде круга. В этом случае познании частей будет осуществляться по левой стороне круга снизу вверх; достижение верхней точки будет означать, что в сознании человека сложилось ощущение целого. Возвращение же к частям пройдет по правой стороне круга сверху вниз. Так как понимание – процесс, не имеющий конца, то мы можем считать, что названный круг, по сути дела, представляет собой спираль.
Герменевтический круг можно представить себе в виде «ленты Мебиуса». Модель ленты Мебиуса можно легко сделать: для этого надо взять достаточно длинную бумажную полоску и склеить ее противоположные концы, предварительно перевернув один из них. В результате внутренняя сторона ленты оказывается сверху. Символически это означает следующее: двигаясь по одной стороне круга, мы познаем внешнюю сторону элементов художественного текста; проходя же по другой, «перевернутой» стороне, мы имеем возможность проникнуть в их внутреннюю, смысловую сущность.
Если кратко пояснить особенность «герменевтического круга», то можно сказать следующее: части становятся понятными благодаря целому, а целое схватывается, исходя из частей. Это же целое является всегда частью более сложной общности и так до бесконечности.
К методу «герменевтического круга» обращается и Г. Кречмар. Для него важна взаимообусловленность «части-целого», тексто-контекстуальных отношений. Ученый последовательно проводит этот принцип при анализе Фуги до мажор (I т. ХТК) И. С. Баха. «Частью» становятся, смотря по обстоятельствам, то интервал, то мотив, то тема, соотносимые с более крупными единицами – частью произведения или целым произведением.
Как мы увидим далее, этот метод понимания станет актуальным и при понимании музыкального текста.
С целью проникновения «вглубь» авторского смысла, герменевтика предлагает методы: «вживания» в образ автора и текста, «вчувствование», изучение «духа» эпохи, в которую было создано произведение, «идентификация» с автором. Актуальны и уровни анализа («монтаж», «перецентровка», «поиск концепта»). Важно и нахождение смыслов, актуальных для сегодняшнего дня. Этим мы приближаем текст к своему пониманию, к себе, делая его выразителем ценностей нашего времени.
2.2.2. Музыкальная герменевтика
Несомненным завоеванием философии ХХ века явилась разработка особой ветви герменевтического искусства, а именно, музыкальной герменевтики. Кратко остановимся на ее особенностях.
По словам русского специалиста в области музыкальной психологии, В. Беляевой-Экземплярской, «под музыкальной герменевтикой разумеют теоретическую дисциплину, стремящуюся установить смысл и содержание, заключенные в музыкальных формах» [9, 127]. Ученый считает, что у музыкальной герменевтики были предшественники в XVIII в.: Матессон, Кванц и другие. Это были представители распространенного в эпоху барокко учения, называемого «Теорией аффектов». В рамках этой теории фактически был создан своего рода каталог музыкально-выразительных средств. Таким образом, музыкальный язык приближался к языку словесному, т. к. за каждым выразительным средством (ладом, тональностью, ритмом, метром, темпом, жанром), вплоть до отдельного интервала, закреплялось какое-то реальное значение. В начале же прошлого столетия (1902 г.) немецкий музыкант Г. Кречмар попытался возродить эту теорию и, опираясь на нее, осуществить анализ музыкального содержания.
Г. Кречмар утверждал, что для музыки герменевтика особенно важна, т. к. рядовой слушатель не всегда способен понять музыкальный язык (вспомним, что это было время усложнения всех средств музыкальной выразительности – время А. Скрябина, К. Дебюсси, Г. Малера и т. д.). «Между тем, такое понимание совершенно необходимо уже с практической точки зрения. «Чтобы достичь его, должно перейти за пределы переживания лишь какого-то неопределенного потрясения. Следующей за ним ступенью будет понимание формы. Но и оно лишь переходный момент. Кречмар совершенно отвергает формализм Ганслика: музыка для него язык, хотя и менее ясный и менее самостоятельный, чем язык слов» (там же). Г. Кречмар рассматривал три вида современного музыкального анализа [10, 127]. Первый – «субъективно-поэтизирующий», второй – «узко-формальный». Третий, истинный, анализ, основывающийся на содержании произведения, должен исходить из теории аффектов. Этому соответствуют три формы интерпретации: 1) «поэтизирующая», 2) «формальная», 3) «аффективная».
Реанимация Теории аффектов как некоей опоры в поисках музыкального содержания, с одной стороны, была вполне объяснима, однако, с другой, – путь ее выбора был тупиковым. Первое связано с тем, что в той многоликой картине поисков нового музыкального языка, становящегося зачастую мало понятным даже самим музыкантам, поиски какой-то «точки опоры» в определении музыкального смысла, кажутся вполне оправданными; с другой стороны, основные положения Теории аффектов к тому времени уже около ста лет назад потеряли свою актуальность. Как влияние этой теории могут рассматриваться такие ее элементы как семантика лада и тональностей, отчасти темпа и ритма, а также некоторых мелодических оборотов (напр. «мотив вздоха»). Кроме того, музыка выражает не только аффекты, но и многие другие состояния.
Однако, несмотря на сказанное, Г. Кречмар обрел достойное место в истории как «зачинатель» музыкальной герменевтики. Музыкальная герменевтика становится у Кречмара искусством интерпретации и методом обнаружения движения аффекта, содержащегося в мотиве, теме или ритмической фигуре. «Задачей герменевтов является выявление аффектов в звуках и описании структуры их протекания в словах» [11, 163]. «В рамках его «искусства толкования» оформилась центральная идея музыкальной герменевтики: вести во внутреннее и интимное душевной жизни произведения и художника и, насколько возможно, раскрывать отношения со временем, с его особенными музыкальными связями, с его духовными течениями» [12, 199].



