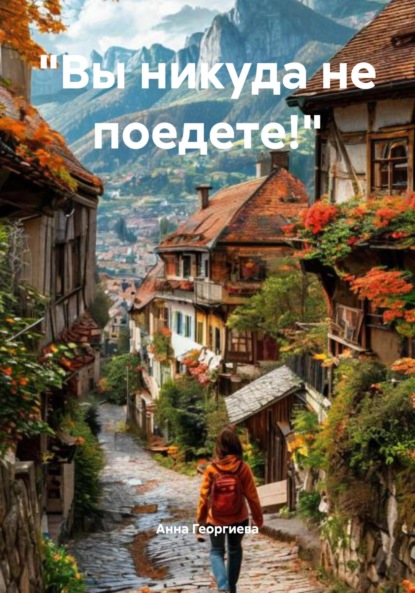
Полная версия:
Вы никуда не поедете!
«Хоровод».
Мы родились в Царицыне в 1920 году. Это уж потом, в 1925, любимый город стал зваться Сталинградом. А ещё в тот год папа принёс большую книгу под названием «Бармалей» – первое яркое воспоминание детства. Потом, когда подросли, мы стали играть в Бармалея во дворе – я, Зиночка, Рая и ребята Гриша, Ванечка и Петенька. В 1930–е годы наша дворовая дружба была искренней и доброй. Мы учились с мальчиками раздельно – в разных школах, но во дворе играли вместе.
Как-то раз мальчишки позвали нас во Дворец Пионеров, где они занимались в кружке авиамоделистов и юных техников. Был запланирован запуск готовых моделей. Тот день был красивый, солнечный, яркий – праздник детского счастья! Петечкина модель приземлившись прямёхонько в заданном квадрате, получила высший балл. Мы хлопали в ладоши, смеялись, а потом, взявшись за руки, завели хоровод вокруг победоносного Петиного истребителя, который он ласково называл «ястребок». Тут-то и появился странный мужчина, который попросил нас подольше кружить в нашем весёлом хороводе. Это, конечно, было странно, но руководитель кружка одобрительно кивал и улыбался, когда мужчина что-то чиркал в своём блокнотике. Назвался он забавным именем – Ромуальд Ромуальдович, а позже мы узнали и его необычную фамилию – Иодко. Он рисовал нас – как весело и беззаботно водили мы свой хоровод! Петечка, Гриша, Ваня, Зина, Рая и я кружили, смеялись, позируя довольному рисовальщику. Позже нам рассказали, что это был знаменитый скульптор, который хотел создать памятник счастливому детству…
Мы уже были подростками, когда на привокзальной площади наконец появился этот памятник–фонтан, а в центре хоровода лежал не самолётик, а довольный крокодил. Это ведь наше любимое стихотворение детства: «И злодея Бармалея, словно муху, проглотил!» Правда, лица ребят на наши не были похожи, и с авторством вышла какая-то путаница. Мы считали, что это Ромуальд Иодко создал по тем рисункам, которые делал с нашего детского хоровода в тот памятный день. Но были и другие сведения, что автор – скульптор Кудрявцева Ольга Николаевна, и такой же её памятник есть ещё в Харькове и других городах Украины. Но мы всё равно считали его нашим символом детства!
На выпускном мы рядом с этим памятником–фонтаном поклялись в вечной дружбе… И не только! Петечка уже давно ухаживал за мной. А Гриша – за Зиночкой и Ваня – за Раей. Мы поступили в институты и верили в светлое будущее. Петя, все годы ходивший в авиамодельный, так и решил стать лётчиком, а я – учителем. Гриша и Ваня пошли учиться на инженеров, а Зина с Раей хотели лечить людей. Это было прекрасное время! Мы жили на реке Волге в лучшем городе, который носил имя нашего мудрого и великого вождя – в Сталинграде!
Когда мы окончили второй курс, началась война. Летом 1941 года мы, поклявшись бить врага, попрощались около нашего хоровода детства. Петя сразу оказался лётчиком на передовой. Его истребитель – настоящий «ястребок» сбивал фашистские самолёты. Гриша с Ваней тоже ушли добровольцами, хотя могли остаться при заводе как инженеры. Уже летом 1942 года стало понятно, что фашисты нацелены на взятие родного Сталинграда. Но этого мы допустить не могли!
Я присоединилась к Зине и Рае, которые без отдыха работали в госпитале. Ожесточённые бои августа – сентября 1942 вспоминать страшно, мы не успевали перевязывать раненых. И вот однажды во время ночного дежурства был налёт, доставили новых раненых, и в одном из них я с трудом узнала Григория. Раны его были смертельны. Он тоже узнал меня. «Люська, – прошептал он запёкшимися губами, – мы отстояли памятник! Враг отбит от вокзала».
Слёзы текли по моим щекам. Я вспоминала символ нашего детства – хоровод шести счастливых детей лучшего в мире государства, которое нам теперь надо было отстоять у врага!
В краткое затишье какой-то отважный фотограф сделал снимок нашего фонтана. Позже мы с девушками узнали, что где-то недалеко погиб и Ванечка. Рая долго плакала, ведь они собирались пожениться… А осенью Зина и Рая вместе попали под бомбёжку, когда эвакуировали госпиталь… Долго не было известий о моём Петечке… Его самолёт – героический «ястребок» – пошёл на смертельный таран в небе над Сталинградом… От нашего хоровода осталась только я – Люся…
Но выстоял великий наш солдат,
Но выстоял великий Сталинград!
Выстоял и наш фонтан–памятник, став символом стойкости и мужества. 9 мая 1945 года я пришла к нему – к Петечке, Грише, Ване, Зине и Рае, изваянным из гипса, чтобы вместе встретить Великую Победу. Тихонько дотронулась до каждого… Мы всегда будем кружить в нашем счастливом детском хороводе! Это будут дети свободной Родины, спасённой Петечкой, Гришей, Ваней, Зиной, Раей и миллионами других павших за светлое будущее…
На этом записи в тонкой пожелтевшей тетрадочке заканчивались, так показалось мне, прочитавшей полную светлой грусти безыскусную историю неведомой мне, но ставшей родной, бабы Люси, пережившей страшные годы Сталинградской битвы. За скромными строчками на старой бумаге вставали вихрастые жизнерадостные задорные ребята – Петя, Гриша, Ваня и их очаровательные подруги – Рая, Зина, Люся. Они водили свой бессмертный хоровод вокруг улыбчивого крокодила, проглотившего фашистскую гадину. Между страниц другой тетрадки лежали газетные вырезки. Одна с фотографией, ставшей знаменитой на весь мир, сделанная Эммануилом Евзерихиным в 1942 году; ещё одна вырезка – июль 1945, физкультурный парад в Сталинграде на привокзальной площади рядом с фонтаном–памятником… А ещё в той тетради была приписка, сделанная по всей видимости дрожащей рукой: «Уезжаю с мужем в маленький город, буду учительствовать… А наш хоровод…снесли… Петечка, Гриша, Ваня, Зиночка, Рая, наш волшебный танец будет всегда со мной. Память о нём и о вас, мои родные, я пронесу через всю жизнь! 1951 год».
Действительно, фонтан «Детский хоровод», который люди ещё называли «Бармалеем», переживший Сталинградскую битву, демонтировали при застройке центра города в 1951 году. А ещё через десять лет Сталинград переименовали в Волгоград… Представляю, как обливалась слезами душа Люси, прощавшейся с родным символом довоенного детства…
Подшивки журналов заканчивались началом 90–х. Видимо, в те годы завершился земной путь бабы Люси. К сожалению, ей не довелось узнать, что в 2013 году благодаря неравнодушным людям знаменитый фонтан–памятник был восстановлен скульптором Александром Бургановым по знаменитой фотографии 1942 года. Более того – брат близнец хоровода был установлен возле руин мельницы Гергардта. Люся с Петечкой, Гриша с Зиной, Ваня с Раей вновь стали кружить в своём бессмертном хороводе. Возможно, символические лица гипсовых ребятишек не совсем похожи на те, что в далёком 1930–м нарисовали с шестерых друзей, но фонтан–хоровод кружится у Волгоградского вокзала вокруг улыбчивого крокодила, проглотившего фашистскую гадину.
Из окна поезда мне был виден величественный монумент Родины–матери. Она надёжно охраняет детский хоровод. Я везла к нему тоненькую тетрадочку неведомой мне, но ставшей родной, бабы Люси, чтобы она вновь встретилась со своими друзьями…
Бабушка
–
ложка
Я вместе с тобой глотаю обиды и упиваюсь восторгом! По утрам наполняю тебя энергией на целый день, передаю силу времени, погружаю в глубины прошлого. Потом я замираю в ожидании, впадаю в созерцание пластов времени и сознания. Жду тебя, чтобы вновь упиваться восторгом прожитого дня или глотать его обиды…
Осенью 1941 года немецкие войска оккупировали Сталино и Макеевку. Анастасии к тому времени было уже тридцать семь, а сыну её Георгию ещё не было и года. Уезжать из родных мест она не собиралась. Летом муж спешно эвакуировал на Урал оборудование Харьковского завода и предлагал ей выхлопотать место. Но Наца, так звали её родные, наотрез отказалась. Враг оказался проворнее, и эвакуировать завод не успели, муж её попал в плен. Ему, высококвалифицированному инженеру, предлагали работу на благо Германии, но он предпочёл бежать. У отряда СМЕРШ разговор короткий – был в плену, значит шпион. Потому пошёл он в составе штрафбата на защиту родной Курской области и сгинул там во время Куско–Обоянской операции в январе 1942. Получив похоронку, Наца с грустью посмотрела в ясные голубые глаза сына и приняла единственно верное решение – смириться и работать. До войны она преподавала французский и немецкий языки в школе. Навык пригодился, служба в немецком штабе рядовой переводчицей давала льготы ей и ребёнку. Она оставляла сына на попечение младшей сестры Нины и отправлялась на службу…
В тот день на душе было тревожно. Дурное предчувствие, словно сдавливало виски и заставляло учащённо биться сердце. Во дворе Настю встретила сестра с посеревшим лицом:
– Настенька, Жорика забрали!
– Как?! – вскриком раненой птицы выдохнула молодая женщина.
– Я на огороде была, Жорик рядом играл. Офицер шёл, солидный такой, смотрел долго, как Жорка возится, травинками играет… А потом забрал, – сквозь слёзы тараторила, подвывая, Нинка.
– Сказал чего? Куда повёз? Ты говорила ему, что я в штабе у них перевожу? – Настя засыпала сестру лихорадочными вопросами.
– Говорила! Всё говорила! – причитала Нина.
На службе, куда прибежала взволнованная Настя, ей ничего вразумительного не ответили. Когда она мчалась обратно к дому, то издалека заметила необычную картину: рядом с калиткой стоял высокий моложавый немецкий офицер, которого она не раз видела в штабе, а на руках у него сидел умытый, причёсанный, приодетый Жорик и деловито сосал леденец, а в другой руке держал чайную ложечку.
– Прошу простить, фрау, что доставил беспокойство, – вполне вежливо начал офицер. – Ваш сын очень напомнил мне моего сына Ганса, у него такие же голубые, как небо, глазки и белые шелковистые кудри. Он с женой в Магдебурге, в Саксонии. Я так по ним скучаю.
– Но это не Ганс, герр офицер. Это мой сын Георгий, – проговорила Настя, с трудом сдерживая волнение.
– Фрау, в качестве компенсации я привёз вам провиант. Позвольте иногда играть с Гансиком.
– С Георгием, – тихо проворчала Настя и устало опустилась на скамейку…
К счастью, этого чадолюбивого офицера вскоре перевели по службе дальше на восток. Настя от пережитых волнений сильно заболела, а сестра Нина потихоньку вместе с Жориком лакомилась подарками, среди которых оказалась небольшая ложечка с ручкой, похожей на шпатель. Мальчик играл ею, пока мать не забрала столовый прибор для хозяйственных нужд.
Страшные годы войны ушли в глубины времени. Память постепенно стирала страх и горе, пласт лихолетья и тяжких испытаний сменили годы постройки новой жизни.
В 1980 году в тихом украинском городке Пологи, что в Запорожской области, пожилая женщина Анастасия Фёдоровна ждала в гости любимого сына и внучку. Белые шелковистые кудри давно покинули голову Георгия, а у внучки были непокорные рыжие вихры – в мать. «Эх, зачем на кацапке женился», – вздыхала бабушка Наца, но конфликтовать не решалась, ведь решения сына были неоспоримы, да и семилетнюю внучку она очень любила и ждала.
Осторожно перебирая спутанные рыжие локоны, Настя напевала внучке: «Их либе дер шуле, их либе дер шпиль, их либе дер бюхен, их либе гарпиль», или «Котик усатый по садику ходит, а козлик рогатый за котиком бродит, лапочкой котик помадит свой ротик…» Внучку звали Маринка, в этом году она шла в первый класс. Георгий свозил её по всем родственникам – в Бердянск, Гуляйполе, Запорожье, Донецк. Эти дошкольные летние месяцы Маринка запомнила, как фейерверк украинских эмоций… и последнее лето с бабушкой Нацей.
Собирая в обратную дорогу дорогих людей, Анастасия Фёдоровна положила баночку шелковицы в сахаре.
– Мам, ну зачем лишнее? Маринка вся измажется.
– Жора, а возьмите ложечку, – хитро улыбнулась бабушка.
– Неужели та самая? Как ты её сохранила? – удивился Георгий.
– Она сама себя сохранила, – усмехнулась Настя, – в сундуке за скатертями спряталась. Я Нинкиному сыну серебро столовое на свадьбу готовила, смотрю, а там серенькая скромница. Возьми, Маринке потом отдашь.
В воспоминаниях внучки статная бабушка в светлой аккуратной косынке на белоснежных волосах долго шла за медленно отъезжающим вагоном, который увозил на далёкий Урал дорогих ей людей и хитрую серую ложечку… Годы детства ушли в глубины времени, став пластами хранилища памяти.
В 2021 году осенью от ковида умер Георгий. Как когда-то в далёком 1983 он не успел на похороны Насти, так и Маринка немного не успела к нему. Она приехала лишь через пару месяцев с двумя уже взрослыми сыновьями… Собирая их в дорогу, её мать неожиданно сообщила:
– Возьми, бабки твоей ложка. Уборку делала – нашла. Отец твой её любил, очень переживал, что потерялась при разводе, а она, оказывается, смешалась с ложками из моего приданого.
– А что за ложка? – вяло поинтересовалась дочь.
– Да, он говорил, память военных лет, когда они с матерью в оккупации были.
Марина уважительно взяла в руки простую серую ложечку с ручкой, похожей на шпатель. Ей показалось, что от столового прибора пошло тепло. Через глубины времени ложка хотела поведать свою историю…
Теперь её звали уважительно – «улюблена педагогична ложечка» или Бабушка–ложка. Она сопровождала по утрам ежедневную чашечку кофе, задавала старт удачному дню. Ветер времени постучался неожиданно…
Волгоград в феврале 2025 года приветствовал обжигающим ледяным ветром. Могучий монумент Родины–матери сурово возвышался на Мамаевом кургане. Но на следующий день выглянуло солнышко, а Марина оказалась в Красноармейском районе – в Старой Сарепте…
Немцы–генгутеры прибыли в эти места более 250 лет назад из Саксонии. Гернгутеры фанатично относились к религии, поэтому здание кирхи лютеране возвели одним из первых. Кирха – сердце Сарепты, на её башне часы с двумя циферблатами: на обращённом к площади чёрном – бронзовые стрелки отсчитывали земную жизнь людей, а белые часы, смотрящие на кладбище, символизировали вечную жизнь в царствии небесном. Рядом с Кирхой – небольшой музей. Там знаменитое горчичное масло, арбузный мёд – нардек, Сарептские пряники. Избыток информации заставлял не задерживаться подолгу у музейных витрин. Волновал подвал с историями о привидениях, живущих там, но они, конечно, всем не показываются. Однако после посещения подвала что-то заставило вновь вернуться к небольшой витрине в одной из дальних комнат…
За стеклом скромно лежала маленькая серая ложечка с ручкой, похожей на шпатель. Знакомая ложечка!
– Откуда ты, дорогая? – изумилась Марина.
– Из Саксонии. Когда–то давно немцы–лютеране, узнавшие о Сарепте, перебрались сюда, а я – с ними.
– А меня дома ждёт такая же, как ты, серая скромная ложка с богатой историей. Я зову её Бабушка–ложка. Это твоя сестра?
– Ты удивишься, но это моя внучка! Всё не случайно в этой жизни. Пласты и глубины времени залегают в определённой последовательности; нити судьбы переплетаются в определённых точках. И всё, что должно случиться – происходит непременно! Главное – уметь остановиться, прислушаться, и тогда обязательно ощутишь и увидишь мощь и величие времени, – так поучала Марину ложечка, лежащая в музейной витрине Сарепты.
– Но откуда ты можешь это знать, ведь ты – музейный экспонат?!
– Как ты наивна, дорогая! Каждый музейный экспонат – это почти профессор исторических наук. К тому же до музейной витрины у меня была своя долгая и насыщенная жизнь. Но это отдельная история. Может, когда-то через мою внучку ты почувствуешь, увидишь и запишешь её… А ещё, если ты зайдёшь в музей–панораму Сталинградской битвы, там в одной из витрин увидишь одну из моих сестёр. Её оставили при отступлении. И у неё тоже своя история, – серая ложка вздохнула, наполняя этим вздохом вечность…
Каждое утро во время кофейной церемонии я принимаю все глубины жизни вместе с маленькой серой «улюбленой ложечкой», а после работы с ней же глотаю обиды или упиваюсь восторгом, философски воспринимая прожитый день – песчинку пластов и глубин.
Год 2025 ещё не окончен, и нас ждёт впереди интереснейшее путешествие. Но о нём, по закону кольцевой композиции, – в последней главе…
Глава 2. 2024
Казань
Здравствуй, Казань!
«Как, вы ещё не были в Казани?» − удивлённый вопрос от любого бывалого туриста. Теперь мы можем ответить на него утвердительно и обязательно добавим: «В красавицу Казань не влюбиться невозможно!» Столица Татарстана стала своеобразной Меккой для всех путешественников…
Здравствуй, ноябрьская Казань! Во-первых, нашли атмосферную гостиницу «Кунак»: ворота с национальным орнаментом, разнообразные бонусы к проживанию в виде экскурсии по татарскому дому и разового питания в кафе национальной кухни…
Воспоминания, как ни странно, у нас с сыном оказались отличающимися друг от друга. Общим разве что был восторг от Казанского кремля – комплекса архитектурных, исторических, археологических памятников. Белокаменные стены высотой до 12 метров, мечеть Кул-Шариф, но большее впечатление от башни Сююмбике. Это «падающая башня», отклоненная на 2, 19 метра (по данным на 2023 год). Волновал даже не её особенный вид, а легенда, которую, услышав раз, не забудешь. В 1552 году Иван Грозный после взятия Казани был поражён красотой царицы Сююмбике и пожелал, чтобы она стала его женой. Гордая правительница поставила условие: построить за семь дней самую высокую башню в городе. Когда условие было выполнено, Сююмбике поднялась на вершину и бросилась вниз, предпочтя смерть неволе. Может, и не так всё было, но башня не уступает другим «падающим сооружениям», даже знаменитой Пизанской башне.
Казань – это не только внешняя красота, но и духовное великолепие, доброжелательность, а ещё гастрономическое удовольствие.
− Запиши всё о кыстыбаях, эчпочмаках, бешбармаках и чак-чаках, − посоветовал гурман-сын. – И особенно выдели губадию!
− Даже звучание названий этих блюд вкусно и музыкально!
Кыстыбай – пресная печеная лепёшка с начинкой; особенно вкусно с пшёнкой. Эчпочмак – треугольный пирожок с начинкой, неплохо с традиционной бараниной. Очаровательны десерты, в основе которых мёд: знаменитый чак-чак, талкыш-калеве, кош-теле. Закрытый пирог с многослойной начинкой – губадия. Он оказался неимоверно сытным, и, объевшись, подначивали друг друга: «Губадия не дура!» (по аналогии с «губа не дура»)
Сын был впечатлён вечерней экскурсией, великолепием огней Дворца Земледельцев и его бронзовым деревом. Величественный Дворец Земледельцев – это административное здание, украшенное барельефами, арками, портиками, колоннами, балюстрадами, шпилями и эркерами, это символ аграрной мощи Татарстана. Ноябрьским темным вечером фасад Дворца был озарён мистическим белым светом, а купола – зелёным, в центральном портале – дерево с изумрудными огнями, создающими иллюзию «призрачной листвы».
Красавица Казань дала возможность разгуляться нашим эстетическим запросам. Традиционную прогулку по центральной улице Баумана венчало восхождение на смотровую площадку колокольни Богоявленского собора. Порывистый ноябрьский ветер способствовал отсутствию других посетителей и нашему дополнительному адреналину. Узкая винтовая лестница, маленькая площадка наверху, с неё – прекрасный вид на Казань… Страшно подходить к краю, ведь вместо кирпичной кладки под ногами обычная сетка. Ветер гудел в колоколах, раскачивал их, и казалось, что и нас сдует, как пушинку. У-у-у… Эмоции и кураж зашкаливали!
Деревня «Туган Авалым» − этнографический музейный комплекс тоже посещали в вечерней темноте. Сын нашёл деревянную гирю и с удовольствием тягал её. Я же купила себе мистический перстень – всевидящий глаз дракона Зиланта, он − символ Казани.
«Туган-Авалым» − красочная деревня в центре мегаполиса, переводится как «родная деревня», открыта была в 2005 году в честь празднования тысячелетия Казани.
Казань и её окрестности полны уникальных мест! Отдельный целый день понадобился нам, чтобы изучить Храм всех религий или, как его ещё называют, Вселенский Храм. Концепция его в том, чтобы собрать воедино различные религии: православие, ислам, католицизм, иудаизм и другое, у Храма 16 куполов по количеству мировых религий. Там не бывает служб, это Музей Мира. Построили его братья Хановы в 90-е годы 20 века. Фасады украшены витражными окнами, мозаикой, композициями из разноцветной смальты – всё это придаёт Храму праздничность. Вход бесплатный!
Мы бродили из зала в зал, проникаясь великолепием одних залов и суровой скромностью других, открывая новое в следующих; из платных услуг позволили себе необычный релаксирующий массаж чашами в буддийском зале. Позже заказали и себе домой такую чашу… Ощущение мира, единения, благодати взаимопонимания переполняло нас после дня, проведённого в Храме. Наверно, этого и хотели его создатели.
День, завершающий наше недолгое, но насыщенное пребывание в Казани, б был ознаменован поездкой в чудный остров-град Свияжск. Это исторический город, расположенный на небольшом острове, был основан в 1551 году Иваном Грозным, там была построена крепость для поддержки русских войск во время осады Казани.
«Остров на море лежит, град на острове стоит с златоглавыми церквами, с теремами да садами…»
Считается, что незабвенный Александр Сергеевич Пушкин описывал именно Свияжск, когда создавал образ своего острова Буяна. Возможно, что так и было… Ноябрьский ветер вздымал волны трёх рек, что окружали Свияжск: Волга, Щука и Свияга. Он завывал, рассказывая свою бесконечную песнь, было холодно, но интересно. Проехали через дамбу, поднялись на вершину, насладились суровыми осенними видами, отогревались в уютных православных храмах: Троицкой и Сергиевской церкви, Собора Богоматери Всех Скорбящих. Поели в трапезной. Вкусно! На обратной дороге узнали много интересного об Иннополисе – городе IT-специалистов, что расположен в 40 километрах от Казани на пересечении Волги и Свияги. Казалось бы, впечатлений уже море! Но напоследок особой атмосферой нас очаровала национальная библиотека, где в уюте мягких кресел, поглядывая в окно на ноябрьские сумерки, сгущающиеся над гостеприимной Казанью, писала я очередные рассказы, листала красивые и добрые книги… Завершающий аккорд – кофейня «Нефть»!
Спасибо, Казань! Ты не только красавица, но и умница! Ты – совершенство!
Ржев
Здравствуй, суровый Ржев.
Приехали мы в проливной октябрьский дождь, но нашему настрою – посетить Ржевский мемориал – это не помешало.
Величественный монумент был открыт к 75-летию Победы в 2020 году. Статуя советского солдата высотой 25 метров, помещённая на вершине восьмигранного десятиметрового холма, вокруг неё 55-метровая аллея, её зигзагообразно изломанные стены облицованы гранитом. Ноги воина окружает журавлиная стая – это образ всех павших.
Мы с сыном стояли у монумента под проливным дождём, и в свете прожекторов наблюдали тени, встающие за плечами солдата – великое небесное воинство. И этот дождь был, как слезы веков. С ним шёл поток вдохновения. На следующий день его подкрепила прогулка по безлюдному осеннему городу, который сохранил все страдания военных лет. И сколько бы времени ни прошло, Ржевская земля будет особенной – проникнутой святой памятью… Спасибо, Ржев, за мужество, за величие покоя Памяти.
Танец
Октябрь в Верхневолжье переменчив: то солнышко проглянет, то моросящий дождик зарядит. Она засмотрелась на кружащиеся на ветру золотые листья клёна. Ярко-жёлтым ковром они укрывали глинистую землю. Грустный вальс кленовых листьев очаровал Её… Вспомнился выпускной. Они с подругой Танюшкой очень готовились, наряжались, даже впервые подкрасили губы и ресницы. Таня тогда купила необычный гребень для своей длинной густой косы, на гребешке резьба, в которую вписано название их родного города – Ленинград…
Кружились листья, вальсировали воспоминания, в которых они с подругой, постеснявшись пригласить мальчиков, танцевали вдвоём. Ах, какими же они были глупыми! Надо было танцевать! Любить! Жить!..
Через два дня объявили войну. Они с Таней сразу решили идти на курсы медицинских сестёр. И осенью уже были в действующей армии, в 250-й стрелковой дивизии, 258 медико-санитарном батальоне, в пяти километрах северо-западнее Ржева…
Одинокий кленовый лист медленно упал лицом в грязь. По Её щекам потекли слёзы. Таня не вернулась. Вчера спасала раненых. Притащив очередного бойца, бодрилась, утешала, успевала и с ней перемолвиться словами поддержки… Погибшей подругу никто не видел. Просто была бешеная атака, потом суматошное отступление, взрывы… Накануне предложили заполнить футляр с вкладышем – имя, фамилия. Но это же плохая примета! Заполнишь – убьют. Поэтому не приказали, а предложили. Они с Таней не писали! И теперь Она, размазывая по щекам скупые слёзы, размышляла: «Где же подруга? Может, сама раненая лежит? Но на ту сторону за Волгу уже не пройти. А если осторожно вдоль берега? Может, увижу её?!»
Вдруг слабый осенний луч пробился сквозь угрюмую хмурь. Показалось, что кто-то улыбнулся Ей. Так захотелось жить и любить! Как жаль, что на выпускном они не потанцевали с мальчиками! В октябре 1941 года недалеко от в Ржева, у полусожжённой деревеньки Пищалино, прячась за ненадёжными облетающими кустами, Она ползла по грязи, снова и снова высматривая подругу. Опять зарядил мелкий дождь…



