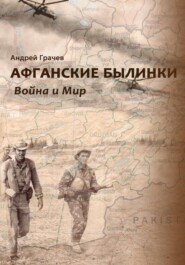скачать книгу бесплатно
– С проверкой из штаба армии.
И батальон отвернулся. В тот вечер никто и ничего не говорил, даже Корнюхину ничего. Жевали вяло сухой паёк и понимали, отчего он сухой.
Вечером, когда, наконец, вышли к реке, заговорили:
– Ну, лохи, ну, кретины!
– Чуть не сдох без воды, всю морду себе ободрал!
– Какая сволочь пустила дезу?
И началось следствие. Каждому хотелось эту сволочь найти. У одного погибли в панике дембельские усы, другой располосовал себя так, что до сих пор истекал кровью, и всем хотелось на эту сволочь просто посмотреть. Но всем сразу посмотреть было нельзя. Дознание проводили самые крутые и конкретные дембеля: Федотов из девятой роты, Налейко из восьмой, Ходынин и Корнеев из автовзвода. Поднимали, отводили в сторонку по одному и опрашивали:
– Ты про хор от кого узнал?.. А тебе кто сказал? А он?..
И очень скоро вышли на третий взвод, но взвод железно стоял на своём: деза пришла из штаба. И тут же извлекли из БТРа, и только потом разбудили ни в чём не повинного Морсанова, но тот только выпучил в изумлении глаза:
– Да вы что, мужики? Я сам от девятой узнал!
И круг замкнулся, пришлось всё начинать сначала. Будили, трясли и вытряхивали правду, и к утру снова вышли на третий взвод. Но взвод опять-таки указывал на Морсанова. И тут уже завелись по-настоящему. Неизвестная сволочь снова кинула и выставила лохами лучших людей. Распалились до того, что не сразу догадались спросить, а зачем пошёл к Морсанову целый взвод, и кто первым произнёс это слово «искусство»? Но потом спросили, и правда открылась – Корнюхин. И тут уже его разбудили. Нарочно-ненарочно не разбирались:
– Что, спишь, тварь? А мы вот не спим… Подъём, сейчас деды тебя будут жизни учить!
Лёшка поднялся, оглянулся растерянно на своих, но все крепко и старательно спали. Спал Косаченко, спал Миносян и даже Линьков. Чтобы не шуметь, повели его к внешним постам, и часовые тоже старательно пялились в темноту и ничего не замечали. Только ракеты перестали пускать, чтобы не засветить случайно место суда, поэтому и лёшкиного лица в это время никто не видел.
Били его долго, люто и с наслаждением. За то, что кинул, за то, что поверили, и никто не прилетел. За напрасно потраченную воду и подшиву и вообще за всё. Лёшка, как ни странно, оказался крепким: не оправдывался, не просил. Раза два попробовал даже отмахнуться и не падал, пока не свалили его крепким, кованым ударом в живот. Но и тогда молчал, пускал кровавые пузыри и со странной жалостью смотрел в небо. А на небе уже загоралась заря и розовыми отблесками отражалась в его глазах.
Таким и нашёл его на заре Миносян и испугался неподвижности глаз:
– Да что же это они, а? Ара, ты как?
Но Лёшка и ему ничего не сказал. Поднялся молча и неловко, боком полез на броню. Лицо у него было землисто-бледным, а взгляд тусклым и немножко больным. Но синяков под грязью было не видно, поэтому никто и ничего не заметил. Он только двигался слишком медленно, опаздывал отвечать на вопросы, отставал. Поэтому, когда колонна попала под обстрел, не успел. Спрыгнул неловко с брони, сделал неуверенно два-три шага и упал. Снайпер срезал его, когда все давно и надёжно залегли за скалой. Вытащить его сразу не смогли, и ещё полчаса все смотрели, как он пытается подняться из пузырящейся красной лужи. Потом, когда подошла и прикрыла своей бронёй БМП, его смогли вынести. Отбились кое-как, расчистили пятачок, и комбат заказал вертушку. Вертушка ушла, и все попрятались: в машины, в люки и в свои дела. На колонну как будто опустилась тишина, и ни рёв моторов не нарушал её, ни грохот дизелей. Взорвал тишину комбат. Выскочил на стоянке из связного БТРа с бледным, перекошенным лицом:
– Подонки, сволочи!.. Перевешаю, как собак! Мерзавцы!
И перепуганный Морсанов объяснил:
– Оказывается, пулевое у него туфта, у него три ребра сломаны и селезёнка…
И в звенящем напряжении стал не слышен даже комбат. Курили, молчали и с нарочитой скукой смотрели вдаль. Страшный, трясущийся Миносян пошёл со стволом вдоль колонны:
– Убью, всех убью! – хрипел он.
И, конечно же, никого не убил, потому что убивать бы пришлось действительно всех. Все были виноваты и зависели от того, сдаст их Лёха или не сдаст. Знали, что теперь каждый день будет трясти его особист. А он такой, он вытрясет. И потянулось тяжёлое, томительное ожидание: со дня на день, с часу на час, вот-вот и подлетит особист. Но Лёшка не сдал.
Он лежал в медсанбате и прожигал неподвижным взглядом потолок, как будто дыру в нём хотел прожечь и испепелённое зноем небо. Таким и застал его Миносян и засуетился, выкладывая бахшиш, – пустили его не надолго.
– Виноградик, сгущёнка, халам-балам! – и отдельно от всего положил бережно на кровать кассету. – И вот ещё от мужиков бахшиш…
Но Лёшка на него даже не посмотрел: повернулся, закашлялся и прошептал:
– Федотова… когда вернусь… убью…
И Миносян ответил:
– Не надо, Лёшик, убили его уже…Под Файзабадом в девятой две машины сожгли…
И, неловко цепляясь халатом за углы, вышел.
Лёшка долго лежал неподвижно, потом осторожно задышал, потянулся нетвёрдой рукой к кассете и замер, дожидаясь, когда растает боль. И, когда всё прошло, всё растаяло, всадил кассету в магнитофон и на всю палату, на весь медсанбат величественно и распевно грянул хор имени Пятницкого.
Злоумышленник
За перевалом седьмой день шла войсковая операция, седьмой день в ущелье трещало, лопалось и рвалось. Над головами бесконечными парами заходили вертушки, и шла, сотрясая горы, тяжёлая техника. Сбивая сопки и оседая на блоках, батальон за неделю наполовину растаял и, напоровшись на особенно плотную «зелень», запросил подкрепления. Через час мимо него прошла на штурмовку десантная разведрота. Проплыли каски, нагрудники и укороченные стволы и с обшарпанных БМД понеслось:
– Эй, мобута, вали с дороги!
– Воду кипятите, черномазые! Вечером носки подвезём для стирки!..
И над дорогой, едва не вздымая пыль, покатились могучие раскаты воздушно-десантного юмора.
Потрёпанная, подавленная пехота униженно молчала. Все чувствовали на себе заплатанные штаны и несмываемую, уже недельную грязь поражения. И только тощий, всегда незаметный Черепанов не слишком громко сказал:
– Давай, давай, полосатые, вали, пока не навешали!
Замыкающая БМД от изумления остановилась. Потом снова пошла, но с неё на ходу соскочил и приблизился вразвалку могучий сержант в плавжилете на голом теле и с синим дембельским орлом на плече. Лычки у него были наколоты непосредственно под орлом.
– Ну, – недобро прищурился он, – и кто это вякнул?
Пехота невольно съёжилась, попятилась потихоньку назад и оставила перед собой одного Черепанова. Тот с тоской оглянулся, лизнул пересохшие губы, но довольно твёрдо ответил:
– Я.
– Ты? – не поверил сержант. Оглядел хилую в штанах пузырями фигурку, но даже не улыбнулся. – Вешайся! Вечером приду учить воздушно-десантные войска уважать.
– И, догнав без особой спешки свою БМД, исчез в клубах пыли.
– Ну, Череп, тоска! – посочувствовали Черепанову сзади.
– Может, в санчасть его до завтра заныкать? – предложил кто-то. – Его вон как вчера осколками полоснуло…
Но без особой веры. Санчасть была далеко. Она давно и безнадёжно застряла на перевале, а десантура был рядом и, по всему видно, за слова отвечал.
Сочувствовали Черепанову до самого вечера. Отлёживаясь в сухих арыках и пережидая в домах обстрелы, рассуждали, есть ли у Черепа шанс, и признавали, – ни одного. Он всегда был тише воды и выделялся из всех только носом. Он у него был такой маленький, что, можно сказать, и не было. Надеялись только, что сержант не придёт. На сопках, по слухам, тоже шло туго, и ждали на прорыв десантуру. Но сержант пришёл. Оглядел по-хозяйски расположившуюся на привале пехоту и, высмотрев, кого искал, поманил пальцем:
– Пошли!
Спасти Черепанова было некому. Всё командование, включая десантное, собралось на совещание у комбата. Сидевший у костерка Черепанов встал, одёрнул под ремнём полинявшую «хб» и обречённо пошёл следом. Нахохленная, встревоженная пехота потянулась за ним. Вступиться за него никто не решался, но присутствовать решили все.
Разведрота расположилась на площади у мечети и, выставив по периметру БМД, обедала.
– Во! – оживились десантники. – Ща Миронов на мобуте приёмы отрабатывать будет!
Потеснились и выставили вперёд свой молодняк, чтобы учились и знали как. В стороне бесшумно от деликатности приземлилась пехота.
– Держись, Череп! – зашелестело оттуда.
– Ремень на кулак намотай, ремень!
Но Черепанов не отвечал. Смотрел сосредоточенно на врага и ждал неприятностей. Миронов подождал, критически его оглядел и снисходительно хмыкнул:
– Ладно, один раз можешь ударить… Для заводки… Ну?
И Черепанов ударил. Он ударил один только раз, но так, что пехота ахнула, а у десантников округлились глаза. Миронов как подкошенный рухнул и, нелепо раскинув руки, застыл. Обшитая сеткой каска грянула оземь и описала вокруг него полукруг. А Черепанов, оглядев свой кулак, дунул на него, как на оружие и спрятал в карман. Гробовая тишина нависла над ним, кто-то совершенно явственно подавился сухпаем.
– Да я тебя!.. – взорвался, мгновенно рассвирепев, огромный, как БМД, десантник, и, намотав на кулак котелок, двинулся на мобуту.
Но тут взвилась и разом психанула пехота:
– Назад! По правилам!..
– От винта!
– Не трожь Черепушку!
И над площадью поднялся невообразимый гвалт. Назревал скандал. Десантники хватали за грудки пехотинцев, пехотинцы пачками повисли на десантниках, но тут от поверженного гиганта оторвался и разом всё прекратил санинструктор:
– Ну, всё! – объявил он как приговор. – Он Мирону челюсть сломал!
И сразу же над головами у всех грозно разнеслось:
– Кто?.. Где?.. Миронову?
Командир разведчиков ввинтился могучим плечом в толпу. Подоспели расходившиеся с летучки офицеры, и скандал грянул. Всех застроили, Миронова сдали «медицине», и летучка в командирской «броне» получила неожиданное продолжение. Дым из люков валил такой, что некурящий писарь Морсанов вылетел пробкой наружу и, как из воды, выдохнул:
– Всё, крышка Черепу! Замполит говорит сдать под суд!..
Но Черепанов под суд не сдавался, за него насмерть резался взводный Шерстнёв. Кроме того, на каждого, кто был на вчерашней сопке, командование затребовало наградные, а первым на неё поднялся, как назло, Черепанов. Да и замполит на лишнем «чепце» в своём отчёте особенно не настаивал. И командиры стали уже смутно припоминать, что как раз на это время у них намечался совместный тренаж, и что травма, стало быть, во время тренажа и произошла. Но тут в люк с шумом ввалился начальник особого отдела Лукин. Про него все знали, что личность он загадочная, а мужик неплохой. Но когда дело доходило до службы, мужик исчезал, и сейчас перед всеми предстал загадочный и серьёзный хозяин «особняка».
– Дознание провести по всей форме! – объявил он. – Моральное разложение прекратить! – И грохнул, как топором, люком.
Благодушных настроений командования он не разделял, да с ним особенно и не делились. И дознание началось.
В обтянутую масксетью палатку стали таскать десантников, офицеров, мотострелков, но то, что случилось всего час назад, на бумагу ложилось плохо. Мотострелки молчали, десантники огрызались, а офицеров комбат предусмотрительно задвинул на огневые, откуда вытащить их не представлялось возможным. Да и самому Миронову, как оказалось, челюсть благополучно вправили, и он уже вовсю шуровал в «зелёнке». Складывалось впечатление, что если кто-то и приходил, то только для того, чтобы выгородить Черепанова и рассказать, какой он замечательный и незаменимый солдат. Но Лукин не сдавался. Он терпеливо сводил концы с концами, выявлял, уточнял, сравнивал. Он упрямо гнул свою линию, и после мучительно долгих расспросов на бумаге сошлось: «Нанесение телесных при отягчающих…». Дело было простое, как помидор, – обыкновеннейший неуставняк, но Лукину оно безобидным не представлялось. Любой мордобой в подобных обстоятельствах мог запросто перейти в перестрелку, и что бы ни говорил комбат, как бы ни косился на него личный состав, он решил это дело раскручивать до конца.
– От обязанностей отстранить и препроводить в полк! – приказал он.
И утром Черепанова повели на «вертушку». Его вытащили прямо из «зелёнки», взмокшего и почерневшего от пороховой гари. Он шёл, спотыкаясь, и стыдливо отводил глаза, как будто без ремня чувствовал себя голым. Вместе с ним к «вертушке» шел и Лукин. Счастливого пути ему, понятно, не пожелали, но он этого и не ждал. Прошёл с каменным лицом мимо всего, и через час «вертушка» высадила их в полку.
На гауптвахту и прочие формальности Лукин времени терять не стал. Провёл Черепанова прямо к себе и, усадив на скрипучий стул, приступил:
– Фамилия, имя, отчество?.. Дата и место рождения?.. Звание?
И тут его постигло первое и внезапное разочарование. Черепанов оказался совсем не прост. Внятно ответив на ничего не значащие вопросы, он неожиданно и всерьёз замкнул.
– Ну, кто виноват? Кто начал? – допытывался Лукин.
Черепанов не отвечал.
– Кто первым ссору затеял?
Но Черепанов не издавал ни звука. Он сидел, по-школьному сложив на коленях руки, и молчал.
– Да ты что, в несознанку пошёл? Напрасно, – увещевал Лукин, – известно всё, а признание, сам понимаешь, облегчает!
Но Черепанов не облегчался, виновато сопел и упрямо рассматривал на столе чернильную кляксу. А Лукин заводился всё больше и больше.
– Да глупо же! – страдал он. – Ты пойми, всё, что от тебя требуется – раскаяние!
Его потрясала чудовищная, непробиваемая косность солдата, беспросветная его тупость. Он искренне и изо всех сил пытался ему помочь, подсказывал формулировки, смягчал акценты, но достучаться, пробиться к нему не мог.
– Да ты понимаешь, что это дизель? – бушевал он. – Дисциплинарный батальон, понимаешь? И после ещё дослуживать год. Это же вся жизнь под откос! Ты пойми, полгода скостят!..
И вдруг, приглядевшись, оторопел, – Черепанов давно и безмятежно спал. Он спал с открытыми глазами, сидя и впервые за четыре последних дня. Худые его рёбра почти не выдавали дыхания, руки на коленях застенчиво прикрывали заплаты, а глаза хранили прежнее выражение раскаяния и вины. И что-то накатило на Лукина, подхватило что-то глупое и неосторожное. Он вскочил, как ужаленный, и, схватив сигарету, забегал по комнате.
– Идиотизм!.. Детский сад! Глупость!..
Сигарета занялась не с того конца, одна за другой гасли спички, и никак не удавалось найти китайскую, изъятую у губарей, зажигалку.
Дел у него была куча. Весной он нашёл в кишлаке человечка, и нужно было его встретить, хадовцы обещали вывести на Хайруллу, чёрти что творила в военторге продавщица Маринка, а тут это… Свирепо схватив с аппарата трубку, он по своей линии и через все шумы рявкнул:
– Слушай ты, комбат, что вы там лепили про совместный тренаж?.. И чтобы завтра же я твоего охламона не видел!
Собачник
Мишка Карнаков стал собачником. Стал неожиданно, второпях и так, что отвертеться было никак нельзя. И не то, чтобы профессия была не та, наоборот, собачников в полку уважали и относились к ним с полным почтением. Но уже само название – «собаковод», – Мишке не нравилось. Да и не водился он с собаками. Не любил.
У него и без того был в жизни облом. Мечтал до армии стать десантником, готовился чего-то и даже имел три прыжка, а сиганул в сапёры. Когда «купец» на пересылке объявил: «В инженерно-сапёрный», Мишку едва в строю удержали. Он чуть не выскочил, чтобы дать этому прапору в лоб, но потом сообразил – ничего и тоже вполне серьезно. И отлегло. Десантура после него вечно вторая. Это потом ты для них «мобута» и всё такое, а в горах они смирные и в затылок дышать боятся. И успокоился. Когда первую мину тащил, даже не испугался. Его тогда так долбили, что не успел, а потом привык. И пошло, поехало. За год до того приспособился, что даже в полку ходил и под ноги поглядывал, но в полку бывал редко. Работал чисто, советчиков позади посылал, невзирая на звания и вполне себя уважал. И вдруг, на тебе, здрасьте, приехали.
Взводный старлей Савинчук сказал:
– За сопку пойдешь… с Николаевым. Пехоту на горку проведёшь и обратно.
А Николаев этот и был собачником. И всё бы ничего, дело обыкновенное, но на сопке этой их здорово обложили. Сначала грамотно и прицельно сапёров, потом пехоту, да так, что только щебёнка посыпалась. Мишка успел завалиться за камень, а Николаева пёс протащил с перепугу на пятачок, и с пятачка этого его долго снять не могли. И не оттого, что кто-то мешал, – сопку эту довольно быстро замяли «вертушками». Стерёг Николаева и никого не подпускал к нему пёс. У Лехи было сквозное, он пускал пузыри и не выходил из отключки, а пёс стойко держал оборону. Он то зализывал хозяину рану, то снова обрушивался на «медицину». А Мишку так просто зажевал, штаны располосовал от пояса до ботинка.
– Грохнуть его! – предложил санинструктор, злой и заляпанный чужой кровью.
Но тут зашевелился Лёха.