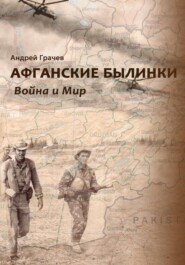скачать книгу бесплатно
– Вот сволочи, а! Ведь могут же, могут, когда захотят!.. – И не понимал, отчего не хотят, если в принципе могут.
А мог Пашка ещё и не такое. Все помнили, как он брал караван под Файзабадом и какого матёрого душару приволок на Панджшере. Замполит устал наградные заворачивать:
– Пока человеком не станет, не получит!
Но Пашка не становился. Получал следующие трое суток и горланил:
– Я сижу на берегу, не могу поднять ногУ!
И могучий губариный хор запевал:
– Не ногУ, а нО-гу!
– Всё равно не мОгу!
И действительно, не мог, приволакивал ногу Пашенька. Хромал с каждым днём всё больше. Четвёртую неделю сидел, осунулся, почернел, на лице оставались только нос и глаза. Но нос он по-прежнему держал кверху, а в глазах плясали прежние черти. Прихрамывал, распевал «Варяга» и держался. И так прошёл месяц, потянулся второй, и все вдруг почувствовали, что держится на нём что-то совсем другое, то, чего даже табуретами не отбить, и по нитке не выровнять. Даже старшина почувствовал, даже ротный, и, самое странное, отбивать этого не хотелось. А хотелось, как прежде, обругать, застроить и от души разнести. И отчего-то было на этой душе неспокойно. И надо бы застроить, и обругать стоило, но ведь это же Пашка, особый случай. А если его заравнять, зашнуровать, – что останется? – ничего особенного.
– Петрович, брось, – уговаривали замполита. – Чего взъелся? Нормально наказал!
– Ну, Александр Петрович, ну в караул же некому заступать! – приставал взводный. И даже комбат, который Пашку иначе как «раздолбаем» не называл, неожиданно вспомнил:
– А этот, как его, Мечин… Что за эксперимент? – и поморщился, но отменять ничего не стал, не стал отменять авторитета своего заместителя, – это было всё равно, что армию отменить или алфавит. А сам он, даже если бы захотел, отменить уже ничего не мог.
Весь личный состав наблюдал за ним, весь батальон. Немыслимо было отступление на глазах у всех, и замполит неотступно преследовал свою цель:
– Ну, что, Мечин, стал человеком?
Но и Пашка на попятную не собирался:
– Только после вас, – вежливо отвечал он и получал следующий «трояк».
Пашка дерзил и ещё громче горланил «Варяга» и создавал полное впечатление, что «губа» – санаторий, и, подхваченный этим впечатлением, начинал дерзить батальон. Какая-то бесшабашность появлялась в нём и необузданная, задиристая лихость. Батальон переставал бояться «губы» и вообще, бояться. Полоски на одеялах стали называть «извилиной старшины», поэтому табуретами их отбивали с удовольствием. Воинственный плакат мастерски поправляли одним штрихом так, что утром все с изумлением узнавали фамилию замполита: «Воин, ты защищаешь Родина». А воин, украшенный таинственно проросшими за ночь усами, становился подозрительно похож на комбата. Дело принимало серьёзный оборот. Что-то раскалённое повисло в палатках, неопределённо гнетущее, и уже не об отдельном Пашке шла речь, а о самой возможности быть Пашкой и им оставаться. Батальон напряжённо следил за событиями, и каждые трое суток облегчённо вздыхал: остался.
– Послал! – ликовали в палатках. – Снова врезали три по сто!
И оказывалось, возможно, получалось, что может быть. И всё в этот день получалось и удавалось так, что было жалко спать. А отосланный Пашкой замполит торопливо строчил сопроводительную записку, в которой «считал невозможным» и полагал, что «не может быть». А Пашка всё равно был и на записки глубоко плевал, шёл ко дну несокрушимым «Варягом», и всем было ясно – не сдастся, потому что такой он, Пашка, и всё ему как с гуся вода. Но «губа» вовсе не была санаторием, а воду «губарям» приносили раз в сутки.
Начальство затеяло зимний клуб и назначило новую работу – ломать камень. Губари возвращались с неё запылёнными, серыми от усталости, а во дворе гауптвахты их встречал замполит. Прежде он начкаром почти не заступал – некому было проводить политзанятия, а теперь зачастил.
– Ну, что, походим вместо Мечина? Он ведь у нас ходить не любит, – объяснял он и начинал гонять строевым.
Три дня объяснял по три часа, и Пашка сломался. Выводной приник жадным ухом к двери и не поверил.
– Ну, что, Мечин, стал человеком?
– Так точно.
– А будешь нарушать устав?
– Никак нет.
И Пашку отпустили. Почерневшего, худого, вернули его в палатку, но было такое ощущение – не вернули. Он стал молчаливым, сосредоточенным и серьёзным, на все вопросы отвечал «так точно» и «никак нет» или не отвечал совсем. Никуда не рвался, ничего не хотел, и целыми часами смотрел в одну точку, а в точке этой ничего не было – пустота. Это был совсем другой Пашка, а прежнего, заводного, оставили на «губе», на «губе» осталась бесшабашная, непотопляемая его лихость.
Ему, конечно, сочувствовали, и всё понимали, но и сочувствовали другому, прежнему Пашке, а этого понять не могли. Молчит, сидит и думает, – непонятно. И батальон заскучал, некому стало заряжать и горланить «Варяга». Единственным, кто выглядел довольным, был замполит:
– Вот видите, даже Мечин справляется, а вы?.. – подгонял он на марш-броске.
И Пашка действительно справлялся, не смотря на хромоту, справлялся, не смотря ни на что. Ни единого замечания не нашлось для него у старшины, ни малейших нареканий не высказал ротный. Поэтому, когда стали думать, оставить его с караулом или зачислить на выход в рейд, замполит возражать не стал. Наоборот, поддержал:
– А что? Солдат как солдат…Я думаю, не подведёт.
К новому, притихшему Пашке он относился почти с симпатией, выделял его как хорошую работу. Но сам Пашка себя не выделял. Молча собрался, тихонько влез на броню и стал совершенно незаметным, – солдат как солдат. Но едва батальон углубился в «зелёнку», едва поднялся с первого привала, замполит вдруг заметил взгляд – тяжёлый, пристальный, исподлобья. Рядовой Мечин смотрел ему в спину – рука на спуске, предохранитель вниз – вот-вот и шарахнет. «Вот паразит! О чём только думает! – поёжился замполит и похолодел. – Об этом и думает, и всё время думал! Сволочь какая, скотина, гад!». И, главное, ничего не скажешь: у всех на спуске, и предохранитель у всех.
– Чего уставился?
– Никак нет, – ухмыльнулся Пашка.
– Давно не видел?
– Так точно, – обрадовался он и загорланил «Варяга».
И в тот же день рванул в одиночку ДШК, набил морду танкисту и приволок откуда-то барана, да такого огромного, что даже взводный не выдержал:
– Ну, чёрт медицинский! – восхитился он. – Медицина хренова!
И все вдруг узнали – Пашка, бесшабашный, весёлый, свой, а замполита наоборот, не узнали. Каким-то дёрганым стал замполит, нервным, от малейшего звука вздрагивал, от каждой чепухи психовал, и всё время оглядывался, всё время чего-то ждал. А дальше – больше.
Чем глубже батальон уходил в «зелёнку», тем веселей и развязнее становился Пашка, и, наоборот, угрюмее и задумчивее был замполит. Он злился, срывался на пустяках, но поделать ничего не мог. Необъяснимый и подлый страх охватывал его, унизительный, навязчивый, липкий. «Этот может, – объяснял он себе. – Этот всё может», но другим объяснить не мог. Не мог же он сказать, что Мечин смотрит, а Пашка смотрел, и всегда ненароком, всегда как бы вскользь. Он дышал в затылок, висел над душой, и только капитан знал, что не смотрит он, а присматривается, выжидает момент и подходящий случай. А случай подходил – начинались штурмовки, прочёски и неразбериха, в которой случиться могло всё, и, чтобы не случилось, капитан перестал спать. Перестал проверять посты и садиться на головную броню. Издёрганный, взвинченный замполит перестал быть собой. Ожидание становилось кошмаром, а кошмар – обрывистым сном. Пашка уже начинал сниться, и каждый раз снилось, что он производит случайный в спину, и никто уже не может доказать, что не случайный. «А может, самому? – закипал замполит. – Чего ждать?». Но и самому было нельзя, – Пашка ведь только смотрел, а в остальном – «так точно» и «никак нет». Оставалось только унизительное, мерзкое ожидание, и он ждал, ждал, ждал. И после штурмовки в развалинах дождался: двинулся в одиночку к седьмой и нарвался. Пашка сидел на мине и играл гранатой. Мину он снял с дороги, а граната в ладони была без чеки. Ободранный, почерневший Пашка смотрел в глаза и белозубо скалился.
– Ну, что, замполит, стал человеком?
И замполит понял. Была «зелёнка», чёрными дымами догорали БМП, потрескивало очередями с постов и здесь никого не волновали полоски на одеялах, не волновали гауптвахта и строевой шаг. Даже его, замполита, не волновали, а волновало, что в седьмой остался последний сапёр – Пашка, а Пашку даже и это не волновало. И замполит сломался:
– Так точно.
– А будешь ещё людей мордовать?
– Никак нет.
– Эх, ты, – укорил Пашка и неожиданно, по-стариковски вздохнул. – Грохнуть бы тебя, полудурка!..
Но убивать никого не стал, а сунул чеку в гранату, мину подмышку и заковылял, не оборачиваясь, к постам, безмятежно и во всё горло распевая «Варяга», потому что такой он был человек – немстительный.
Хор имени Пятницкого
После выезда, едва выбравшись из палаток, образцово-показательный полк стремительно преобразился. Некому стало показывать, пылью покрылись образцы. Вырвавшись из гарнизона, всё стало принимать свой обычный, походный вид и входить в нормальную колею. С автоматов свинчивались для удобства приклады, к уставным штанам присобачивались вместо заплат неуставные карманы. Неуклюжие, тяжёлые подсумки сменялись самопальными «лифчиками», мобуты – кедами, и все, поголовно все оказались бородатыми.
Бриться было и нечем и некогда. Воду за полком тащили на водовозке и выдавали по фляге в день: хочешь пей, хочешь брейся, и больше хотелось пить. Обросший, бородатый комбат стал удивительно похож на царского полковника. Курчавый Миносян разросся так, что старшина уже дважды угрожал побрить его штык-ножом. Какое-то время держался ещё замполит. Дня три он ходил только слегка небритым и жужжал на привалах механической бритвой «Спутник». Но бритва была отечественной, «Спутник» на четвёртом привале сломался, и замполит молниеносно оброс.
– Сломался, сломался замполит! – ликовал личный состав и, воодушевлённый поломкой, внешний вид запустил окончательно.
Могучей щетиной покрылся Косаченко. Безобразными островками заколосился Линьков. На людей стали похожими все дембеля и даже некоторые из молодых, а у Корнюхина не росло. Под носом ещё туда-сюда, а на подбородке ни грамма. И уже неделя прошла, и другая, а у него не росло. Раздражение росло и расстройство чувств. И Лёшка прыгал в расстройстве на чью-нибудь подножку, заглядывал в зеркало заднего вида и содрогался, – вид безобразный: уши, щёки и нос. И хоть бы чепуховина какая выросла не щеках, хоть бы чего приросло под носом, так нет. Три волоска в два ряда и четвёртый с краю. И каждый день доставал Лёшку замполит:
– Ну, хоть один на человека похож! – радовался он.
И мужики добивали:
– Человек… – разглядывали они и удивлялись, – гляди, похож!
И чем дольше это безобразие тянулось, тем больше он чувствовал себя непохожим, и, что самое противное, другие чувствовали. Обманутые внешней молодостью танкисты запахивали чистить ствол. Дембель из девятой роты норовил послать за водой. И Лёшка посылал за водой дембеля, и тут же у ствола раскрывал танкистам обман, но обман не раскрывался.
Лейтенант оглядывал с тоской взлохмаченный взвод и печально просил:
– Корнюхин, хоть ты, что ли, за водой сходи…
Потому что за водой нужно было проходить мимо штаба, а у всех борода, которую комбат разрешал только себе, и у штаба он его неизменно замечал:
– Ну вот, внешний вид! А вы – условия, условия…Плохому солдату война мешает!
И, чувствуя себя хорошим, Лёшка невыносимо страдал, тем более, что комбат, насмотревшись на него, выбрил личным «Брауном» всех штабных, а мимо штаба приходилось ходить. И ни «лифчик» не помогал, ни кеды, ни хипповое, переделанное из панамы, кепи. Так и мучился. Чтобы хоть как-то успокоиться, пошёл снова к танкистам, но танков на прежнем месте не нашёл, а нашёл десантуру, и тут уже, конечно, расстроился капитально.
Сидел, приложив к глазу гранату и прямо-таки изнемогал. Жить не хотелось совершенно. Да тут ещё мужики, как назло, затеяли фотографироваться всем взводом на фоне гор. Раздобыли где-то фотоаппарат, выставили противно подбородки и принялись зазывать:
– Лёха, айда!
– Корешок, задница прорастёт!..
Но Лёшка в ответ только мрачно сопел:
– Не могу, – глаз!
Потому что истинную причину скрывал, и, чтобы скрыть окончательно, влез на подножку к Дмитренко и зашаркал всухую китайским станком.
– Да хрен с ним, с глазом! Завтра таких четыре набьём, – уговаривали его.
Но Лёшка упёрся – и ни в какую, шаркал мрачно и пучил глаз, так, что многих это даже удивило. И чего он так из-за глаза? Всё равно под грязью не видно. Молчит, сопит и морду скоблит.
– Брось, Корешок! Бабы больше бородатых любят!
И тут уже Лёшка психанул, – его прямо-таки пронзило. Но не сразу психанул, а тактически.
– Ладно, паразиты, побрею я вас! – мрачно решил он. После бритвы стал старательно натираться «Гвоздикой» и поразил всех расчёской, от которой сразу отлетели два зуба, и лёгким облачком поднялась пыль.
– А носки в парфюме замочил? – заинтересовался личный состав.
Но Лёшка не откликнулся и на носки. Извлёк из заначки ослепительную подшиву и хладнокровно прикрыл её свежестью грязь воротника, отчего все завелись уже окончательно – подшива была страшным дефицитом и применялась только в случаях большого начальства и великой радости. Но начальство, вроде бы, отпадало, а последней радостью была сгущёнка, и ту на прошлом привале съели.
– Для кого бигуди? – не выдержал Линьков.
Лёшка неспешно застегнул «хб», помолчал загадочно:
– Для искусства!
И коварно пошёл спать.
И все взволновались, взвод остался с ощущением тайны, и чем больше над ней размышлял, тем крепче становилось ощущение. Ковалёв объяснил, что для искусства – это вроде как для себя, но в «для себя» никто не поверил: для себя Лёшка ленился даже разогреть сухпай. А тут «на человека похож», и, вообще, в последние дни «внешний вид». Кто его здесь увидит? Зачем это надо? Каждый забеспокоился, что, может, и ему надо, а он не знает, и, чтобы узнать, пошли в штаб.
Штабом были два БТРа: один простой, а второй не простой, а «Чайка». К нему и направились. Выставив часового, подошли, поскреблись в броню и остолбенели – из люка выставился на мгновенье сонный и совершенно бритый Морсанов. Одеколоном «Наташа» веяло от него и военной тайной. И тайна раскрылась.
– Юрчик, кого ждём?
– Как это – кого? – удивился он. – Хорымина и Пятницкого.
И все обалдело переглянулись – хор имени Пятницкого! Дышать перестали в принципе. Чтобы переварить, помолчали, а, помолчав, не поверили. Сюда – хор? Да здесь через день штурмовка, через неделю обед. Какой там Пятницкий, – бред! И перевели дух. Но тут из второго БТРа отрывочно донеслось. Комбат устраивал кому-то разнос:
– Артисты!.. Театр!.. Самодеятельность!.. Прекратить!..
И все окончательно помертвели: артисты с театром и какая-то самодеятельность. А из БТРа возбуждённо и громко неслось:
– Циркачи, блин!.. Бригада!.. Согласовать!..
И тут уже задышали:
– Ну, блин, дела!
– То-то Лёха у штаба вертелся!
– Сидят себе, набриваются, а мы не при чём?
И через пять минут ошеломляющая перспектива открылась всем. Батальон возбуждённо загудел:
– Артисты приезжают, циркачи и какой-то хор!
И уточняли:
– Женская труппа! Бригада типа фронтовой!
Ковалёв взахлёб затосковал о театре, Самсонов заспорил, что лучше цирк, и только Корнюхин продолжал спать. Но будить его никто не стал: что нужно делать, знали уже и без него. Скакали зайцами по броне, потому что ходить по обочине запретил сапёр, и меняли лезвия на воду. Но если вода ещё у кого-то оставалась, то лезвий не было ни у кого, а если и были, то за ними выстраивалась такая очередь, что к её концу они становились действительно безопасными. Косаченко, оказавшись шестнадцатым, ревел навзрыд. Миносян начал уже всерьёз присматриваться к штык-ножу. Спарывали карманы, возвращали подсумки, торопливо и наспех возвращались в мирную жизнь. Дневную норму воды истратили полностью, и счастливые, ободранные, принялись ждать.
– Мужики, вы чего? – испугался, проснувшись, Лёшка.
Но до него даже не снизошли: знаем, знаем, мол, можешь не заливать. Глядели в небо, откуда должно было спуститься искусство, и беспокоились, что ему некуда сесть. Но тут сапёры впереди что-то рванули и колонна, лязгнув, пошла и присыпала пылью свежую красоту.
Чтобы не опоздать, воевали наскоро. Наспех взяли какую-то сопку, потом ещё, а третью не взяли и испугались – с сопки работал по «вертушкам» ДШК. Но напряглись и пулемёт сбили. Задыхающиеся, чуть живые, поставили на прикрытие свои, и вертолёт действительно прилетел. Завис на минуту, присел, и из него вывалились два аккуратных, отутюженных майора. Мокрый, полумёртвый от усталости комбат к ним подошёл, и они козырнули:
– Майор Хорымин!
– Майор Пятницкий!..