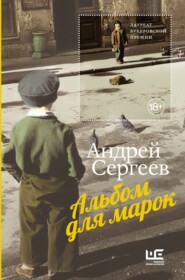скачать книгу бесплатно
Мальчишка с козой – хотя фамилия Гарниш, считается, чехи, наверно, немцы – все не старик с козой, поет Хайль Гитлер, а не шпион.
Мы ссыпаем в ключ серу от спичек, затыкаем гвоздем и на привязи жахаем о бревно. Раскурочиваем патроны на порох, устраиваем взрывы. Из никелированной трубки – для малокалиберных – устраиваем самодрачку. Взрослые вздрагивают от этого слова, еще не поняв, что оно из области: Руку оторвет!
Самодрачка стреляла с раскатом из любимого каталога Иве?ра:
– Солотурн!
Я нашел круглую – как колбасный круг – часть от зенитного снаряда, вставил в отверстие гвоздь и стукнул – стала греться в руках, я успел зашвырнуть в речку.
Мы бежим в поссовет на боевой киносборник Победа будет за нами. В зале одни мальчишки. В кино фашисты толстые, глупые, с повязкой на рукаве. Над ними легко потешается бравый солдат Швейк. В наш тыл с парашютом спускается бывший помещик. Заходит к своей крестьянке. Старушка незаметно посылает внучку куда надо.
Кажется, мы понимаем, немцы – не то, что в кино. Поражают воображение величественные слова:
мотопехота, Мессершмит, Юнкерс-88, Фокке-Вульф,
штурмбанфюрер,
дивизия Мертвая голова.
Про своих рассказывают анекдоты. Например:
Приходит генерал в окопы. Грузин докладывает: – Кацо – налицо, елташ – в блиндаж, Абрам – в кладовой, Иван – на передовой.
Анекдотов про немцев я никогда не слыхал.
Лето тянется так долго, что до поступления в школу на моем огородике успевает из зернышка вырасти и созреть большой кукурузный початок.
Беспалый Борис Иванович, директор, оглядел меня и сказал кому-то в окно:
– Не свисти, не в лесу!
Удельнинская школа располагалась в обширной дореволюционной даче со службами и достройками. За ними – плотницкое, на скорую руку, издавна – М и Ж. Устоявшийся запах за тридцать шагов, кучи на улице и внутри, между М и Ж просверлена дырка.
Девочки приседают, сикают у забора. Все видно. До того я считал, что у шафрановской Люськи еще не выросло.
Мама огорчилась, что учительница не старая, опытная, а молодая, но и молодой отнесла новенькие галоши.
В первый же день завуч Тукан вошел посредине урока:
– Учебная тревога!
Школа, киша, расселась в длинной – изгибами во весь двор – щели. Я оказался у выхода.
– Эт? даже лучше, – решила мама. – Если что, скорей выбежишь.
В ней застряла идея бегства:
– Научись кататься на велосипеде. Стоит велосипед – ты взял и уехал…
– Научись управлять машиной. Стоит машина – ты взял и…
Сама, как огня, боялась велосипеда и машины. Да и ни о каком отъезде, бегстве, эвакуации в семье речь не шла: что будет, то будет.
Домашние задания я выполнял одним махом. И все же, видя меня за тетрадкой, мама не могла не запеть незабвенного Ива?нова Павла:
Надоели мне науки,
Ничего в них не понять.
Просидел насквозь я брюки,
Не в чем выйти погулять.
Незанятое унылое время я слонялся по снегу или читал.
Последние довоенные детские книжки не вяжутся с тем, что вокруг. Чудесное путешествие Нильса – так далеко, что впервые от чтения делается еще тоскливей.
Марка страны Гонделупы – жизнь совсем как в Удельной, но неправдоподобно легкая, нестрашная, благоустроенная. Захватывает – потому что про марки. Только я не поверю, что вся серия может быть на одном конверте. Папин сослуживец уходил на фронт и оставил мне на всю войну драгоценную редкость – каталог Ивера 1937 года. Я узнал, что в шведской серии не десять, а двенадцать марок, и они совсем не те, что на книжке. Ивер творил чудеса. Без словаря я понимал не только наглядные руж, блё, бистр, вермийон. Споткнулся на тембр в тембр-пост и на герр де л’индепенданс – из-за сходства с л’Инд.
Кавалер Мезон-Руж – мой первый взрослый роман, 365 страниц. Сладко тайно щемило, и я понимал, что рассказывать маме/папе про любовь Мориса и Женевьевы так же немыслимо, как про епание.
Еж конца двадцатых-начала тридцатых, комплектами – от выросших Игоря и Бориса – привозила добрая бабушка Ася. Все листали, читали, никому в голову не пришло, что мне лучше бы этого не давать – выключали же на Павлике Морозове! Еж утверждал, что жизнь везде отвратительна. Например, в Америке. Там есть один наш, хороший – пионер Гарри Айзман (его письмо и портрет), остальные – не наши, плохие. Агентство Пинкертона в Еже ничего общего не имело с прекрасным Нат-Пинкертоном папиных воспоминаний. Безработный с горя идет в шпики и из номера в номер – в картинках – пытает и убивает таких же рабочих. Было в Еже и смешное – ненужные изобретения: машина для сбивания яблок, машина для снимания сапог, машина для мытья спины. Но главное для Ежа – Лига наций, буржуи с сигарами, контрреволюционные переговоры о разоружении. Похожи на американцев – фашисты: в Италии они поят касторкой, в Германии – бьют.
В ожидании немцев Еж пошел в печку. Туда же случайно попала папина – сельскохозяйственная – Лошадь как лошадь Шершеневича. Печка стояла горячая от книг двое суток.
Ценности – кольца, часы, отрезы, мои марки – зарыли возле крыльца под фундаментом. Когда отрыли – марки заплесневели, сквозь рисунок проступили желтые прямоугольники самодельных наклеек.
Немцы должны были прийти – в Удельную и в Москву – шестнадцатого числа. Все – в Москве и в Удельной – почему-то сразу узнали, что из метро вышел поезд с правительством.
Нам с мамой было жутко в пустой даче, и мы пошли ночевать к соседям.
Голубоглазый седой Михей – у него были царский полтинник и крымские камешки – неистово бегал по комнате:
– Я увижу строй, я пройду сквозь строй, я скажу им: братья!
Михевна сидела у чайника:
– Ельня, Ельня, помешались они на своей Ельне. А про мое Ржищчево хоть раз написали? Где там моя мама? Михей, перестань бегать!
Михей не переставал:
– …и всюду жиды пархатые! Вот он здесь – не успел оглянуться, а он уже там. Пархачи!
На ночь я спросил маму про новое слово:
– Пархатые – это потому что порхают?
Я долго не мог заснуть, вспоминал:
– Ихь бин айн щюлер. Ихь хайсе Андрей. Майн фатер ист Сергеев. Майне муттер – Михайлова. Вир зинд руссиш.
Год назад на Большой Екатерининской бабушкин знакомый, учитель музыки, чех Александр Александрович Шварц узнал о моей любви к Франции и не одобрил:
– С немецким я прошел всю Европу. Учи немецкий – все тебя поймут.
Мама подучила меня немецкому, который вынесла из гимназии:
– Когда тогда немцев ждали, я, помню, все хожу, немецкие фразы вспоминаю, думаю, я сразу с ними по-немецки заговорю. А потом как подумала – да они меня живо в штаб заберут, переводчицей. А Андрюшку возьмут да на штык подденут. Нет, думаю, молчать надо.
Утром мы возвратились к себе и легли спать. За Македонкой вдруг началась канонада. Мама вскочила, упала и голенями со всего маху ударилась о спинку железной офицерской раскладушки. Охая, заперла еще на один оборот двери, поплотней занавесила окна. В убежище казалось еще страшнее. В Москве дед с бабушкой никогда не ходили: судьба.
К вечеру стало стихать. Мама выглянула сквозь стеклянную дверь на террасу: на деревянном топчане, прикрыв лицо, спал толстый чужой солдат.
Проснувшись, он оказался красноармейцем и объяснил, что на той стороне, в Новой Малаховке рвался артиллерийский склад.
Алексей Иванович повадился ходить к нам, то один, то с женщинами. Напевал:
Жить невозможно
Без наслаждений.
Мы с Шуркой прозвали его кашалотом.
Кашалот пил, кричал неожиданно: что все военные – паразиты, – носил со склада консервы и сало в обмен на последние сливы/яблоки. Из Москвы приезжала его жена, плакала, привозила из магазина мануфактуру.
Все всё тащили. Кто-то сказал, и мы с мамой отправились за Чудаково в Кролиководство. Там нам за так – из старой дружбы к папе – дали с выставки два джемпера: загляденье – белый и белый с голубым в крупную матроску. Носить их было нельзя: пух лез в рот.
Сам папа вывез из Дома агронома отсыревшую пропыленную коллекцию минералов, учебную гранату Ф-1, перекошенный школьный микроскоп. Подобрал недостающие тома Малой советской энциклопедии.
После шестнадцатого октября папа заехал за нами. Электрички не ходили. От платформы до тамбура паровика зиял прогал. Мама его перепрыгнула, папа меня перенес на руках.
На Казанском вокзале у выхода в город сиротливый красноармеец с винтовкой проверяет паспорта. Вокруг вокзала – женщины на узлах.
По Первой Мещанской рядом с лошадьми тянутся беженцы. На подводе везут разбитый фанерчатый ястребок.
На трамвайной остановке в горчично-зеленых шинелях и квадратных конфедератках поляки не поляки, говорят между собой по-русски и немыслимо матерятся.
На Первой Мещанской у гимназии Самгиной выстроились американские штудебеккеры.
В марочном на Кузнецком офицер невоюющей Болгарии скупает неизвестно откуда взявшиеся раритеты.
Букинисты забиты роскошными старыми книгами. Ювелирные, даже галантерейные ломятся от самоцветов. Прекрасный камень с орех стоит как два-три кило картошки.
Тревога была два раза. В стороне ЦДКА стреляли зенитки. Театр Красной армии расписан пятнами, перед ним дощатая пристройка, чтобы сверху был не пятиугольник, а похоже на церковь. В сквере перед театром – зенитчики со слухачами.
В просторной Удельной зенитный огонь опьянял. Хотелось высунуться и посмотреть. На Капельском, в оторванном от земли замкнутом пространстве хотелось деться от окон подальше. Не из чувства опасности – его у меня не было.
Мама встала в очередь в булочной напротив 110 отделения, я остался на углу. Побыл минут десять, вдруг вижу, что на меня несется сорвавшийся с проводов троллейбус. Не испугался, не удивился, отошел. Троллейбус врезался, булочную тряхануло. Маму успокоили:
– Там мальчик стоял – он отбежал.
Я не отбежал, отошел.
На рынке кило картошки стоило 70–80, кило сахара 700–800, кило масла 1000–1200. У нас – вместе с дедушкой/бабушкой – по карточкам много хлеба. Вечером, тут же в булочной, папа загоняет буханку черного за 120.
Появляются невиданные продукты: в магазинах – кунжутное масло, на базаре – квашонка, в учрежденческих столовых – какавелла.
Новое выражение отовариться я долго производил от аварии.
К новому году выдали двести грамм карамели Сибирь с белочкой.
Новые военные вещи. От холода – химическая грелка. Толстый бумажный пакет нужно залить водой, тогда долго несильно греет.
От темноты – чтобы на улице не натыкались друг на друга – значок: светящаяся ромашка или просто бумажный кружок в жестяной оправе.
Зимой не топили, часто сидели без света. В кухонной темноте Бернарова Тонька слила мне за шиворот большую кастрюлю драгоценной картошки. Я заорал. Потом, помню, я на моем топчане, в комнате, вся квартира с бутылками. На спину мне прикладывают компрессы из постного масла. Не пожалел никто. Скорая помощь говорит: ожог второй степени; помочь ничем не можем, все уже сделано.
Изумленно и без разумения я обнаруживаю и выучиваю наизусть папины Облако в штанах и Хулио Хуренито. Из них явствует, что были, есть и не иначе будут другие, яркие страны, другая, яркая жизнь. В первую военную зиму я запомнил и полюбил бодрое слово футуризм.
(Гитлер)
Не верится, что Эренбург – тот же самый, что сочиняет в газетах, как маленький Гитлер подкладывал няне на стул кнопки.
В продовольственных пусто, витрины кормят окнами ТАСС:
Шаловлив был юный Фриц,
Вешал кошек, резал птиц.
Днем фашист сказал крестьянам:
– Шапку с головы долой!
Ночью отдал партизанам
Каску вместе с головой.
Сидит Гитлер на заборе,
Плетет лапти языком,
Чтобы вшивая команда
Не ходила босиком.
В отрывном календаре загадка: Что самое гадкое на букву Г?
В газете: Хорти, Рюти, Антонеску,
Недич, Квислинг и Лаваль.
В газете из небытия на видное место выполз некогда всемогущий лизоблюд Демьян Бедный, Ефим Придворов, то ли сын великого князя, то ли еврей. Когда-то из Комсомольской пасхи я вынес:
Дьяков Кир тузит попа
Афанасия…
Евпл, Хуздазат, Турвон, Лупп,
Евксакостудиан, Проскудия, Коздоя.
За Комсомольскую пасху бабушка/мама меня осудили. Теперь я читал в Правде такое же хлесткое: