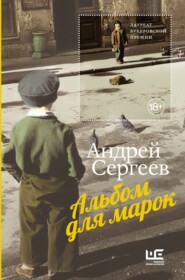скачать книгу бесплатно
В разноцветной книжке Будённый приезжает в детский сад и дает потрогать саблю и усы. Называется книжка Будённыши.
Меня привели в новую парикмахерскую ЦДКА. Я не свожу глаз с мужеподобной женщины в лётной форме. Раскова? Гризодубова? Осипенко? Маме ничего не стоит спросить. Вера Ломако. Тоже готовилась лететь Москва – Дальний Восток.
Имена моего детства:
Самолет Максим Горький – ледокол Челюскин
Отто Юльевич Шмидт – капитан Воронин
Мо?локов – Каманин – Ляпидевский – Леваневский и пр.
Чкалов – Байдуков – Беляков
Громов – Юмашев – Данилин
Раскова – Гризодубова – Осипенко
Папанин – Кренкель – Ширшов – Федоров
Бадигин – Трофимов
Самый главный – Чкалов. Моложе меня уже много Валериков. И вдруг мамы рассказывают друг другу и плачут. Чкалов, говорят, врезался в свалку. Я представляю себе черный ход, дворницкую, деревянный ларь для очисток – и из него торчит маленький самолетик.
Может быть, на него из дворницкой глазеют татары.
Татары-старьевщики кричат под окнами:
– Старьем-берем! Шурум-бурум!
Их заводят на кухню с черного хода. Ихними мешками няньки пугают маленьких.
Нянек сколько угодно. У меня когда-то была Матённа, Мария Антоновна Венедиктова, бабушкина приятельница, водила меня по церквам, могла тайно крестить. Мама/бабушка меня не крестили сознательно: вырасту, захочу – дескать, сам крещусь.
В улочках потише, по тротуарам, по пять-шесть мальчиков-девочек в ряд, тянутся группы. Старушка-руководительница разговаривает на иностранном языке.
– Я своего отдала в немецкую группу.
– Мой ходит во французскую.
– И зачем вы своего в английскую?
Я не ходил ни в какую группу. В детский сад за забором тоже.
В Удельной по переулку с деревянным ящиком на плече проходят стекольщики:
– Стюкл? вставлять! Стюкл? вставлять! – Или халтурщики:
– Чиним-паяем, ведра починяем!
Раз в лето объявляется Иван Иванович, отходник из Вя?лок. Лопатой на длинной ручке он вычерпывает говно из-под дома и отвозит в железной тележке к яме у ворот.
И в Удельной, и в Москве забредают тощие одноногие шарманщики: тюрлюрлю?. Одноногие они из-за своих одноногих шарманок.
Во дворах торгуют китайскими орешками. Они невкусные, отдают землей и касторкой, но если облупить и расколоть ядро – на одной половинке вверху – маленькая голова китайца с бородкой.
Бабы разносят малиновых петушков на палочке – ужас мам:
– Сплошная зараза.
В день демонстрации их много на Первой Мещанской.
Первую Мещанскую пробовали назвать Первой Гражданской, потом вернули Первую Мещанскую.
По Первой Мещанской идут люди. Высоких мало. Так мало, что не ленятся произнести длинное прозвище Дядя-достань-воробушка.
В простые дни на Первой Мещанской – телеги, сани, фургоны, лошади. Лошадей – как машин. Лошади – неинтересно, машины – разные. Обыкновенные – серые, тощие. Редко-редко посередине промчится солидная черная, лакированная, выпискивающая дискантом что-то вроде:
– Овидий!
На углу Третьей Мещанской у кооператива, у Соколова, – с лотком моссельпромщица. Ириски, тянучки, ракушки с белой или розовой начинкой, шоколадные бомбы – внутри пустые. Говорят, раньше в них были какие-нибудь замечательные маленькие вещицы. Все это дорого.
Заманчивее всего – потому что запретно – самодельные игрушки разносчиков:
Бумажный мячик с опилками на резиночке – хлопнуть по лбу соседа.
Соловей – ярко-красная деревянная втулочка со свинцовым сердечком. Нажимая, вращаешь – изводит скрипучими трелями.
Шмель – глиняный цилиндрик на веревочке и на прутике. Раскрутишь – гудит.
Уйди-уйди – напальчник на трубочке с перемычкой. Надуешь – воет, еще один ужас мам:
– Изо рта в рот, опять сплошная зараза.
Баббитовый пугач с пружиною на винте. Громко стреляет пороховыми пробками, самый большой ужас мам:
– Руку оторвет!
Чтобы победить разносчиков, на Первой Мещанской в маленьком игрушечном магазине мне покупают коробку – как спичечная, но большая: десять солдатиков и командир, раскрашенные, переложены ватой.
Солдатики прибавляются по одному – по два. На Большой Екатерининской показываю дедушке:
– Пехотинец, конник, знаменосец, трубач, пулеметчик.
Дед на бегущего в противогазе в атаку:
– Аташник.
На Капельском, пока мама готовит на кухне, я играю в солдатики на дубовом паркетном полу. Стол один – папин письменный/наш обеденный. По радио передают беседу на тему Существовал ли Гефсиманский сад?
Каждое утро в десять часов я слушаю детскую передачу:
Жили в квартире
Сорок четыре,
Сорок четыре
Веселых чижа
Жили в квартире
Злые черные клопы.
Их морили голодом,
Их студили холодом,
Поливали кипятком,
Посыпали порошком —
и сказки, рассказы – всегда заслушаюсь, если только не:
Текст читал Николай Литвинов, – он говорит, как подлизывается, голос вкрадчивый, словно все врет.
За детской – передача для домохозяек: жены-общественницы, премированные велосипедом, девушки-хетагуровки. Песня: Уезжают девушки на Дальний Восток. Песня про героя-стрелочника:
Пусть жизнь он отдаст,
Но только не даст
Врагу разрушить путь.
Мама выключает тарелку, только когда укладывает меня спать или когда про Павлика Морозова.
В восемь часов папа слушает сводку.
Иногда радиостанция имени Коминтерна транслирует из Мадрида Но пасара?н. Все передачи хриплые, самые хриплые – из Мадрида и записанное на пленку.
Папа катает меня на метро. Дух захватывает, когда поезд идет над Москва-рекой и в окно видно Кремль с рубановыми звездами. Известно, что самая красивая станция – “Киевская”.
На ноябрьские дни папа возил меня смотреть иллюминацию и показывал на вокзале новые паровозы ИС и ФД – в лентах, как кони из книжки.
Я голосую, как большие. Папа поднимает меня, и я опускаю в урну – за Булганина.
Во дворе я – как все, хочу быть как все. Боюсь Аркашку из флигеля, заношусь над Рахитом – Рафиком из дворницкой. Катаюсь на санках, стоя скатиться с горы – слабо?. От неловкости избегаю скакать по асфальту в классы. Играю в войну, в прятки, раз играл в дочки-матери.
Только заиграешься, мама руку за шиворот:
– Как мыш, мокрый.
И без нее не легко – постоянное чувство досады (не такой быстрый и ловкий), обиды (хотя никто меня не обидел). Я напрягаюсь, с ничего устаю, до беспамятства выхожу из себя. Девочка с четвертого этажа заспорила – я ее по голове ребром железной лопатки, в кровь. Мама бегала извиняться, стыдила меня. У меня был не стыд, а ужас: что я натворил, что теперь будет?
(Верить не верить поздним маминым воспоминаниям:
– Ты все хотел дворником стать. Говорил: встану рано, лопату возьму – пойдут люди, а я им под ноги снег – швырк! швырк!)
С бидоном на кухню приходит тощая голодная молочница Нюша. Из полного бидона выливает кружку, потом вливает назад. Неполный – покачивает, бултыхая. Я выношу ей гадость – соленый огурец с вареньем. Екатерина Дмитриевна видит и говорит, что у них на Укра?ине огурцы едят с медом. Мама ничего не говорит. Папа без радости мной восхищается:
– Просто прелесть, какая гадость!
А я слышал, как Нюша шепотом маме, что к ней приезжали ее сыновья-летчики и что она их боится.
Бабушка любит лечить, мама все время лечится.
Слова моего детства: банки, горчичники, синий свет, кальцекс, аспирин, акрихин, стрептоцид, дигиталис, адонилен, сальсолин, диуретин, люминаль, папаверин, фитин, йоридонт, пурген.
Я люблю бывать в аптеке. Вокруг все неряшливо, грязновато. А в аптеке – белизна, порядок, форма – почти что красиво.
У меня постоянно болят зубы. Мама водит меня в Москве на Первую Мещанскую к Барской, в Удельной на Северную к Саланчевской. Обе пожилые, невысокие, одинаковые, обе накачивают ногой бормашину. Мама объясняет:
– Сейчас тебе в рот влетит китайская пчела. Она не кусается.
Скарлатина. Районный врач приговаривает: в больницу, – и уходит. Мама в ужасе: кто знает, что они там в больнице с ним сделают? Бабушка – сама служит в больнице – распоряжается:
– Приедут – скажешь, уже увезли.
В высоком черном такси меня перевозят на Большую Екатерининскую.
Как-то один-единственный раз меня посетил свой, домашний, доктор. Заставил поприседать, послушал, как трещат коленки:
– Гнилушка ты, гнилушка, прямо тебя на помойку.
В Удельной я не такая гнилушка – там спокойнее, больше один.
Под вечер спадает жара, находит стих бегать. Несусь от колодца к воротам, обратно шагаю, загораживаясь рукой: слепит солнце.
Часто со мной гуляет папа. В Москве он приходит поздно.
Папа не боится, что кошка вдруг бешеная, что собака тяпнет, что человек может стукнуть. Проходит рядом с лошадью и коровой и не боится, что лошадь брыкнет, а корова на рог подцепит.
Папины анекдоты:
– Старушка молится в церкви. Вдруг замечает что-то белое, круглое. А поднять неудобно. Старушка встала на колени, не глядит, рукой потянулась: – Тьфу ты, прости меня, Господи, думала двугривенный, а это плевок.
– Барышню приглашают танцевать, а она все отказывается. Кавалер спрашивает: – Отчего вы не танцуете? – КОгда я тОнцую, тОгда я пОтею, а кОгда я пОтею, тОгда я вОняю.
Я требую чего-нибудь интересного. Папа рассказывает про папу римского. Я не унимаюсь:
– Папа в Риме, а где мама?
– Мама? В Париже. Папа римский и мама парижская.
Я заказываю про шпионов. Папа про них ничего не знает. Рассказывает про Соньку-Золотую-Ручку и Нат-Пинкертона. За речкой, в Чудакове, показывает облупившийся барский дом:
– У меня был маленький револьвер-бульдог. Я ждал обыска и положил его на балку между бревнами и обшивкой, он и свалился – со второго этажа. До сих пор, должно быть, лежит.
Я поднимаю с земли железное грубо-тонкое повторение ломика.
– Фомка, – узнает папа и объясняет, что? это, для кого и зачем.