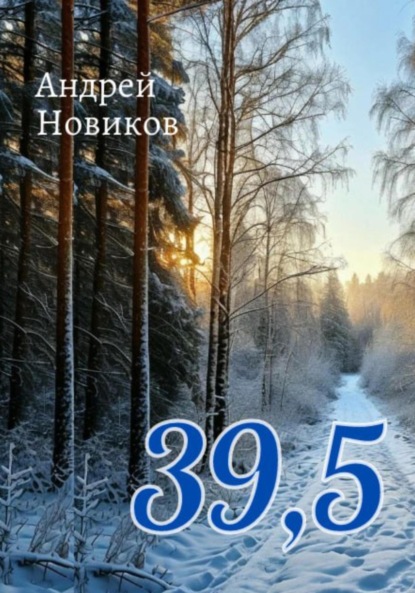
Полная версия:
39,5

Андрей Новиков
39,5
Пролог
В сумерках раннего ноябрьского утра, плотно укрытого низким темно-серым небом, по улице Ленина мимо небольшого деревянного дома под номером четыре, размеренно, как заводная механическая кукла, шагал странный сгорбленный старик. Одетый по сезону в ушанку, фуфайку, ватные штаны и валенки, он шагал куда-то изо дня в день одной и той же дорогой и изо дня в день нес на плече топор.
Мальчик не знал, куда и зачем идет этот старик, но и тот не знал, что выбери он другой маршрут, и дальнейшая судьба маленького худенького пацана, с неподдельным интересом наблюдающего за ним через одно из многочисленных окон дома у дороги, могла бы сложиться по-другому.
Глава 1. Черно-белое детство
Первое слово. Предсказание деда
1972–1974 годы. Рабочий поселок Лесной, улица Радищева, дом 14
Дом номер четырнадцать по улице Радищева построил дед Виктор, отец отца Андрея. Пришел с войны и построил деревянный пятистенок с русской печью и голландкой. Заложил огромный фруктовый сад. Самый большой и самый лучший. Все своими руками. Отец Андрея и его брат Александр родились уже в этом доме, а их старшая сестра Людмила переехала сюда вместе с родителями. Дом был не то чтобы очень большой, но гостеприимный и всегда полный людей – родственники, квартиранты, друзья и друзья друзей.
В этом доме Андрей сказал свое первое слово и научился ходить. Первое слово… С этим было все непросто. Долгое время Андрей не говорил. Почему? А неинтересно было. Странным казался такой способ общения. Зачем чего-то говорить, если пальцем покажи и тебе все дадут-подадут, принесут, откроют… Странные эти взрослые. Целый день их нет дома, они на какой-то работе… И вот сейчас собрались за большим круглым столом под люстрой с висюльками, сидят, смотрят друг на друга, ничего не делают и говорят, говорят, говорят.
Все, о чем говорят (ну, или почти все), просто и понятно, но способ общения какой-то все же не на вкус Андрея, какая-то бессмысленная трата времени, что ли… А еще пристают и хотят, чтобы он в этом тоже участвовал – скажи то, скажи се… А он давно уже знает, что и как называется, кого как зовут, но чего теперь – всем рассказывать? Зачем??? Всем известно, что трехцветную кошку зовут Муркой… «Скажи “Мурка”, скажи “мяу”»… Зачем? Захотел – подошел и погладил, а ласковая кошка сразу отзывается бархатным мурчанием, трется о ноги. Вот это общение! И слов никаких не надо!
А между тем, градус по поводу молчания сына и внука накалялся. Особенно на этот счет переживала эмоциональная Валентина – мать Андрея. Она работала по пятидневкам и ту часть времени, пока бывала дома, усиленно занималась с сыном, добиваясь от него хоть каких-то звуков: «Ну, пойдем, Андрюша, посмотрим, как там погода, кто идет, кто едет…» Тщетно. За окном зима, скоро два года первенцу, а он все молчит и молчит. Мать всхлипывала, и дело грозило обернуться ручьями слез. Валентина присела на диван у окна и намеревалась уже предаться женскому горю. Андрей не любил такое состояние матери да и слезы вообще… Ну, чего хорошего в этом? А дело к тому идет. Скверно… Он стоял на стуле и высматривал в покрытое зимними узорами окно чего-нибудь любопытное. Но много ли интересного на зимней деревенской улице в рабочий день? То-то и оно… Все, кому положено, уже в школе и на работе, а кому не положено – те печки топят да обед готовят. «Ага… А вот это чего там? Трактор привез полную телегу дров. Разворачивается… Соседям привез, Галь Иванне, значит, – Андрей оглянулся на мать. – Ну, так и знал – мокроту разводит. С этим надо чего-то делать, причем не откладывая».
– Тгактог…
Валентина, заслышав звук двигателя, встала рядом с сыном, не переставая плакать, смотрела в окно, тоже озаботившись посторонним шумом. Слезы капали Андрею за шиворот, и это еще больше подстегивало его к тому, что надо что-то делать. Вот и Галь Иванна вышла встречать тракториста. Постучал пальцем по оконному стеклу:
– Тгактог… Галь Иванна!
– Ой, Андрюша… Повтори, сынок! Что ты сказал?
– … Тгактог… Галь Иванна…
– Ой… Тетя Марина, тетя Надя, скорее сюда! Андрюшка заговорил.
Когда хлопнула входная дверь, и на пороге показался высокий под потолок дед Виктор, на диване сидели три ревущих женщины: его жена, сестра жены и сноха. Андрей по-прежнему стоял на стуле и смотрел в окно на заваленную большими сугробами зимнюю улицу, огромную кучу дров у соседей и Мурку, грациозно вышагивающую по забору всеми лапами и оживляющую замерзший деревенский пейзаж.
– Что случилось? – озабоченно спросил Виктор.
– Андрюшка заговорил, – хором ответили женщины и зарыдали еще громче.
– Ну, здорово… Радость в дом! Что сказал?
– Он сказал «трактор» и «Галь Иванна»… Картавит немножко, зато полными словами шпарит.
– Хорошо… А ревете чего? – непонимающе спросил дед.
– Наверное, трактористом будет…
Дед молча прошел на кухню, достал из-под стола огромную бутыль рябиновой настойки и наполнил свою большую кружку. Внук заговорил-таки и не абы как, а сразу словами. Только Виктор поднял кружку, намереваясь отметить достойное этого событие, как откуда-то сверху раздался непонятный свист, шум, шипение и потом бабахнуло так, что зазвенела посуда на полках, подскочили женщины с дивана, съехал снег с крыши, сиганула в сугроб Мурка, и только Андрей весело смеялся, восторженно хлопая в ладоши и показывая пальцем на стремительно удаляющийся истребитель, взявший звуковой барьер аккурат над их домом.
– Летчиком мой внук будет! Хватит мокроту разводить! На стол накрывайте, а то весь обед так, на вас глядя, и простою, – строго сказал Виктор и залпом осушил кружку.
Кем быть?
1 ноября 1978 года, рабочий поселок Лесной, улица Ленина, дом 4
Высокие дубы, окружавшие со всех сторон неказистое строение, до недавнего времени бывшее сельским советом, своей почти черной корой и монолитной неподвижностью, лишь подчеркивали угрюмость поселкового пейзажа, который немного оживлял выпавший в изобилии снег. Ночью была метель, и один из этих исполинов, подпиравший карниз старого дома, до самого утра терся об него вековым морщинистым боком, отчего дом скрипел, как мучимый недугом старик, не давая спать жильцам, еще не обвыкшимся на новом месте.
Под кровлей этого дома жила молодая семья из трех человек: Валентин и Валентина Майоровы и их сын Андрей, которому скоро исполнится шесть лет, и, наверное, на следующий год он пойдет в школу. «По правде говоря, есть сомнения по поводу школы. Дело в том, что могут и не взять, ведь надо семь полных, а у меня семи полных не получается…» – эта мысль не давала Андрею покоя не первый день. Все его друзья уже ходили в школу, кто год, а кто и целых два. Ни братьев, ни сестер у мальчика нет. «С детским садом как-то не сложилось. Ну, сами подумайте: манная каша с обязательным сливочным маслом, дневной сон, прогулки под руководством воспитателя за ручки с девочками, очереди, чтобы поиграть наиболее интересными игрушками. Это ли достойное занятие для серьезного молодого человека? Единственная отрада – полдник: печенье, конфеты, компот. Но стоит ли это того, чтобы целый день находиться в неволе? Вот то-то и оно!»
Ровно два месяца Андрей посещал садик, а потом наотрез отказался. Без характерных для таких случаев детских слез и истерик сын сказал родителям, что он достаточно взрослый, и проводить время в детсаду более чем странно при наличии неподалеку двух бабушек.
Непонятно почему, но Валентин и Валентина согласились. То ли потому, что их сын обладал невероятным даром убеждения, то ли потому, что он на самом деле вырос, а, может быть, потому, что за это время Андрей перетаскал из садика всю возможную детскую заразу, кроме ветрянки, которой переболели все, но не он.
Мать Андрея к пяти часам утра уходила на работу. Поскольку «Чайная», такое чудное название гордо несла на своем фасаде самая обычная столовая, находилась в семи минутах ходьбы от дома Майоровых, то Валентина, как заведующая производством и живущая ближе всех от работы, должна была раньше всех приходить и позже всех уходить, принимать и отпускать продукты, контролировать процесс приготовления пищи, а если надо, то и руководить, и непосредственно участвовать, и в целом соответствовать высокому званию работника советского общепита. На этой неделе у нее первая смена, и мужчины с утра должны были справляться со всеми домашними делами сами.
Андрей частенько бывал на работе у мамы. Каждый раз, когда он слышал этот дореволюционный, по его мнению, термин «Чайная», воображение рисовало толстых купцов и молодых купчиков, дующих чай из блюдец и неспешно поедающих лежащие перед ними на подносах огромные калачи, пышки да баранки, но на деле оказывалось, что внутри сидят работяги: шоферы, трактористы да лесорубы, изредка какой-нибудь командировочный «телегент в пинжаке с портфелем», вероятнее всего, снабженец, дующие совсем даже не чай, а бесцветную жидкость, похожую на воду. Покупали ее в буфете, расположенном здесь же при «Чайной», пили из каких-то маленьких стаканчиков, именуемых «рюмочка». Кое-кто, выпив, морщился, а кто-то и с видимым удовольствием крякал и блаженно улыбался. И те, и другие принимались с аппетитом поедать щи и огромные шницели, но были и истинные гурманы, неспешно намазывающие толстый кусок черного хлеба тонким слоем горчицы, именуемой в народе «профсоюзный мед» и тут же наливающие по второй. Те, кто «смену отпахал» несомненно «могли себе позволить», а те, кто еще «пахал» не без зависти посматривали на «отпахавших» и говорили: «Пей, да меру разумней, а то опять в канаве ночевать будешь». Откуда-то из глубины зала доносилось залихватское: «Да в моей мере – два ведра», «в канаве… хто? Я? Да ни в жисть»… И будьте уверены, канавы не пустовали. Как говорится: «Никогда не было и вот снова, то есть опять». Ну, вы поняли…
Путь Андрея на работу к маме чаще всего шел через этот шумный и прокуренный зал, но завидевшая его раньше всех всегда улыбающаяся буфетчица – тетя Рита, выскакивала из-за прилавка, хватала мальчишку за руку и быстро проводила в служебные помещения, чтобы он не задерживался и не обогащал свой словарный запас замысловатыми выражениями.
Папа Валентин собирался, закончив проверять школьные тетради, а Андрею предстояло провести время до вечера одному. Сам же сказал, что взрослый. Уже который день он служил разведчиком и заносил в тетрадку в виде разнообразных значков автомобили, трактора, пешеходов, мужчин и женщин по отдельности, школьников, разделяя их на мальчиков и девочек… Особое внимание привлекал тот самый седой сгорбленный старик с топором на плече. По нынешним временам картина весьма сюрреалистичная, а тогда вполне заурядная, странной была разве что ее повторяемость, такой вот «день сурка», если угодно. Любопытство не оставляло мальчугана, и он спросил у отца, куда может ходить этот старик с топором каждое утро.
Отец бросил беглый взгляд в окно и объяснил, что в это время большинство взрослых идет на работу и этот старик тоже, он сучкоруб в лесу.
– А что есть такая работа – рубить сучки? – удивился Андрей.
– Есть не только такая. Много еще чего есть, – ответил отец.
– А чего это он еще на работу ходит, бабушки-то мои давно на пенсии, вот и старику, наверное, пора бы сидеть дома, – поразился пацан.
– Может и пора бы, но, Семеныч свой стаж в молодости прогулял и теперь вот добирает, – сказал отец, чем окончательно озадачил пацана, и отправился на работу.
Иногда Андрею казалось, что их дом целиком состоит из окон, во всяком случае, другого такого в поселке точно не было. Отец быстро шел к школе, в одной руке он нес раздутый портфель, а другой – бережно прижимал к себе стопку не поместившихся в нем тетрадей. Отец преподавал математику в школе, в которой пацану предстояло учиться.
Оставшись один, Андрей предался размышлениям на тему «Кем быть», но быстро пришел к выводу, что до позднего вечера проверять тетрадки не по нему, рубить сучки у деревьев – вообще странно… «Вот разве что крутить баранку, как сосед дядя Толя… А что, нормально». Сказано – сделано. Быстро расставив имеющийся в наличии автопарк от няни Вали, пацан понял, что работать-то не на чем – не хватает лесовоза, а жаль… Ну, ничего, может, еще будет. А пока можно и на легковом «Москвиче» промчаться, например, до райцентра. «Захожу в гараж, осматриваю машину, открываю дверцу, запускаю двигатель, включаю радио, а там…»
«Быть шофером хорошо,
а летчиком —
лучше,
я бы в летчики пошел,
пусть меня научат.
Наливаю в бак бензин,
завожу пропеллер.
”В небеса, мотор, вези,
чтобы птицы пели”.
Бояться не надо
ни дождя,
ни града.
Облетаю тучку,
тучку-летучку.
Белой чайкой паря,
полетел за моря.
Без разговору
облетаю гору.
“Вези, мотор,
чтоб нас довез
до звезд
и до луны,
хотя луна
и масса звезд
совсем отдалены»…
«Знаю-знаю, это стихотворение Владимира Владимировича Маяковского, книга такая есть, бабушка Клавдия любит мне читать ее больше других. «Кем быть?» вроде бы называется. Пропеллер, мотор… Вентилятор как раз подойдет. Если к столу приставить стул, а на него водрузить вентилятор и включить в розетку… Вот это получается то, что надо. Чем не «Кукурузник» авиалесоохраны? Погнали!»
Вечером, пока мама готовила ужин, у Андрея состоялся обстоятельный разговор с отцом. За день вопросов созрело немало. «Зачем учиться в школе восемь, а то и целых десять лет, чтобы потом до пенсии лес валить?» Видел он не раз, как мужики деревья в поселке валили. Здоровые вековые дубы… Ну, какая там наука? Нужен инструмент, сноровка и, разумеется, сила, что, как говорили мужики, глядя на худосочного пацана, дело наживное. «Кем еще можно стать после школы? Шофером?»
Про армию – тоже вопросы… «Что это такое? Зачем туда уходить? Сколько там служат? Для всех обязательно, как и школа?»
Отец отнесся к Андрею с пониманием и подробно ответил на все его вопросы, которых по ходу беседы возникало все больше и больше. Заканчивали разговор уже после ужина. По всему получалось, что десять лет хочешь-не хочешь, а отдай школьной скамье, да еще и экзамены в итоге выдержи. Потом, если в институт не поступишь или не захочешь, то идешь служить в армию или на флот. Дело, конечно, важное и нужное, почетная обязанность и романтика опять же, но два-три года вдали от родных и друзей как-то не хотели укладываться в детской голове и озадачивали даже больше, чем предстоящая в ближайшей перспективе школа-десятилетка рядом с домом.
Как оказалось, взрослая жизнь, такая увлекательная на неискушенный детский взгляд, весьма и весьма непроста и полна всяких нелепых условностей, над которыми стоило поразмыслить всерьез. Должен быть какой-то, приемлемый для всех, вариант развития событий, когда эти самые интересы государства совпадают или хотя бы не противоречат конкретно его, Андрея, интересам, которых он еще и сам-то толком не знает.
Вот какие у него сейчас интересы? Книжки, машинки, самолетики, оружие, велосипеды и мотоциклы… А что через десять лет будет, когда армия на носу? Да и не получается чего-то… вот если он в шесть лет в школу пойдет, то закончит в шестнадцать, и что тогда до армии делать? Вроде как ни на какую серьезную работу в шестнадцать лет не возьмут, а в восемнадцать – добро пожаловать в армию. Надо про нее как следует разузнать – дело серьезное, и его, похоже, не миновать.
Отец Андрея в армии не служил, поэтому получалось, что больше всех про нее знал и мог рассказать либо его брат Александр, либо брат матери Анатолий – кадровый военный-ракетчик.
Дядя Саша, студент лесотехнической академии, на войсковых стажировках летал штурманом на военно-транспортном самолете и готовился стать офицером запаса. В очередной приезд на каникулы охотно рассказал пацану все, что знал про военную авиацию. Это происходило несколько вечеров подряд, пока юный дядя не получил от мамы племянника нагоняй за начавшийся у того диатез от многочисленных шоколадок.
Шоколадки были не только вкусными, но и отличались необычайно красивыми обертками на авиационную тематику. «Вот где такие купить? А летчикам их прямо на работе каждый день выдают! Не работа – мечта. А как стать летчиком?» Оказывается, крайне сложно… Дядя Саша узнавал, но его в армии не оставили, сказали – сами справляются, если что призовут, а пока учись студент на механика, как и хотел. На следующий год история повторилась, и дядя Саша, получив бесконечную ностальгию по небу, стал весьма и весьма почетным главным механиком на мебельной фабрике.
Андрей при любой возможности расспрашивал дядю об авиации и скоро уже знал практически столько же, сколько и он. Озадачивало, что требований к летчикам предъявляют куда как много: это и безупречное здоровье, и превосходная физическая подготовка, и отличные отметки, и незаурядные личные качества (с этим предстояло разобраться) и многое другое, всего и не запомнить.
«А как понять, годишься ты в летчики или нет? Как пойдут дела в школе – пока неясно. Хорошо бы не так, как в садике. Комиссий медицинских я не проходил, но уколов точно боялся, да и вообще много чего еще… Например, злобного соседского пса Жулика, проехать на велике по деревянному щелястому пешеходному мостику через ручей, длинношеих шипящих гусей, которые гонялись за мной, припав к земле и растопырив крылья, словно дальний бомбардировщик по взлетной полосе… И как же больно они щиплют – все ноги в синяках!»
Вопрос «Кем быть?» оказался совсем непростым и в один из вечеров был прямо задан отцу. Тот задумался и ответил: «Сын, кем быть – ты решишь сам, когда немного подрастешь, но неважно какую профессию выберешь, важно всегда и во всем быть человеком. Это – главное».
Никаких дополнительных разъяснений на этот счет впредь Андрей не просил. Все было ясно с первого раза. Оставалось вырасти.
Кошкин дом. Кошкины и Компотик
1972–1978 годы. Рабочий поселок Лесной. Улица Школьная, 3
Детство – самая сложная пора в жизни человека, где он острее всего чувствует недостаток любви, внимания, интуитивно и безошибочно определяет добро и зло, ложь и правду, предательство и самопожертвование. Ребенка можно ввести в заблуждение или обмануть, но лишь на короткое время. Дети быстро учатся, и навыки, полученные ими в раннем детстве, остаются с ними навсегда.
В доме номер три по улице Школьной прошла та часть детства, которую среди взрослых принято считать, если уж не счастливой, то, по крайней мере, беззаботной. Но по прошествии лет, Андрей, как ни пытался, но никак не мог назвать свое детство таковым. Нет, оно не было несчастливым, и он не был несчастным или обделенным чем-либо, у него была полная семья… Но и беззаботным его детство никак не назвать. Всегда при деле, помощник по хозяйству, во всем принимал непосредственное участие с тех пор, как только научился ходить. Бабушки, то одна, то другая, брали его с собой всегда и везде, разве что кроме женской бани. Если какие-то дела по дому выполняли мужчины, то и он – тут как тут: инструмент подать, гвозди принести, за водой с кружкой сходить.
«В каждой бочке затычка», – говорили иногда про него. Ну, и он в долгу не оставался, хватая все на лету и, прежде всего, пополняя свой словарный запас, который затем виртуозно и безошибочно применял по назначению. Андрею не терпелось вырасти, стать мужчиной. Ему казалось, что определенно должно помочь, если разговаривать по-взрослому, максимально авторитетно. Сын учителя рос заядлым матерщинником, и с этим практически ничего сделать было нельзя, что ввергало в дикое изумление женскую часть семьи, откровенно недоумевающую, где их единственный пока сын и внук мог научиться таким «изысканным» словесным оборотам. Получив нагоняй от бабушки или мамы (отец с утра и до поздней ночи работал), Андрей отправлялся в угол, а иногда и по-старорежимному – на горох. Надо сказать, что польза от такого воспитательного воздействия была весьма сомнительная. Словарный запас прирастал, но применялся все более осмотрительно.
Каждое лето в гости к бабушке приезжал брат Алексей с семьей. Он работал шахтером, жил в Караганде, был мастером на все руки и очень скучал по малой родине, мечтая вернуться при первой возможности. Но возможность не торопилась представляться, а семью с тремя детьми нужно было содержать, что безмерно добрый и безгранично трудолюбивый шахтер Кошкин делал без оглядок на других, от души и щедро давая и своим, и приемным детям то, чего не хватало в детстве ему самому.
У этого деда Андрей научился многому. И, прежде всего, поражало то, что дед Алексей не ругался – не ругался вообще и не ругался никак. Попадет молотком по пальцу (зрение подводило иногда) и не матерится, крякнет только. Упала штакетина на ногу, вдохнет дед воздух через плотно сжатые зубы и дальше работает как ни в чем не бывало. Вот выдержка у человека! Да и шутка ли – несколько дней лежал недвижимым со сломанными костями под завалом в шахте, там сдюжил и другим упасть духом не давал! Вот сила воли и характер – пример для подражания, но ни в шахту, ни тем более под завал Андрею не хотелось.
А как себя проверить? А вообще, надо ли чего-то проверять? Ну, не герой он, это ж и козе понятно, но и не совсем уж чтобы трус… Середнячок как будто или вроде того. Так ведь и не мужчина еще, а мальчик, и страшно ему бывает, да и всплакнет иногда ненароком, когда никто не видит. И самовольником его бабушки называют, если он вдруг сделает то, чего делать строго-настрого запрещено, например, уйдет со своей улицы на другую, или увяжется за пацанами и вернется домой только к вечеру, когда уже разосланы гонцы во все стороны, когда облава, и идут навстречу отец с ремнем и бабушка с хворостиной… Так это не то чтобы он ослушался бабушку или маму, а просто хотел быть как все, проверить себя, что не слабо постоять близко-близко к железной дороге, когда поезд идет. Настолько близко, чтобы потоком воздуха закачало, а потом сидеть на насыпи, оглушенным адреналином, ждать другой поезд и смотреть, как старшаки курят то бычки, а то и махорку. Но, где был и что делал лучше уж не рассказывать, иначе горох может превратиться в пшено, и век свободы не видать – до школы просидишь на огороде.
– А ну, иди сюда, самовольник, – ухо пацана попало в крепкие материны пальцы. – Щас домой придем, я из тебя всю дурь вытрясу, – все больше распаляется женщина, уставшая после работы и уже часа полтора разыскивающая непослушного отпрыска.
– Ну, началось, – думает Андрей, – ремня не миновать, но если первым зайти домой, то есть шанс скользнуть под диван, проверено – помещаюсь, а уж оттуда меня без посторонней помощи не достать. Мать про диван пока не знает, так что все получится!
Вместе с дедом Алексеем приезжала и его семья: жена Анна и сыновья – Саша, Витя и Павел. Павлик – самый младший из сыновей, но все равно старше Андрея на целых восемь лет. Любимым занятием и развлечением пацанов в деревне была рыбалка, но не для Андрея. Его это почему-то совсем не интересовало. Не интересно, и все тут.
За компанию с Павликом или Витей его охотно отпускали на пруд, все какое-никакое развлечение да и навык полезный, но надоедало ему на рыбалке быстро и хотелось к железной дороге, туда где поезда, запах шпал, грохот проходящих составов… Там можно монетку, гвоздь или проволоку на рельсы положить, на крайний случай – и камень, если уж совсем ничего подходящего на глаза не попадется.
Уйти из компании дружных родственников не получалось, им строго-настрого наказывали смотреть за младшеньким и беречь как зеницу ока. Вот и сидел на рыбалке: следил за поплавками на многочисленных удочках, помогал копать червей, подкармливать рыбу, запутывал леску закидушек, подавал бутерброды, смешил городских байками о деревенском житье-бытье и пересказывал русские народные сказки, которые знал наизусть, хотя и читать-то еще не умел.
Все детские книжки были удивительно хорошо иллюстрированы, и рассматривать картинки доставляло удовольствие, а, глядя на них, и сказки запоминалась легко и непринужденно. Несмотря на то что содержание книжек Андрею давно известно, слушать их он мог бесконечно, а так как у родителей катастрофически не хватало времени, то больше всего доставалось прабабушке Оле, которая охотно занималась с мальчишкой, соглашаясь читать принесенные многочисленные книги.
Она старательно делала вид, что читает, а сама пересказывала сказки на свой лад, глядя на те же картинки. Андрей быстро подлавливал прабабушку на неточностях, а иногда и противоречиях. Прабабушка исправлялась, продолжала дальше, пока внук снова не уличал ее на слишком вольном пересказе. Дело в том, что читать не умели ни Андрей, ни его прабабушка, но имелась одна немаловажная деталь – он уже знал тексты сказок наизусть. Вечером прабабушка в шутку жаловалась на сообразительного пацана, с гордостью называя его «ленинской головой».



