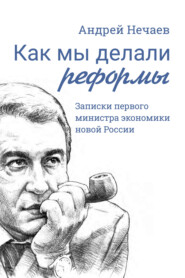скачать книгу бесплатно
Как мы делали реформы. Записки первого министра экономики новой России
Андрей Алексеевич Нечаев
Андрей Нечаев – первый министр экономики новой России, одна из ключевых фигур правительства реформаторов начала 90-х. Команда реформаторов тогда спасла Россию от реальной угрозы хаоса и распада, за исторически мизерный срок создав основы рыночной экономики.
Как активный участник событий, автор развеивает мифы о тех временах, именуемых в последние годы «проклятыми девяностыми». Он показывает, что многие решения диктовались самой ситуацией краха экономики конца СССР и развалом государственной машины. Именно это предопределило радикальный характер реформ.
Андрей Нечаев открыто пишет об ошибках и «шараханьях» в политике в последующие годы, включая последнее десятилетие, приведших страну к ее нынешнему состоянию.
Автор откровенно описывает дискуссии, сомнения и поиски реформаторов, характеры, позиции и человеческие взаимоотношения участников событий, наложивших отпечаток на проводившуюся политику. Читателю будет интересно узнать о нравах постсоветской бюрократии, непростых переговорах с иностранными партнерами, противостоянии лоббистам, в чем автор принимал непосредственное участие. В книге много уникальных, поразительных деталей и неизвестных фактов, меняющих сегодняшний взгляд на то удивительное время.
Андрей Нечаев
Как мы делали реформы. Записки первого министра экономики новой России
© Нечаев А. А., 2024
Предисловие
У этой книги непростая судьба. Я начал писать ее еще в середине 90-х, то есть почти непосредственно по следам описываемых в ней событий. Мне хотелось показать с позиций очевидца и непосредственного участника, как принимались ключевые решения в области социально-экономической реформы 1991–1993 годов.
Это было поистине драматическое, но очень интересное и насыщенное время. На наших глазах распалась некогда великая держава СССР, создавалось новое Российское государство. Россия оказалась на грани голода, хаоса, финансового банкротства и возможной гражданской войны. Сама жизнь диктовала необходимость радикальных мер для вывода страны из кризиса. Высшим руководством России было принято давно назревшее решение о переводе экономики на рельсы рыночного хозяйства. Выполнить эту тяжелейшую задачу выпало на долю нового молодого правительства, ключевую роль в котором играли Егор Гайдар и его соратники.
Хотя многие решения в рамках проведения экономической реформы диктовались ситуацией в экономике и обществе, они принимались конкретными людьми и в конкретных обстоятельствах. Надеюсь, что читателю будет интересно узнать и этот личностный аспект их принятия. Ведь за многими решениями стояли не только судьбы миллионов россиян, но и судьбы людей, принимавших эти решения. Я постарался описать в книге наши дискуссии, сомнения и поиски. Несомненно, не только объективные обстоятельства, но и характеры, мировоззрение, чисто человеческие взаимоотношения участников событий наложили свой отпечаток на проводившуюся политику.
Вы найдете в книге немало личностей, хорошо известных в нашей современной истории. Надеюсь, они нарисованы мной не в виде застывших исторических персонажей, а живыми людьми с их переживаниями, амбициями, личными мотивами действий. Это было время жесткой политической борьбы, ответственных решений и поступков. Тем не менее с ее участниками случались и забавные моменты, иногда откровенные курьезы. Возможно, они повеселят читателя. Однако хочу сразу предупредить, что это не книга о политических сплетнях, слухах и эпизодах «из жизни звезд». По-настоящему драматическим было то время. Фантастически тяжелым стал груз ответственности за принимаемые решения.
Первое российское правительство после обретения страной независимости журналисты почти сразу окрестили «правительством камикадзе». Для этой иронии есть основания. Слишком трудные и непопулярные меры предстояло осуществить нашему правительству для спасения страны от краха путем перевода экономики на рыночные рельсы. Объективная тяжесть реформ вольно или невольно ассоциируется у некоторых россиян с Гайдаром и его командой. Значительно реже о ней вспоминают, когда люди пользуются плодами заложенных тогда основ рыночного хозяйства: широким выбором товаров и услуг вместо тотального их дефицита к моменту кончины плановой экономики, возможностью создания собственного бизнеса, реальным шансом при успешной работе иметь свой дом, машину и любые потребительские товары, возможностью поехать на отдых, работу или учебу за рубеж и многим другим. И это замечательно. Если сегодня мало кто вспоминает отцов рыночной экономики, это означает, что она дала в стране глубокие корни. В результате радикальных рыночных реформ экономика стала работать на человека, на потребителя. Исключительно он своим выбором, а не некие клерки из Госплана и ЦК КПСС, определяет, что? хозяйство страны производит или импортирует.
Именно на заложенном в то время фундаменте во многом строилось экономическое благополучие страны в XXI веке, которым так гордятся нынешние власти, увы, не сумевшие, несмотря на благоприятные предпосылки, продолжить развитие реформ, а главное – защитить россиян от нескольких кризисов в последние 10–15 лет.
Эта книга ни на йоту не является попыткой оправдания наших ошибок или недоработок. Их не совершает только тот, кто ничего не делает. А уж на нашу долю выпала поистине гигантская и труднейшая работа. Однако искренне надеюсь, что, узнав немного больше правды о драматической ситуации в экономике и социальной сфере ко времени начала реформ, об активном противодействии политике реформ со стороны остатков советско-коммунистической номенклатуры, объективный читатель иначе взглянет на наши действия и их результаты, поймет причины и неизбежность радикальности многих решений, в которой нас часто упрекают. Может быть, в нем даже проснется толика благодарности к нескольким тогда еще довольно молодым людям во главе с президентом Ельциным, взявшим на себя труд и бремя ответственности изменить судьбу страны, спасти ее от краха и открыть ей дорогу к экономическому процветанию и вхождению на равных в мировую экономику. В том, что наши преемники не полностью воспользовались созданным нами заделом, нашей вины нет.
В книге есть немало личных впечатлений и воспоминаний автора. Это не от нескромности или самолюбования. Так случилось, что в те годы мне довелось быть в эпицентре многих важнейших событий. Рассказать о них глазами одного из активных участников и было целью этой книги. В то же время именно потому, что я старался писать в первую очередь о событиях, в которых сам принимал непосредственное участие, я, вероятно, не осветил в равной мере все аспекты экономической реформы.
Так, в книге не много места посвящено приватизации, хотя она была важным аспектом социально-экономических преобразований[1 - Для удобства читателя отмечу, что книга построена на сочетании хронологического и тематического принципов. Однако к некоторым темам, например к необходимости жесткой финансовой политики, к социальной защите населения и к отношениям с регионами, я обращался в нескольких главах. Менялась ситуация, возникали новые проблемы и, соответственно, новые способы их решения.]. Однако я не был ее идеологом и исполнителем на практике, поэтому оставляю эту возможность своим коллегам. Тем более что о приватизации написано уже немало, в том числе и с элементами скандальности.
Эта книга не просто очередные личные мемуары и в то же время не строгий научный анализ проводившейся экономической политики. Цель моих воспоминаний – показать, как на практике создавалась новая экономика и общество России, через какие преграды пришлось пройти их создателям. Это своего рода взгляд изнутри на события исторической значимости, на действия их участников. При этом я старался проводить параллели с современной российской ситуацией, в том числе указывая на уроки, которые можно и поныне извлечь из нашего опыта.
Я сказал, что у книги трудная судьба. Практически написав ее во второй половине 90-х, я никак не мог поставить точку. Хотелось отреагировать на текущие актуальные события, дать их оценку с позиций нашего опыта. В итоге мемуары постепенно стали превращаться в публицистику на злобу дня. Я решил сделать небольшую паузу и отложил рукопись в сторону. Потом случился дефолт 1998 года, за ним другие серьезные события. А в 2004 году у меня в доме произошел пожар, в котором весь архив, включая рукопись книги на компьютере, сгорел. Остались только немногие черновые наброски. В итоге первый вариант книги увидел свет лишь в 2010 году.
С тех пор произошло немало событий, которые кардинально поменяли нашу жизнь. Экономическое процветание нулевых сменилось несколькими кризисами и общей стагнацией экономики. Интеграция в мировую экономику заменена курсом на автаркию и «самодостаточность». Выстраивание мирных, конструктивных отношений со всем миром заменено на жесткую конфронтацию с Западом и военный конфликт с ближайшим соседом Украиной.
Кардинально поменялся и внутриполитический фон. Мы все больше де-факто возвращаемся к однопартийной системе. Свернуты демократические выборы, почти исчезла свободная пресса, особенно телевидение, сдерживается развитие гражданского общества, вернулись политические репрессии. Вновь резко возросло прямое вмешательство государства в экономику.
Идеологи нынешней власти пытаются нам доказать, что для России некая «суверенная» демократия лучше традиционной. А отношения с Европой должны быть заменены разворотом на Восток. Все чаще возникает стремление найти каких-то внешних и внутренних врагов, проискам которых приписываются проблемы страны.
В рамках этой новой политики в однобоком, преимущественно негативном свете рисуются события 90-х годов. Появился даже расхожий термин «проклятые девяностые». В такой ситуации мне кажется, что книга о событиях первой половины 90-х невольно обретает особую актуальность. Записки о том трудном, но чрезвычайно интересном и насыщенном времени напомнят правду о нем среднему и старшему поколению россиян. Надеюсь, что эта правда хотя бы отчасти развеет сегодняшние мифы о событиях тех лет, которые навязываются молодому поколению, к счастью не испытавшему тяготы того времени и воспринимающему позитивные плоды рыночных реформ как некую данность. Когда-то за эту данность пришлось серьезно бороться.
Пауза в полтора десятка лет не прошла даром. На многие события 90-х я сам посмотрел по-новому с позиций сегодняшнего дня. Я никоим образом не пытался «поправить» историю под запросы современности. Факты и действующие лица остались прежними, а вот долгосрочные исторические последствия тех решений теперь можно впервые оценить.
В итоге родилась совершенно новая книга. Мне казалось важным перебросить мостик в современность, показать трансформацию рыночного хозяйства в нынешней России. Я попытался предостеречь от реализации популярных сейчас идей усиления госрегулирования и прямого участия государства в экономике в качестве хозяйствующего субъекта, возврата к административно-плановой системе и мобилизационной экономике. Мне кажется важным для будущего страны показать те элементы рыночной экономики, от которых недопустимо отказываться при любых обстоятельствах.
Я пытаюсь ответить на все чаще возникающий вопрос: почему все закончилось тем, что мы имеем сейчас? В чем состояли ошибки реформаторов и демократической власти в целом, которые не сделали реформы и демократическую революцию необратимыми?
Наконец, по прошествии тридцати с лишним лет моему читателю, надеюсь, будет интересно взглянуть на судьбу самих российских реформаторов. Она была очень разной. Хотя правительство реформаторов было одним из самых молодых в истории страны, многих мы уже потеряли.
Книга у вас в руках, уважаемый читатель. Читайте. Надеюсь, вы узнаете для себя кое-что новое, полезное и интересное.
С уважением,
А. Нечаев
Москва, январь 2024 г.
1. Команда Гайдара
В трудные осенние месяцы 1991 года у руля экономической власти в России оказался Гайдар с командой своих единомышленников. В этом была немалая доля случайности. И все же в стечении многих обстоятельств, которые привели нас к руководству страной, нельзя не увидеть внутренней логики.
Когда на высшем политическом уровне было принято решение о серьезном реформировании экономики, выбор был во многом задан уже самим этим решением. Дело в том, что в стране было не так много людей, способных справиться с задачей создания основ рыночных отношений.
Мало кто знает, что в судьбе самого Гайдара важную роль сыграл Михаил Сергеевич Горбачев. На рубеже 90-х Егору, бывшему в то время заведующим экономическим отделом «Правды», довелось принять самое активное участие в подготовке нескольких программных выступлений Горбачева по экономическим вопросам. В советское время всегда существовала практика привлечения ученых и журналистов из центральных изданий для написания серьезных речей и докладов высших руководителей партии и правительства, разработки других ключевых документов. Правда, иногда их заставляли писать и произведения типа «Малой земли».
Одно из выступлений Горбачева, почти полностью написанное Гайдаром, оказалось весьма удачным и было хорошо принято депутатами Верховного Совета СССР. В итоге осенью 1990 года Горбачев решил «вознаградить» Гайдара за выполненную на высоком профессиональном уровне работу созданием «под него» Института экономической политики, призванного разрабатывать практические и теоретические вопросы экономических преобразований.
Главным опекуном и учителем молодежи был выбран академик Абел Гезевич Аганбегян. Институт был создан в рамках его Академии народного хозяйства при Правительстве СССР. Несколько позже мы добились двойного подчинения – еще и Академии наук СССР. Меня Гайдар пригласил стать заместителем директора по науке. Согласился я не раздумывая, потому что интуитивно почувствовал, что затевается большое и нужное дело.
Любопытно, что в последние десятилетия каждый новый руководитель государства создает «под себя» некий «мозговой центр». Так, Горбачев вначале опирался на экономические институты Академии наук и Академию народного хозяйства Аганбегяна, но позже создал гайдаровский институт. Правда, его рекомендациями воспользовался уже Ельцин, который и в дальнейшем поручал нашему институту многие ответственные задания по разработке экономической политики.
Путин, еще будучи исполняющим обязанности президента, создал Центр стратегических исследований во главе с Германом Грефом. И этот Центр разработал серьезную программу дальнейшего развития социально-экономических реформ, реализация которой была, к сожалению, скоро свернута. Институт Гайдара также принимал самое активное участие в подготовке данной программы. В дальнейшем руководители этого центра: сам Греф, немного позднее Михаил Дмитриев, Алексей Улюкаев, Эльвира Набиуллина – заняли высокие посты в правительстве.
Дмитрий Медведев образовал ИНСОР – Институт современного развития – во главе с Игорем Юргенсом, который сейчас ушел в тень.
Интересно, что все эти коллективы придерживались и придерживаются достаточно либеральных взглядов на экономическую политику, что часто приводит к некоторым противоречиям с практической политикой, проводимой современной российской властью.
Таким образом, все высшие руководители страны последних десятилетий понимали необходимость привлечения к выработке социально-экономической политики наиболее современно мыслящих ученых, видимо, недостаточно доверяя дееспособности традиционных институтов системы Академии наук и других ведомств, особенно правительственных. Разница состояла лишь в том, насколько эти руководители были готовы следовать на практике рекомендациям ученых и привлекать их к реализации предложенной ими политики.
Правда, сегодня я бы не взялся назвать институт, который играет ключевую роль в выработке экономических решений. Что касается государственных ведомств, то в настоящее время мы часто видим возникающие у них серьезные разногласия в экономической политике.
Академическая кузница правительственных кадров
К моменту создания нашего института мы с Гайдаром не были близкими друзьями, просто работали некоторое время в одном институте. До ухода Гайдара в журналистику – сначала в «Коммунист», а потом в «Правду» – мы оба трудились в Институте экономики и прогнозирования научно-технического прогресса Академии наук (ИЭП НТП). Однако занимались совершенно разными направлениями, и каких-либо тесных профессиональных контактов между нами не было. Но на уровне «здравствуйте» мы познакомились именно в этом институте, куда Гайдар пришел в составе команды Станислава Сергеевича Шаталина.
ИЭП НТП был создан в феврале 1986 года при разделении знаменитого ЦЭМИ (Центрального экономико-математического института), одного из самых «крамольных» академических учреждений того времени. Нужно заметить, что ЦЭМИ даже по советским меркам являл собой пример «монстра» со штатом примерно в 1200 человек. Однако знаменит он был не размерами и зданием на Профсоюзной улице с его весьма странной и двусмысленной внешне эмблемой: математическим знаком «лента Мебиуса», вызывающим у непосвященных ассоциации с человеческим ухом или даже иным, более пикантным, органом. Известен институт был своим крайним вольнодумством, поощрением поиска, склонностью к либеральным экономическим идеям, в те времена, правда, не выходившим далеко за рамки социалистической модели. Тем не менее даже за это он был неоднократно и жестоко бит и в ЦК КПСС, и в Госплане, и престарелым руководством Академии наук.
Видимо, неслучайно ЦЭМИ в 90-е годы дал стране не менее двух-трех десятков высших руководителей экономических ведомств и аппарата правительства. В 70–80-х годах в институте работали Евгений Ясин, Борис Салтыков, Сергей Глазьев, Александр Шохин, Владимир Лопухин, Владимир Машиц, Олег Вьюгин, Андрей Фонотов, Виктор Данилов-Данильян, Андрей Вавилов, Алексей Головков, Илья Ломакин-Румянцев, Зураб Якобашвили, Иван Матеров и многие другие будущие министры и заместители министров. Так что звучавшие в разное время злые шутки о правительстве «мэнээсов» и «завлабов» имеют под собой определенную историческую почву.
Справедливости ради полезно заметить, что к моменту «попадания на должность» все мои бывшие коллеги не просто имели ученые степени и звания, а уже были известными учеными (в том числе и за пределами бывшего СССР). Не могу отказать себе в небольшом научном злорадстве и не отметить, что многочисленные экономические институты Госплана, да и системы Академии наук, не делегировали в правительство реформ почти никого. Исключение составили лишь представители «ленинградской школы», работавшие, впрочем, перед переходом в правительство в ленинградском филиале гайдаровского института.
Я работал в ЦЭМИ в отделе народно-хозяйственного прогнозирования, который был создан крупным советским экономистом Александром Ивановичем Анчишкиным. Судьба этого известного ученого, к сожалению скончавшегося в расцвете сил в 1987 году, весьма показательна. Он был одним из пионеров из числа академических ученых, попытавшихся на практике реализовать свои научные идеи. На рубеже 80-х, уже будучи членом-корреспондентом Академии наук СССР, он ушел в Госплан СССР, где возглавил специально созданный «под него» отдел долгосрочного планирования. По тем временам это был огромный шаг в административной карьере. Однако, несмотря на научную известность, Александр Иванович столкнулся в своей деятельности с глубоким неприятием, почти блокадой со стороны аппарата Госплана, мало что из задуманного смог осуществить и в итоге получил тяжелый инфаркт, после которого был вынужден уйти с должности и стать профессором МГУ. Удивительный зигзаг истории: мне, его ученику, через десяток с небольшим лет довелось возглавить и реформировать этот самый Госплан, так жестко отторгнувший когда-то моего учителя и его замыслы.
Уже в горбачевские времена после раздела ЦЭМИ Анчишкин возглавил новый институт, сначала получивший название «Институт экономики и прогнозирования научно-технического прогресса», а позднее ставший Институтом народно-хозяйственного прогнозирования. Его костяк составил тот самый отдел народно-хозяйственного прогнозирования ЦЭМИ, в котором я работал. Руководитель отдела Юрий Васильевич Яременко стал заместителем директора института, а после скоропостижной смерти Александра Ивановича – его директором. Именно Анчишкиным в новый институт был приглашен из ВНИИСИ (Институт системных исследований) Станислав Сергеевич Шаталин. С ним пришел Гайдар.
Образно говоря, все мы, попавшие впоследствии в правительство, были, что называется, «одной крови». Гайдар, приглашая меня к себе в заместители в новый институт, знал, что я из команды Анчишкина и Яременко, что занимаюсь структурными проблемами экономики. Да и общих знакомых у нас было достаточно много. Он – сотрудник Шаталина, а я – аспирант Станислава Сергеевича по экономическому факультету МГУ. Правда, в большей степени я считаю себя учеником академика Юрия Васильевича Яременко, под непосредственным руководством которого проработал почти пятнадцать лет и которому многим обязан с точки зрения понимания реалий советской экономики и внутренних механизмов планово-распределительной системы. По общему признанию, Юрий Васильевич был крупнейшим авторитетом в этой области.
И Яременко, и Анчишкин прививали своим молодым сотрудникам любовь к статистике, умение не чураться черновой работы по сбору материалов, фактов, статистических данных и их кропотливому анализу. Мы сутками просиживали в Госкомстате, ГВЦ Госплана, отраслевых НИИ, библиотеках, по крупицам собирая информацию. Ради получения нужного показателя в ход шло все, вплоть до личных знакомств. Ведь в СССР все что можно и нельзя было засекречено. В итоге, благодаря этому титаническому труду, мы подчас знали реалии советской экономики лучше многих спецов ЦК КПСС и Госплана. Благо что в академическом институте можно было позволить себе роскошь по минимуму обращать внимание на идеологические догмы.
Разумеется, мы активно использовали в исследованиях экономико-математические модели. Я был известен в экономических кругах развитием знаменитой модели межотраслевого баланса, за которую когда-то получил Нобелевскую премию Василий Васильевич Леонтьев, кстати, несмотря на солидный возраст, неоднократно приезжавший из США к нам в институт и активно интересовавшийся нашими наработками. Добавлю, что искренне горжусь, что в 2023 году стал лауреатом Международной медали имени Леонтьева, правда, не за научные достижения, а за вклад в реформирование экономики (таков статус медали).
Я также много занимался принципиально новым для советской экономической науки направлением – эконометрическим моделированием на основе международных сопоставлений. На базе чего защитил кандидатскую, а впоследствии и докторскую диссертацию. Фактически я стал автором нового для советской науки научного направления. Как шутил уже много лет спустя мой бывший коллега по институту, впоследствии его директор и академик Виктор Ивантер: «Вот ты бросил науку, и целое научное направление закрылось».
Предостерегая нас – молодых ученых – от чрезмерного увлечения моделями в отрыве от статистики и жизненных реалий, Александр Иванович Анчишкин любил повторять немного грубоватую шутку про популярную модель производственной функции, которую он одним из первых применил для анализа советской экономики. Александр Иванович говорил: сначала нужно собрать большую кучу «дерьма» в виде статистических данных, фактов и прочего и лишь после этого можно в качестве украшения посадить сверху производственную функцию.
Но самое главное, что мои учителя требовали от нас повышенной ответственности, проверки и перепроверки своих расчетов и выводов. Даже рядовая статья становилась предметом многократного обсуждения и долгой правки. Зато, увидев свет, большинство работ сотрудников нашего отдела становилось предметом всеобщего интереса. Они часто перепечатывались на Западе, что для экономистов в советские времена было большой редкостью. Полученные в академическую бытность знания и умение критически относиться к своим достижениям здорово помогли мне в дальнейшей работе.
И еще одна ирония судьбы. Мой учитель Юрий Васильевич Яременко в 1992 году стал советником Хасбулатова, одним из экономических идеологов оппозиции и ярым критиком нашего правительства, экономический блок которого был во многом представлен его учениками. Воистину неисповедимы пути Господни.
Но все это было потом, а тогда нам нужно было создать с нуля новый институт. Было очень много организационной работы. Помещения нам дали в академии Аганбегяна (что потом сыграло некоторую роль в нашей судьбе). Вообще, Абел Гезевич стал как бы крестным отцом нашей новой фирмы, всячески нам помогал и при необходимости нас прикрывал.
По кадровому составу это был невероятно молодежный институт, потому что мы, естественно, брали на работу преимущественно своих сверстников – бывших коллег, друзей, знакомых. Конечно, друзей не в том смысле, с кем приятно сходить на футбол или выпить рюмку (хотя приверженцев сухого закона среди нас не наблюдалось), а тех, с кем можно было разрабатывать актуальные проблемы, конструктивно спорить. Так сформировалась команда единомышленников. Под «свое» направление, занимавшееся анализом и прогнозированием развития, как теперь модно говорить, «реального сектора», я подбирал кадры сам, получив на это карт-бланш от Гайдара. Кое-кого привел из прежнего института, ряд ребят взял из НИЭИ Госплана, с которым активно сотрудничала команда Яременко. А научные направления, связанные с хозяйственным механизмом (так на казенном языке называлось тогда реформирование экономики), формировал сам Гайдар. Через какое-то время в институте появился второй заместитель директора. Это был Володя Машиц, который потом стал министром по делам СНГ. Сам не подозревая об этом, институт активно ковал кадры для будущего правительства.
Поскольку Гайдар считал важным заниматься также проблемами, лежащими на стыке политики и экономики, мы активно вылезали за рамки чисто экономической тематики. Изучали социальные проблемы, вопросы приватизации и институциональных изменений, готовили аналитические записки по отдельным крупным вопросам и делали общие политико-экономические обзоры ситуации в стране с элементами краткосрочных прогнозов. Это был текущий анализ структурных изменений в производстве, ситуации в финансах, во внешней торговле, в социальной сфере. Направляли мы свои изыскания не только в родственные институты, но и в прессу, а также во властные органы, в том числе и на самый «верх», вплоть до Горбачева и Ельцина. Разбирая свои оставшиеся после пожара в моем доме бумаги, я нашел один из наших тогдашних опусов, печатный экземпляр такого первого нашего обзора. И знаете, он мне до сих пор очень нравится.
Выходили мы в своих работах на анализ и решение достаточно крупных экономических проблем. Я, в частности, написал тогда большую статью «Промышленный кризис в СССР: механизм развертывания». В ней анализировались причины ускорявшегося спада производства, его этапы, кризисные отрасли и тому подобное. Статья получилась неплохая, впоследствии ее даже напечатали в Англии и еще где-то. А впервые опубликована она была с подачи Гайдара в журнале «Коммунист», который к тому времени стал в каких-то областях достаточно либеральным изданием и мог себе позволить подобные вольности. По иронии судьбы это оказался последний номер в истории журнала. Вскоре грянул августовский путч, после которого журнал, как и весь ЦК КПСС, закрыли. Из-за занятости я вовремя не получил за статью причитавшийся мне весьма приличный по тем временам гонорар, а потом уже было поздно. Ну да Бог с ним. Исчез где-то вместе с «деньгами партии».
Но вспомнил я эту статью не только в качестве иллюстрации собственных трудов. Многие наши последующие критики как-то очень быстро забыли реалии 1991 года и приписали все проблемы в экономике 1992 года и последующих лет к ошибкам стратегии реформ. Согласитесь, если уж главный коммунистический журнал, пусть даже «демократизировавшийся», еще летом 1991 года позволил себе опубликовать статью на подобную тему и с таким названием (не говоря уже о содержании), то, значит, ситуация в экономике была действительно аховая.
Памятна мне еще одна моя статья, подготовленная чуть ранее. Называлась она «Реформа цен в СССР в свете международных сопоставлений». В ней был сделан теоретический расчет того, как изменится структура розничных цен в СССР по крупным товарным группам, если мы перейдем на мировые цены, но с учетом нашей структуры и уровня потребления населения. Эти расчеты показали, насколько глубоко деформирована и перекошена у нас структура цен, как тяжело ее искусственно сохранять и какие крупные сдвиги в соотношении цен по основным товарам нас ожидают при переходе к нормальному, сбалансированному ценообразованию. Примерно в то же время мной вместе со специалистами Госкомстата (именно в ходе этой работы мы познакомились и подружились с будущим руководителем Росстата Владимиром Соколиным) на базе межотраслевых моделей и балансов были проведены довольно детальные расчеты влияния на положение в основных отраслях советской экономики при переходе на структуру мировых цен. Анализ дал катастрофическую картину: более двух третей отечественной промышленности, особенно обрабатывающих отраслей, оказывались абсолютно неэффективными и явно убыточными. Главный вывод напрашивался сам: дальше с подобной системой цен жить нельзя; ее сохранение ложится неподъемным бременем на всю экономику, деформирует производство и потребительский спрос. А это значило, что либерализация цен не просто назрела, но явно уже перезрела.
Любопытно, что приведенные в статье конкретные расчеты возможного изменения цен, внешне имевшие тогда вроде бы сугубо теоретический характер, впоследствии во многом совпали с реальными ценовыми сдвигами, произошедшими после либерализации цен в январе 1992 года. Вот уж невольно вспомнишь приснопамятного Леонида Ильича, которому однажды вложили в уста фразочку: «Нет ничего более практичного, чем хорошая теория».
Самое интересное, что нас никто не заставлял заниматься подобными изысканиями. У нас не было какого-то специального заказчика на конкретные исследования. Мы сами определяли, над чем работать, исходя из собственного понимания наиболее острых для страны социально-экономических проблем. Судя по тому, что продукция института «наверху» встречалась с большим интересом, темы мы выбирали правильно.
Нашей команде удалось довольно быстро завоевать авторитет. Институт развивался. Был создан ленинградский филиал во главе с Сергеем Васильевым, ставшим потом руководителем Рабочего центра экономических реформ при правительстве, а позднее – заместителем министра экономики. Заместителем директора ленинградского филиала был назначен Андрей Илларионов, тоже известный теперь человек. Активно помогал становлению этого филиала Анатолий Чубайс, уже бывший тогда одним из руководителей города на Неве. Тогда же нашим институтом заинтересовался Геннадий Эдуардович Бурбулис, в тот момент правая рука Ельцина, что в конечном счете и решило нашу судьбу.
Августовский путч
Все было так хорошо. И вдруг… 19 августа 1991 года. Августовский путч!
Хорошо помню свои первые ощущения. Это не была растерянность. Это было ощущение какого-то трагизма и одновременно нелепости происходящего.
Неужели нам предстоит откат в недавнее прошлое? Было совершенно ясно, что все это ненадолго, ибо стратегически назад пути нет. Но сколько продлится реставрация? Месяцы? Годы? А вдруг на десятилетия?..
Наш институт находился на юго-западе. А я жил тогда на Земляном Валу. Еду на своих «тринадцатых» «жигулях» на работу через половину Москвы. А на пути танки. Казалось, что они везде, что этими танками и бэтээрами запружена вся Москва. Наконец я добрался.
Все собрались в кабинете Гайдара. Позвонили в Ленинград, узнать, как обстановка. Позвонили Петракову, тогда советнику Горбачева, потом Шаталину. Нужно было понять, где они, что с ними. Арестованы или нет? Мы считали, что аресты потенциальных противников хунты уже должны были начаться, но никто не знал, по каким спискам будут «чистить» и вообще как все это будет выглядеть.
Тут же решили составить аналитический документ, типа «чего хочет, к чему ведет ГКЧП». Я набросал проект, Гайдар отредактировал. В итоге получился довольно короткий и энергичный документ под названием «Экономическая программа хунты», где в полемическом тоне разбирались основные тезисы ГКЧП, показывался их спекулятивный, популистский, демагогический характер. Впрочем, думаю, что текст этого документа лучше привести целиком. Для истории. Мне за него и сегодня не стыдно.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПРОГРАММА ХУНТЫ
Официальные документы военной хунты, пришедшей к власти в результате переворота 19 августа 1991 года, а также выступление членов хунты на пресс-конференции дают основание сделать первые выводы об основных чертах предлагаемой ею экономической «Программы».
В их числе можно выделить:
1. Страстное желание возложить на кого угодно, кроме себя, ответственность за нынешний экономический кризис. Больше того, сделать его трамплином для захвата власти. Никто не несет большей ответственности за нынешний финансовый и общеэкономический кризис в стране, чем нынешний Премьер-Министр, а до того Министр Финансов СССР В. Павлов, яростные лоббисты аграрного и военно-промышленного комплекса В. Стародубцев, А. Тизяков, О. Бакланов, В. Крючков и Д. Язов.
Правительству, которое само повысило закупочные, оптовые и розничные цены, в результате чего были нарушены все ценовые пропорции, в том числе ценовой паритет между городом и селом, понадобился военный переворот, чтобы «в недельный срок найти способ их упорядочить, заморозить и снизить».
2. Набор банальных истин о необходимости хорошо работать, чтобы хорошо жить, которые слышны десятилетиями.
Правительству понадобился переворот, чтобы выяснить, какие есть резервы в жилищном строительстве, как обстоят дела с запасами товаров и продовольствия.
3. Руководители переворота используют самые беззастенчивые, крайние формы экономического популизма.
Оказывается, что только после переворота можно поднять всем заработную плату, снизить цены и обеспечить постоянное повышение благосостояния. Трудно представить, что ГКЧП всерьез надеется таким образом повысить жизненный уровень населения. Если же это так, то должны предупредить, что в сложившейся экономической ситуации это прямой путь к безудержному разгулу инфляции, от которой пострадают все слои населения, но особенно малообеспеченные.
4. Смесь шапкозакидательских заявлений о том, что мы обойдемся без зарубежной помощи, с прозрачными намеками на то, что ГКЧП от нее бы не отказался и готов вести себя хорошо.
Экономический ущерб, который уже нанесен кредитоспособности страны, перспективам прямых иностранных капиталовложений и зарубежной экономической помощи самим фактом переворота, невосполним.
5. Словесные призывы и заверения о намерении сохранить единое экономическое пространство сочетаются на практике с действиями, подорвавшими перспективы его возрождения на новой основе.
Единственное, в чем можно согласиться с идеологами переворота, – их слова: «Когда страна находится в хаосе, нельзя играть в политические игры, потому что, в конечном счете, эти игры оборачиваются против нашего многострадального народа».
Экономическая программа хунты – путь к краху, голоду, развалу отечественной экономики.
* * *
Институт экономической политики АНХ и АН СССР присоединяется к всеобщей политической забастовке и отказывается от сотрудничества с любыми неконституционными органами.
Мы готовы оказать любую посильную помощь законным органам власти России в поиске путей стабилизации экономического положения.
Директор Института экономической политики Е. Гайдар
Заместитель директора В. Машиц
Заместитель директора А. Нечаев
Заместитель директора Н. Головнин
20 августа 1991 года
Мы по факсу направили эту бумагу Ельцину и в прессу за четырьмя подписями руководителей института: Гайдара, Машица, моей и заместителя директора по хозяйственной части Коли Головнина (потом он стал заведующим секретариатом у Гайдара в правительстве). Причем Николай, которому подписывать такую бумагу было не по рангу, очень просил разрешить ему тоже поставить свою подпись. А ведь подписывая эту бумагу и давая ей публичный ход, мы в случае победы ГКЧП своей рукой включали себя в расстрельные списки. Более того, после выхода указа Ельцина по поводу событий мы подготовили еще и специальный приказ по институту за подписью Гайдара, который дополнительно направили в Отделение экономики АН СССР. Его я тоже приведу полностью:
«В связи с произошедшим 19 августа с. г. военным переворотом и во исполнение Указа Президента РСФСР Б. Н. Ельцина
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Объявить, что Институт экономической политики присоединяется к политической забастовке против путчистов с 20 августа 1991 года.
2. Запрещаю оказание любой консультативно-аналитической помощи органам, сотрудничающим с военной хунтой.
3. Считаю первоочередной задачей сотрудников института оказание всемерной помощи законным органам власти».
Страха не было вовсе. Поздно вечером 19 августа я с женой поехал к Белому дому, где и провел первую ночь ГКЧП. От той ночи у меня остались противоречивые впечатления. Врезалось в память, что среди «защитников» было много любопытствующих и даже просто пьяных. Хотя в целом народ был настроен решительно, строил баррикады. Уже на следующую ночь ситуация кардинально изменилась. Случайных людей не стало. Пришедшие к Белому дому тысячи россиян понимали, на что они идут и чем рискуют.