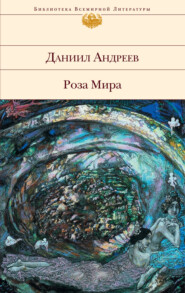
Полная версия:
Роза Мира
Но все это – указания о внешнем. Можно все лето до изнеможения слоняться по лесам и полям, а вернуться ни с чем. Внешние условия должны быть дополнены некоторыми усилиями ума и чувства. В чем они заключаются?
В том, что человек постепенно приучается воспринимать шум лесного океана, качание трав, течение облаков и рек, все голоса и движения видимого мира как живое, глубоко осмысленное и к нему дружественное. Будет усиливаться, постепенно охватывая все ночи и дни. чувство, неизменно царящее над сменой других мыслей и чувств: как будто, откидываясь навзничь, опускаешь голову все ниже и ниже в мерцающую тихим светом, укачивающую глубь – извечную, любящую, родимую. Ощущение ясной отрады, мудрого покоя будет поглощать малейший всплеск суеты; хорошо в такие дни лежать, не считая времени, на речном берегу и бесцельно следить прохладную воду, сверкающую на солнце. Или, лежа где-нибудь среди старого бора, слушать органный шум вершин да постукивание дятла. Надо доверять тому, что стихиали Лиурны уже радуются тебе и заговорят с твоим телом, как только оно опустится в текучую плоть их; что стихиали Фальторы или Арашамфа уже поют тебе песни шелестящей листвой, жужжанием пчел и теплыми воздушными дуновениями. Когда по заливным лугам, пахнущим свежескошенным сеном, будешь возвращаться на закате домой с далекой прогулки, поднимаясь в нагретый воздух пригорков и опускаясь в прохладные низины, а тихий туман начнет заливать все, кроме верхушек стогов, – хорошо снять рубашку и пусть ласкают горячее тело этим туманом те, кто творит его над засыпающими лугами.
Можно было бы указать еще сотни таких минут – от загорания на песке до собирания ягод – полудействия, полусозерцания, – но о них догадается и без указаний тот, кто вступит на этот легкий и светлый путь. Ведь такой уклад возможен не только в Средней России, но и в природном ландшафте любой другой страны, от Норвегии до Эфиопии, от Португалии до Филиппин и Аргентины. Соответственно будут меняться только детали, но ведь они могут меняться и в пределах одного ландшафта сообразно личным наклонностям. Главное – создать внутри себя этот свет и легкость и повторять подобные периоды, по возможности, каждый год.
– Что за нелепость, – подумают иные. – Как будто мы не располагаем исчерпывающими данными, отчего и как возникают туманы, ветер, роса, не знаем механики образования дождя, рек, растительности? И такие сказки преподносятся с серьезным видом в середине XX столетия! Недаром автор намекает на то, что ему легче столковаться с детьми: зрелому человеку не пристало слушать такие басни.
Они заблуждаются, эти абсолютисты научного метода познания: ни малейшего противоречия науке здесь не имеется. Подчеркиваю: науке, объективной и серьезной, а не философской доктрине материализма. Ведь если бы существовало какое-нибудь разумное микроскопическое существо, изучающее мой организм и само в него входящее, оно имело бы основание сказать, в ту минуту, как я шевельнул рукой, что эта глыба вещества, состоящая из таких-то и таких-то молекул, дернулась оттого, что сократились некоторые ее части – мускулы. Сократились же они потому, что в моторных центрах произошла такая-то и такая-то реакция, а реакция была вызвана такими-то и такими-то причинами химического порядка. Вот и все! Ясно как день. И уж, конечно, такой толкователь возмутился бы, если бы ему вздумали указать, что «глыба» шевельнулась потому, что таково было желание ее обладателя, свободное, осознанное желание, а мускулы, нервы, химические процессы и прочее – только передаточный механизм его воли.
Изучением этого механизма занимается физиология. Это не мешает существованию психологии – науки о том сознании, которое этим механизмом пользуется.
Изучением стихий природы как механизмов занимаются метеорология, аэродинамика, гидрология и ряд других наук. Это не должно и не будет мешать со временем возникновению учения о стихиалях, о тех сознаниях, которые пользуются этими механизмами.
Лично у меня все началось в знойный летний день 1929 года вблизи городка Триполье на Украине. Счастливо усталый от многоверстной прогулки по открытым полям и по кручам с ветряными мельницами, откуда распахивался широчайший вид на ярко-голубые рукава Днепра и на песчаные острова между ними, я поднялся на гребень очередного холма и внезапно был буквально ослеплен: передо мной, не шевелясь под низвергающимся водопадом солнечного света, простиралось необозримое море подсолнечников. В ту же секунду я ощутил, что над этим великолепием как бы трепещет невидимое море какого-то ликующего, живого счастия. Я ступил на самую кромку поля и, с колотящимся сердцем, прижал два шершавых подсолнечника к обеим щекам. Я смотрел перед собой, на эти тысячи земных солнц, почти задыхаясь от любви к ним и к тем, чье ликование я чувствовал над этим полем. Я чувствовал странное: я чувствовал, что эти невидимые существа с радостью и с гордостью вводят меня, как дорогого гостя, как бы на свой удивительный праздник, похожий и на мистерию, и на пир. Я осторожно ступил шага два в гущу растений и, закрыв глаза, слушал их прикосновения, их еле слышно позванивающий шорох и пылающий повсюду божественный зной. С этого началось. Правда, я вспоминаю переживания этого рода, относящиеся к более ранним годам, отроческим и юношеским, но тогда они не были еще такими захватывающими. Но и раньше, и позже – не каждый год, но иногда по нескольку раз за одно лето – случались среди природы, обязательно наедине, минуты странной, опьяняющей радости. Они являлись, по большей части, тогда, когда за плечами оставались уже сотни верст, пройденных пешком, и когда я неожиданно попадал в незнакомые мне места, отмеченные пышностью и буйством свободно развивающейся растительности. Весь, с головы до ног, охваченный восторгом и трепетом, я продирался, не помня ни о чем, сквозь дикие заросли, сквозь нагретые солнцем болота, сквозь хлещущие кусты и наконец бросался в траву, чтобы осязать ее всем телом. Главное было в том, что я в эти минуты явственно осязал, как любят меня и льются сквозь меня невидимые существа, чье бытие таинственно связано с этой растительностью, водой, почвой.
В последующие годы я проводил лето, по большей части, в области Брянских лесов, и там произошло со мною многое, воспоминание о чем составляет отраду моей жизни, но особенно люблю я вспоминать свои встречи со стихиалями Лиурны – теми, кого я тогда называл мысленно душами рек.
Однажды я предпринял одинокую экскурсию, в течение недели странствуя по Брянским лесам. Стояла засуха. Волокнами синеватой мглы тянулась гарь лесных пожаров, а иногда над массивами соснового бора поднимались беловатые, медленно менявшиеся дымные клубы. В продолжение многих часов довелось мне брести по горячей песчаной дороге, не встречая ни источника, ни ручья. Зной, душный как в оранжерее, вызывал томительную жажду. Со мной была подробная карта этого района, и я знал, что вскоре мне должна попасться маленькая речушка, – такая маленькая, что даже на этой карте над нею не обозначалось никакого имени. И в самом деле: характер леса начал меняться, сосны уступили место кленам и ольхе. Вдруг раскаленная, обжигавшая ноги дорога заскользила вниз, впереди зазеленела поемная луговина, и, обогнув купу деревьев, я увидел в десятке метров перед собой излучину долгожданной речки: дорога пересекала ее вброд. Что за жемчужина мироздания, что за прелестное Божье дитя смеялось мне навстречу! Шириной в несколько шагов, вся перекрытая низко нависавшими ветвями старых ракит и ольшаника, она струилась точно по зеленым пещерам, играя мириадами солнечных бликов и еле слышно журча.
Швырнув на траву тяжелый рюкзак и сбрасывая на ходу немудрящую одежду, я вошел в воду по грудь. И когда горячее тело погрузилось в эту прохладную влагу, а зыбь теней и солнечного света задрожала на моих плечах и лице, я почувствовал, что какое-то невидимое существо, не знаю из чего сотканное, охватывает мою душу с такой безгрешной радостью, с такой смеющейся веселостью, как будто она давно меня любила и давно ждала. Она была вся как бы тончайшей душой этой реки, – вся струящаяся, вся трепещущая, вся ласкающая, вся состоящая из прохлады и света, беззаботного смеха и нежности, из радости и любви. И когда, после долгого пребывания моего тела в ее теле, а моей души – в ее душе, я лег, закрыв глаза, на берегу под тенью развесистых деревьев, я чувствовал, что сердце мое так освежено, так омыто, так чисто, так блаженно, как могло бы оно быть когда-то в первые дни творения, на заре времен. И я понял, что происшедшее со мной было на этот раз не обыкновенным купанием, а настоящим омовением в самом высшем смысле этого слова.
Быть может, кто-нибудь сказал бы, что и он живал в лесах и купался в реках, и он хаживал по лесам и полям, и он, стоя на тетеревином току, испытывал состояние единения с природой, и, однако же, ничего, схожего со стихиалями, не ощутил. Если так скажет охотник, удивляться будет нечему: в этом разрушителе природы стихиали видят врага и осквернителя, и нет более верного способа сделать невозможной их близость, как захватить с собой в лес охотничье ружье. Если же это скажет не охотник – пусть он со вниманием припомнит недели своей жизни среди природы и сам обнаружит свои нарушения тех условий, о которых я с самого начала предупреждал.
Нельзя, конечно, заранее определить длительность этапов этого познания: сроки зависят от многих обстоятельств, объективных и личных. Но рано или поздно наступит первый день: внезапно ощутишь всю Природу так, как если бы это был первый день творения и земля блаженствовала в райской красоте. Это может случиться ночью у костра или днем среди ржаного поля, вечером на теплых ступеньках крылечка или утром на росистом лугу, но содержание этого часа будет везде одно и то же: головокружительная радость первого космического прозрения. Нет, это еще не означает, что внутреннее зрение раскрылось: ничего, кроме привычного ландшафта, еще не увидишь, но его многослойность и насыщенность духом переживешь всем существом. Тому, кто прошел сквозь это первое прозрение, стихиали станут еще доступнее; он будет все чаще слышать какими-то, не имеющими названия в языке, способностями души повседневную близость этих дивных существ. Но суть «первого прозрения» уже в другом, высшем. Оно относится не к трансфизическому познанию только, но и к тому, для которого мне не удалось найти иного названия, кроме старинного слова «вселенский». В специальной литературе этот род состояний освещался многими авторами. Уильям Джемс называет его прорывом космического сознания. По-видимому, оно может обладать весьма различной окраской у различных людей, но переживание космической гармонии остается его сутью. Методика, которую я описал в этой главе, способна, в известной мере, приблизить эту минуту, но не следует надеяться, что такие радости станут частыми гостями дома нашей души. С другой стороны, состояние это может охватить душу и безо всякой сознательной подготовки: такой случай описывает, например, в своих «Воспоминаниях» Рабиндранат Тагор.
Легко может статься, что человек, не раз испытавший среди Природы чувство всеобщей гармонии, подумает, что это и есть то, о чем я говорю. О, нет. Прорыв космического сознания – событие колоссального субъективного значения, каких в жизни одного человека может быть весьма ограниченное число. Оно приходит внезапно. Это – не настроение, не наслаждение, не счастье, это даже не потрясающая радость, – это нечто большее. Потрясающее действие будет оказывать не оно само, а скорее воспоминание о нем; само же оно исполнено такого блаженства, что правильнее говорить в связи с ним не о потрясении, а о просветлении.
Состояние это заключается в том, что Вселенная – не Земля только, а именно Вселенная – открывается как бы в своем высшем плане, в той божественной духовности, которая ее пронизывает и объемлет, снимая все мучительные вопросы о страдании, борьбе и зле.
В моей жизни это совершилось в ночь полнолуния на 29 июля 1931 года в тех же Брянских лесах, на берегу небольшой реки Неруссы. Обычно среди природы я стараюсь быть один, но на этот раз случилось так, что я принял участие в небольшой общей экскурсии. Нас было несколько человек – подростки и молодежь, в том числе один начинающий художник. У каждого за плечами имелась котомка с продуктами, а у художника еще и дорожный альбом для зарисовок. Ни на ком не было надето ничего, кроме рубахи и штанов, а некоторые скинули и рубашку. Гуськом, как ходят негры по звериным тропам Африки, беззвучно и быстро шли мы – не охотники, не разведчики, не изыскатели полезных ископаемых, просто – друзья, которым захотелось поночевать у костра на знаменитых плесах Неруссы.
Необозримый, как море, сосновый бор сменился чернолесьем, как всегда бывает в Брянских лесах вдоль пойм речек. Высились вековые дубы, клены, ясени, удивлявшие своей стройностью и вышиной осины, похожие на пальмы, с кронами на головокружительной высоте; у самой воды серебрились округлые шатры добродушных ракит, нависавших над заводями. Лес подступал к реке точно с любовной осторожностью: отдельными купами, перелесками, лужайками. Ни деревень, ни лесничеств… Пустынность нарушалась только нашей едва заметной тропкой, оставленной косарями, да закругленными конусами стогов, высившихся кое-где среди полян в ожидании зимы, когда их перевезут в Чухраи или в Непорень по санной дороге.
Плёсов мы достигли в предвечерние часы жаркого, безоблачного дня. Долго купались, потом собрали хворост и, разведя костер в двух метрах от тихо струившейся реки, под сенью трех старых ракит, сготовили немудрящий ужин. Темнело. Из-за дубов выплыла низкая июльская луна, совершенно полная. Мало-помалу умолкли разговоры и рассказы, товарищи один за другим уснули вокруг потрескивавшего костра, а я остался бодрствовать у огня, тихонько помахивая для защиты от комаров широкой веткой.
И когда луна вступила в круг моего зрения, бесшумно передвигаясь за узорно-узкой листвой развесистых ветвей ракиты, начались те часы, которые остаются едва ли не прекраснейшими в моей жизни. Тихо дыша, откинувшись навзничь на охапку сена, я слышал, как Нерусса струится не позади, в нескольких шагах за мною, но как бы сквозь мою собственную душу. Это было первым необычайным. Торжественно и бесшумно в поток, струившийся сквозь меня, влилось все, что было на земле, и все, что могло быть на небе. В блаженстве, едва переносимом для человеческого сердца, я чувствовал так, будто стройные сферы, медлительно вращаясь, плыли во всемирном хороводе, но сквозь меня; и все, что я мог помыслить или вообразить, охватывалось ликующим единством. Эти древние леса и прозрачные реки, люди, спящие у костров, и другие люди – народы близких и дальних стран, утренние города и шумные улицы, храмы со священными изображениями, моря, неустанно покачивающиеся, и степи с колышущейся травой – действительно все было во мне тою ночью, и я был во всем. Я лежал с закрытыми глазами. И прекрасные, совсем не такие, какие мы видим всегда, белые звезды, большие и цветущие, тоже плыли со всей мировой рекой, как белые водяные лилии. Хотя солнца не виделось, было так, словно и оно тоже текло где-то вблизи от моего кругозора. Но не его сиянием, а светом иным, никогда мною не виданным, пронизано было все это, – все, плывшее сквозь меня и в то же время баюкавшее меня, как дитя в колыбели, со всеутоляющей любовью.
Пытаясь выразить словами переживания, подобные этому, видишь отчетливее, чем когда бы то ни было, нищету языка. Сколько раз пытался я средствами поэзии и художественной прозы передать другим то, что совершилось со мною в ту ночь. И знаю, что любая моя попытка, в том числе и вот эта, никогда не даст понять другому человеку ни истинного значения этого события моей жизни, ни масштабов его, ни глубины.
Позднее я старался всеми силами вызвать это переживание опять. Я создавал все те внешние условия, при которых оно совершилось в 1931 году. Много раз в последующие годы я ночевал на том же точно месте, в такие же ночи. Все было напрасно. Оно пришло ко мне опять столь же внезапно лишь двадцать лет спустя, и не в лунную ночь на лесной реке, а в тюремной камере.
О, это еще только начало. Это еще не то просветление, после которого человек становится как бы другим, новым – просветленным в том высшем смысле, какой влагается в это слово великими народами Востока. То просветление – священнейшее и таинственнейшее: это раскрытие духовных очей.
Большего счастья, чем полное раскрытие внутреннего зрения, слуха и глубинной памяти, на Земле нет. Счастье глухого и слепорожденного, внезапно, в зрелые годы пережившего раскрытие телесного зрения и слуха, – лишь тусклая тень.
Об этом я могу только повторять, если можно так выразиться, понаслышке. Есть замечательная страница в поэме Эдвина Арнольда «Свет Азии», где описывается такое состояние, сделавшее одного искателя тем, кто ныне известен всему человечеству как Гаутама Будда.
Вот это описание.
Речь идет о вступлении Будды в состояние «абхиджны» – широкое прозрение «в сферы, не имеющие названий, в бесчисленные системы миров и солнц, двигающихся с поразительной правильностью, мириады за мириадами… где каждое светило является самостоятельным целым и в то же время частью целого – одним из серебристых островов на сапфировом море, вздымающемся в бесконечном стремлении к переменам. Он видел Владык Света, которые держат миры невидимыми узами, а сами покорно движутся вокруг более могущественных светил, переходя от звезды к звезде и бросая непрестанное сияние жизни из вечно меняющихся центров до самых последних пределов пространства. Все это он видел в ясных образах, все циклы и эпициклы, весь ряд кальп и махакальп[7] – до предела времен, которого ни один человек не может охватить разумом. Сакуалу за сакуалой[8]проницал он в глубину и высоту и прозревал за пределами всех сфер, всех форм, всех светил, всякого источника движений. То незыблемое и безмолвно действующее Великое, согласно Которому тьма должна развиваться в свет, смерть – в жизнь, пустота – в полноту, бесформенность – в форму, добро – в нечто лучшее, лучшее – в совершеннейшее; это невысказываемое Великое сильнее самих богов: Оно неизменно, невыразимо, первоверховно. Это – Власть созидающая, разрушающая и воссоздающая, направляющая все и вся к добру, красоте и истине».
Что скажешь на это? Надеяться даже в самом потаенном уголке души на то, что и тебя осенит когда-нибудь подобный час, было бы не гордыней, а простым ребячеством. И тем не менее, утешение в том, что каждая монада человеческая, без малейших исключений, рано или поздно, пусть даже после почти бесконечных времен, может быть, уже совсем в другой, не человеческой форме, в другом мире, достигнет этого состояния, и превзойдет его, и оставит его за собой.
А наше дело – делиться с другими тем лучшим, что мы имеем. Мое лучшее – то, что я пережил на путях трансфизического и метаисторического познания. Затем и пишется эта книга. В двух последних главах я показывал, как сумел, важнейшие вехи своего внутреннего пути. Все дальнейшее будет изложением того, что на этом пути было понято о Боге, об иных мирах и о человечестве. Постараюсь больше не возвращаться к вопросу о том, как это было понято; настало время говорить о том, что понято.
Глава 3
Исходная концепция
1. Многослойность
Наш физический слой – понятие, равнозначное понятию астрономической Вселенной, – характеризуется, как известно, тем, что его Пространство обладает тремя координатами, а Время, в котором он существует, – одной. Этот физический слой в терминологии Розы Мира носит наименование Энроф.
На арене современной науки и на арене современной философии все еще длится спор о бесконечности или конечности Энрофа в пространстве, о его вечности или ограниченности во времени, а также о том, охватывается ли Энрофом все мироздание, исчерпываются ли его формами все формы бытия.
Открытие понятия антивещества; возникновение из физической пустоты и даже искусственное извлечение из нее физически материальных частиц, дотоле пребывавших в мире отрицательной энергии; экспериментальное подтверждение теории, указывающей, что физическая пустота Энрофа заполнена океаном частиц другой материальности, – все эти факты суть вехи пути, по которому медлительная наука следует от представлений классического материализма к таким, которые весьма отличны и от них, и от позиций старой идеалистической философии. Очень вероятно, что путаница, которую вносят в эту проблематику сторонники материалистической философии, утверждая, будто бы все ее противники лишь повторяют зады идеализма, – один из приемов в той последней битве, которую дает материалистическое сознание прежде чем съехать, как говорится, на тормозах, сдавая одну свою позицию за другой и уверяя в то же время, будто бы именно это предвиделось и давно утверждалось классиками материализма. В частности, очень любопытно будет наблюдать, к каким ухищрениям прибегнет эта философия в недалеком будущем, когда ей придется, под давлением фактов, вводить в круг своих понятий понятие антиматерии.
Первичность материи по отношению к сознанию, принципиальная познаваемость всей Вселенной и в то же время ее бесконечность и вечность – эти наивные тезисы материализма, выработанные на минувших стадиях науки, могут еще удерживаться в обращении лишь путем напряженных натяжек, а главное – благодаря вмешательству сил, имеющих отношение не столько к философии, сколько к полицейской системе. Однако многие тезисы классических религий не выдерживают экзамена современной науки в такой же мере. Новое же познание, метаисторическое и трансфизическое, не покрывая области научных знаний, по существу не противоречит науке ни в чем, а в некоторых вопросах предвосхищает ее выводы.
Понятие многослойности Вселенной лежит в основе концепции Розы Мира. Под каждым слоем понимается при этом такой материальный мир, материальность которого отлична от других либо числом пространственных, либо числом временных координат. Рядом с нами сосуществуют, например, смежные слои, Пространство которых измеряется по тем же трем координатам, но Время которых имеет не одно, как у нас, а несколько измерений. Это значит, что в таких слоях Время течет несколькими параллельными потоками различных темпов. Событие в таком слое происходит синхронически во всех его временных измерениях, но центр события находится в этом или в двух из них. Ощутительно представить себе это, конечно, нелегко. Обитатели такого слоя, хотя действуют преимущественно в одном или двух временных измерениях, но существуют во всех них и сознают их все. Эта синхроничность бытия дает особое ощущение полноты жизни, неизвестное у нас. Немного опережая ход изложения, добавлю сейчас, что большое число временных координат в сочетании с минимальным (одна, две) числом пространственных становится для обитателей таких слоев, напротив, источником страдания. Это схоже с сознанием ограниченности своих средств, со жгучим чувством бессильной злобы, с воспоминанием о заманчивых возможностях, которыми субъект не в состоянии воспользоваться. Подобное состояние в Энрофе некоторые из нас назвали бы «кусанием локтей» или мукою Тантала.
За редкими исключениями, вроде Энрофа, число временных измерений превышает, и намного, число пространственных. Слоев, имеющих свыше шести пространственных измерений, в Шаданакаре, кажется, нет. Число же временных достигает в высших из этих слоев брамфатуры огромной цифры – двести тридцать шесть.
Неправильно было бы думать, перенося специфические особенности Энрофа на другие слои, будто все преграды, отделяющие слой от слоя, непременно так же малопроницаемы, как преграды, отделяющие Энроф от слоев других измерений. Встречаются, правда, преграды, ограничивающие один слой, и еще менее проницаемые, еще плотнее изолирующие его от остальных. Но таких мало. Гораздо больше таких групп слоев, внутри которых переход из слоя в слой требует от существа не смерти или труднейшей материальной трансформы, как у нас, но лишь особых внутренних состояний. Есть и такие, откуда переход в соседние обусловлен не большим количеством усилий, чем, скажем, переход из одного государства земного Энрофа в другое. Несколько таких слоев складываются в систему. Каждую такую систему слоев или ряд миров я привык мысленно называть индийским термином сакуала. Впрочем, наряду с сакуалами встречаются и слои-одиночки, подобно Энрофу.
Слои и целые сакуалы разнствуют между собой также и характером протяженности своего пространства. Отнюдь не все они обладают протяженностью космической, какой обладает Энроф. Как ни трудно это вообразить, но пространство многих из них гаснет на границах солнечной системы. Другие еще локальнее: они как бы заключены в пределах нашей планеты. Немало даже таких, которые связаны не с планетой в целом, а лишь с каким-нибудь из ее физических пластов или участков. Ничего, схожего с небом, в таких слоях, понятное дело, нет.
Будучи связаны между собой общими метаисторическими процессами, обладая – в большинстве – как бы парой враждующих духовных полюсов, все слои каждого небесного тела составляют огромную, тесно взаимодействующую систему. Я уже говорил, что такие системы называются брам-фатурами. Общее число слоев в некоторых из них ограничивается единицами, а других – насчитывает несколько сот. Кроме Шаданакара, общее число слоев которого ныне двести сорок два, в солнечной системе существуют теперь брамфатуры Солнца, Юпитера, Сатурна, Урана, Нептуна, Луны, а также некоторых спутников больших планет. Брамфатура Венеры находится в зародыше. Остальные планеты и спутники столь же мертвы в других слоях своих, как и в Энрофе. Это – руины погибших брамфатур, покинутых всеми монадами, либо не являвшиеся брамфатурами никогда.

