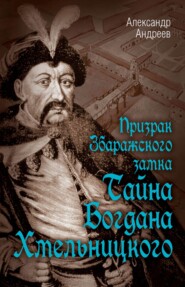скачать книгу бесплатно
Взяв в руки девятый, совсем желтый от времени лист, Максим едва поверил своим глазам. Олекса, правда, весьма глухо и иносказательно, писал об архиве и казне гетмана, упоминая о клейнодах гетмана Украины. Четверть тысячелетия назад предка волновали те же вопросы, что и его далекого потомка, и это было потрясающе! Олекса, как и Максим, был убежден, что архив Богдана Великого не погиб при взрыве Чигирина во время тяжелейшей турецкой осады 1678 года и в свирепом пожаре Киево-Печерской Лавры 1706 года, где хранились документы всего войска Запорожского, как в XVII столетии называлась созданная Хмельницким великолепная украинская казацкая армия.
Олекса писал, что при разборе библиотеки и бумаг владельцев Самчиков, магнатов Хоецких и Чечелей, он обнаружил попавшее туда неведомыми путями письмо знаменитого командира Тайной стражи Максима Гевлича своему гетману из Лондона, куда он был послан по чрезвычайно важному делу. На письме, датированном 12 сентября 1656 года, 27 сентября была сделана надпись, в которой Олекса уверенно узнал руку Богдана Великого. Гетман приказывал своим четырнадцати витязям срочно вернуться из Англии на Украину и прибыть в Збаражский замок для выполнения важнейшего государственного задания, подготовив в нем к его приезду «то, о чем было говорено на той раде в Субботове».
Олекса не приводил в своих записках содержание этого письма, которое, конечно, скопировал с разрешения Яна Чечеля, имея, очевидно, для этого веские основания. Он только написал, что гетман в середине октября 1656 года выехал из Меджибожа в Збараж «с полным береженьем, обозом на восемнадцати подводах и всем Чигиринским полком».
Что должны были приготовить к его приезду в Збаражском замке командир Тайной стражи с лучшими воинами? Конечно, тайник для архива и личной казны великого Богдана! Очевидно, Олекса думал так же, как и Максим, и на последнем, двенадцатом незаконченном листе рукописи писал, что после окончания работы в Самчиках поедет в Меджибож, а затем в Збараж, надеясь выяснить, чем закончилась встреча гетмана с его геройскими характерниками, как называли в XVII столетии казаков с необычайными боевыми способностями, самой простой из которых было поймать летевшую в воина стрелу рукой.
Максиму было ясно, что его предок Олекса пытался найти архив, регалии и казну Богдана Великого! Ох, эти Дружченко, упертые до нестямы! Московский историк дочитал бумаги предка до конца, несколько минут сидел недвижимо, а затем вернулся к началу и прочитал их еще раз, медленно и внимательно. Чувствовалось, что в некоторых местах Олекса буквально молча кричит, стараясь донести что-то очень важное для своего будущего неведомого читателя. Что еще было в письме характерника Максима Гевлича и резолюции на нем Богдана Великого? Максим еще долго не завязывал тесемки на архивном деле № 314, словно ожидая от него какой-то важной подсказки.
Короткий февральский день закончился, и за большими дворцовыми окнами было совсем темно. Максим с трудом выпустил из рук заветную папку и сдал дело Светлане Григорьевне, попросив ее, если можно, показать ему второй подземный ход из хозяйственного ледника к Случи. До конца рабочего дня было еще полчаса, они вышли из дворца и прошли пятьдесят метров до хозяйственной постройки начала XVIII столетия, сохранившейся в целости и сохранности. Снег, который в эту зиму завалил все украинские земли по крыши домов, уже сошел, но к вечеру поднялся северный ветер, пронизывающий насквозь, и за две минуты на воздухе историк и хранительница успели продрогнуть.
Светлана привычно открыла огромный замок на очень низкой старинной двери, от которой вели вниз двадцать две крутые ступеньки, включила свет, и Максим вслед за ней спустился в огромный ледяной зал, в котором когда-то хранились всевозможные шляхетные припасы. По выбеленному полу они прошли к небольшой двери у дальней стены, на которой висела табличка со строгой надписью «Посторонним вход запрещен, опасно для жизни». Первый, реставрированный, подземный ход, по которому летом водили экскурсантов, начинался из дворцового подвала под Голубым залом и вел от здания к лесу. Максим дважды прошел по этой стометровой галерее и теперь жаждал своими глазами увидеть второй, более древний подземный коридор к Случи.
Светлана отперла дверь, за которой была закрытая на английский замок тяжелая даже на вид кованая решетка. Хранительница включила свет в зале, зажгла принесенный с собой фонарь, и мощный луч света пронзил черноту хода, из которого резко тянуло промозглой ледяной сыростью. Стали видны мрачные, давящие на воображение стены с полукруглым заросшим мхом потолком и покрытым небольшими лужами полом, на который сверху в нескольких местах изредка капала вода. Было ясно, что до настоящего весеннего тепла дорога во второй ход закрыта, и историк с сожалением посмотрел на дверь, которую тут же заперла хранительница. Они быстро поднялись по ступеням из ледника, в котором Максиму в скором времени предстояло оказаться еще раз, спасаясь от погони. Максим вежливо попрощался с гостеприимной хозяйкой Самчиков, которая вернулась во дворец, а историк забрал из комендантской свою дорожную сумку и двинулся к выходу из чудесного имения.
Гостиницы в местечке не было, но местные жители за небольшую плату охотно пускали ночевать приезжавших в поместье путешественников. Максим быстро добрался до рекомендованного ему в музее современного двухэтажного коттеджа, рассчитывая первым утренним проходящим автобусом через Староконстантинов проехать шестьдесят километров до Хмельницкого, где пересесть на маршрутку до Меджибожа. Ему повезло: хозяин коттеджа, где собирался ночевать историк, с рассветом по делам ехал через старую крепость в Летичев, и ранним февральским утром Максим в его «Ниве» уже двигался на юг, вспоминая по дороге все, что он знал об иезуитах, Лойоле, Львовском коллегиуме, где пять лет провел Хмельницкий, Могилянской академии, ее выпускнике Григории Сковороде, с которым учился его предок, и Меджибоже. Он хотел узнать, как жил и что думал Олекса Дружченко, и готов был ехать во все усюды, чтобы найти статьи и клейноды Богдана Великого.
Старенькая, но на удивление ухоженная «Нива» еще не доехала по пустынной с утра дороге до Старой Синявы, как Максим вспомнил об иезуитах все, что знал, в том числе и об их пребывании на Западной Украине.
Знаменитый испанец и современник Богдана Хмельницкого дон Иниго Лопес де Рикардо Лойола вошел в историю не только как создатель общества Иисуса, ставшего известным всему миру как орден иезуитов. Лойола и его фаланга сподвижников в тяжелейшей многолетней психологической войне спасли Ватикан от яростных атак Реформации во главе с немецким монахом-профессором Мартином Лютером, после чего распространили католичество в Америке и Азии. Об этой потрясшей мир дуэли XVI века Максим подробно написал в своей «Истории ордена иезуитов» и биографии Игнатия Лойолы, который в свое время заинтересовал московского историка необычайно.
Испанскому гению удалось совместить несовместимое в тогдашнем мире: принцип всеобщего универсального авторитета и принцип личной свободы человека, чего до этого не удавалось сделать ни великим государям, ни папам. В борьбе Ватикана и Реформации были правы обе стороны, что доказала вызванная ею кровавая европейская война, сильно испугавшая всех противников. Гордый испанец Лойола сделал так, что тяжелейшее противостояние закончилось официальным миром и распределением сфер влияния между католицизмом и протестантизмом.
В свое время молодой выпускник Историко-архивного института Максим Дружченко подробно написал, как Лойоле и его ордену удалось совершить невозможное.
Иниго Лойола, который в сорокалетнем возрасте стал Игнатием, а потом святым, писал: «Будь спокоен и бесстрастен. Пусть земные блага никогда не будут для тебя целью твоих желаний. Пусть они будут лишь средством для достижения истинной цели твоей жизни».
У гениального Лойолы была совершенно необычайная сила воли, единственная в своем роде и редкая даже среди великих правителей. Идальго обладал абсолютной властью над своим «я», что давало ему исключительное духовное влияние на современников. Генерал ордена иезуитов мыслил образами, которые блистательно доносил до всех окружающих. Все, что интересовало его пытливый ум и открытое миру сердце, благодаря этому становилось интересным тысячам и тысячам людей.
Игнатий Лойола в совершенстве владел удивительным искусством завоевывать воображение людей, говоря своим многочисленным сторонникам и ученикам: «Закали характер, стань господином своего «я», а потом добейся поставленной цели. Стань всем для всех, чтобы приобрести всех». Лойола создал новую и очень удачную массовую систему школьного и университетского образования, с уроками, переменами, домашними заданиями, лекциями, семинарами и каникулами, которая сохранилась до нашего времени. В начале XVIII столетия, через сто пятьдесят лет после создания, орден иезуитов имел в Европе десять тысяч членов и пятьсот учебных коллегий. Тысяча иезуитов и тридцать коллегий действовали в польско-литовской Речи Посполитой, в состав которой с XV столетия были включены украинские и белорусские земли.
Общество Иисуса превратилось в универсальную, сплоченную и быструю силу, активно влиявшую на мировую политику. Орден иезуитов добивался всех поставленных целей, пользуясь для этого средствами, которые вызывали сильные эмоции на всех континентах. Финансовая мощь ордена была колоссальной, но он хранил о ней глубокое молчание, как молчал и обо всех мировых тайнах, которые ему были хорошо известны. Общество Иисуса удивительным образом знало все, что происходило в мире, и успешно использовало это знание.
Олекса Дружченко, несколько лет учившийся в Львовском коллегиуме, безусловно, многое знал об ордене иезуитов, дававшем своим студентам методики успешных достижений поставленных жизненных целей, помогавших добиваться успеха. Максим и сам пользовался многими достижениями ордена в своей работе историка. У иезуитов было чему учиться, и благодаря этим знаниям Максим никогда не повторялся, не ведая, что совсем скоро это спасет ему жизнь.
Общество Иисуса было мощнейшей духовной силой, претендовавшей на контроль над всем миром. С помощью коллегий, миссионеров, проповедников и исповедников орден мог формировать и руководить общественным мнением Европы, чем и занимался постоянно.
Орден был самой большой учебной системой в мире, принципиально дававшей своим ученикам только высшее образование. Коллегиумы Общества, как и средневековые университеты, обучали свободным наукам, классическим языкам, философии, праву и теологии.
Кроме образования, иезуиты активно занимались воспитанием юношества. Их пансионаты воспитывали дворян, интернаты – крестьян и мещан. В начале XVIII столетия в высших учебных заведениях ордена обучались более ста пятидесяти тысяч студентов, и это было огромным количеством образованных и культурных людей для неизбалованной всеобщей культурой средневековой Европы.
В коллегиях, пансионатах и интернатах орден иезуитов учил всех желающих бесплатно, и это было для последователей Лойолы принципиальным делом. В европейских странах существовало убеждение, что самыми опытными и знающими учителями были иезуиты, давшие грубоватому средневековому обществу преподавательский идеал. С помощью многочисленных публичных диспутов, в которых соревновались лучшие ученики, орден поднимал общую культуру и умственное развитие народа, обучал своих бесчисленных студентов хорошим манерам, этикету, умению держать себя в обществе.
В коллегиях ордена всех студентов отлично кормили, на занятиях не давали им переутомляться, для чего лекции шли не более пяти часов в день, в их гимнастических залах было удобно заниматься физическими упражнениями. Ректоры иезуитских коллегий имели право присваивать своим выпускникам докторские ученые степени и связанные с ними привилегии. К середине XVIII века Общество Иисуса оказывало колоссальное влияние на церковь, школу и общество.
Львовская коллегия, наряду с более поздними Харьковской и Переяславской, была одной из лучших на Украине, но Олекса Дружченко не смог доучиться в ней до конца. Население Львова к середине XVIII столетия едва превышало тридцать тысяч жителей, и только три тысячи из них были украинцами. В городе польское католическое и немецкое протестантское большинство вело себя спокойно по отношению к православному меньшинству, но в коллегии ситуация была совсем иной. Съехавшиеся во Львов со всей южной Польши заносчивые молодые шляхтичи открыто называли украинцев схизматами-сектантами и не забывали ежедневно делать им разные каверзы, говоря при этом, что некатолики являются неполноценными людьми, неспособными к высшим наукам. Учиться в этой атмосфере наглого отчуждения было тяжело, для занятия любой маломальской должности и получения чина было необходимо отказаться от православной веры, и украинские студенты делали это неохотно. Олекса Дружченко, очевидно, решил остаться гордым схизматом и при первой же возможности из прекрасного Львова и родной Волыни перебрался в великолепный Киев, где с самого начала XVII века действовала созданная знаменитыми подвижниками Иовом Борецким и Петром Могилой Киевская академия, находившаяся под покровительством городского братства и казацкого войска Запорожского. Возможно, Олекса сделал это потому, что точно также полтора века назад поступил его кумир Богдан Хмельницкий, которому, правда, быстро пришлось сменить перо на саблю.
Созданная лучшими украинскими умами Киево-Могилянская академия вобрала в себя все самое талантливое из самых знаменитых средневековых университетов, в которых студентов обучали на четырех факультетах: теологическом, медицинском, юридическим и свободных искусств, то есть философском.
Науки изучали по тривиуму, в который входили грамматика, логика и риторика, или по квадриуму, в составе арифметики, геометрии, философии и музыки. На факультете артес либералес готовили общих преподавателей и изучали латынь, на которой велось преподавание во многих университетах.
Киевские абитуриенты платили вступительный взнос, часто в рассрочку, давали присягу на верность академии и становились студентами, которых во всей Европе называли школярами, scolares.
Занятия шли в академических зданиях, в которых были квартиры профессоров. Школяры жили в бурсе на Подоле, рядом с Академией. Бурса с латыни почему-то переводилась как кошелек, хотя в этом вавилонском общежитии жили богатые, в комнатах с печками по фасаду, и бедные, в холодных помещениях со двора. Школяры в Бурсе платили за жилье и еду, с раннего утра учились, в одиннадцать часов завтракали, затем опять занимались, в шесть часов вечера обедали, ели каши с гороховой подливой, хлеб, капусту, репу, редко мясо.
Все школяры, которых иногда называли бурсаками, по очереди дежурили по бурсе с ее начальником, покупали дрова и продукты для общей кухни, при этом внимательно следили за справедливым распределением порций. По академическому уставу школяры были обязаны ходить в длинной рубашке, узких штанах, кафтане с рукавами, поверх которого надевали длинную темную тунику, в холода – плащ с капюшоном, на ноги надевали башмаки с удлиненными носами.
Очень богатые школяры снимали жилье на Подоле, очень бедные, которых было немало, чтобы свести концы с концами брались за любую работу, переписывали книги, прислуживали профессорам, давали уроки, разносили письма, работали в корчмах и шинках, вечерами пели под окнами богатых домов.
В академии и бурсе разрешалось говорить только на латыни, нарушителей штрафовали, а злостных пороли розгами. С самого раннего утра школяры спешили на Подол, где на столах со свечами записывали лекции профессоров, которые громко их читали только на латыни с расположенной на возвышенности кафедры. Школяры слушали обязательные и необязательные лекции, участвовали в диспутах, на репетиториях обсуждали и разбирали лекции профессоров.
По окончании основного курса Академии школяры получали звания бакалавров, а после окончания полного двенадцатилетнего обучения становились магистрами.
Для сдачи бакалаврского экзамена нужно было заплатить пошлину в академию и договориться с магистрами, которые рекомендовали своих младших собратьев к экзамену. Перед профессорами они отвечали на их вопросы, проводили успешный диспут, получали звание baccalaureus atrium liberatium, бакалавра свободных искусств, и устраивали в одном из подольских шинков общий банкет.
Киевские бакалавры продолжали в академии учиться на магистров, читали лекции младшим студентам, по субботам и воскресеньям вели диспуты. На пятый год бакалавры получали звания магистров и золотой перстень на средний палец, символизировавший честность и чистоту мыслей.
Титул magister artium давал право преподавать в других университетах и академиях, право носить тунику с красным орнаментом на рукавах и торжественную тогу. Из ста начинавших учебу в Киево-Могилянской академии школяров звание бакалавра получала половина, а магистром становился только каждый десятый. Максим знал, что Олекса Дружченко доучился до двенадцатого курса Академии, но получил он звание магистра или нет, установить не удалось – архивы выпускников 1761–1762 года, к сожалению, не сохранились.
Максим знал, что его предок один год учился в Европе. Многие киевские бакалавры и магистры уезжали учиться в Болонский университет. В старинную школу ехали учиться юноши со всего мира, знавшие, что еще в далеком 826 году в итальянском городе их предков учили праву и философии, которые в средневековье называли свободными искусствами.
Во всех трех болонских учебных заведениях, объединенных в академию, почти тысячу лет изучали юридические науки, и город, который называли «мать законов», оказывал сильнейшее влияние на развитие европейской общественно-социальной мысли. По образу Болонской академии основывались многие европейские университеты, в том числе и Киево-Могилянская академия. Болонские академики делились на четыре землячества: тосканцев, римлян, ломбардцев и ультрамонтанов, студентов из-за границ Италии. Они изучали естественные науки, натуральную философию, математику, геометрию, логику, риторику, поэзию, наследие Древних Греции и Рима, схоластику и даже магию.
Чтобы заплатить за учебу, студенты составляли для горожан гороскопы, пользовавшиеся огромным спросом. По окончании Болонской академии магистры получали степень доктора свободных наук, права, медицины или философии, их называли звучным титулом «мессир».
Подробностей об учебе Олексы Дружченко за границей Максиму выяснить не удалось, он только знал, что его предок был отлично знаком с философией царившего тогда в Европе марбургского профессора и мессира Вольфа, объединившего идеи Аристотеля и Лейбница в виде желания сделать людей счастливыми с помощью ясного магического познания, однако для счастья нужно совершенствовать людей, для чего они должны быть в согласии со своей природой.
Максим хотел узнать о своем предке все что возможно, чтобы думать как Олекса и пройти по его следам в Меджибоже и Збараже. Историк после прочтения его рукописи в Самчиках был почему-то абсолютно уверен, что школяр что-то нашел из наследия Богдана Великого. В своем небольшом, кажется, трактате Олекса писал, что разговаривал о гетмане даже с Григорием Сковородой, написавшем о нем удивительные стихи. Оба учились в Киево-Могилянской академии, на факультете философии, и Максим легко вспомнил биографию великого философа.
Украинский казак Григорий Саввич Сковорода родился в 1722 году в сотенном местечке Лубенского полка на Полтавщине. После окончания народного училища двенадцатилетний хлопец поступил в Киево-Могилянскую академию, из которой отправился прямо в блистательный Петербург. Имея прекрасный голос, Григорий два года пел в Придворной капелле, но отформатированная столичная жизнь гения не привлекала, и Сковорода вернулся в академию, полный курс которой закончил в 1750 году.
С дипломатической миссией генерала Вишневского тридцатилетний магистр уехал в Европу и три года пешком ходил по Чехии, Австрии, Венгрии, Италии, Польше и Германии, выучив немецкий, еврейский и греческий языки. Вернувшись на родину, Сковорода год читал курс поэзии в Переяславской семинарии, семь лет служил домашним учителем сына помещика Степана Томары в селе Коврай, с 1759 по 1770 год преподавал в Харьковской коллегии, писал стихи и трактаты. Григорий Сковорода отказался от высоких чинов и должностей для того, чтобы четверть века философствовать и путешествовать по Украине. Он учил простых людей нравственности и уму-разуму, в дороге написал свои знаменитые «Басни» и трактат «Алфавит, или Букварь мира». Гений украинского народа умер 29 октября 1794 года в селе Ивановка, так и не увидев при жизни ни одного своего труда напечатанным.
Удивительные лекции и беседы Сковороды, которого называли русским Сократом, вызывали восхищение у слушателей и завистливую ненависть у так называемых собратьев по науке. Его гений не давал им покоя, особенно когда они слышали потрясающие речи философа. «Весь мир спит нравственным сном, да еще как спит, глубоко, будто ушиблен. А наставники его не пробуждают, да еще и убаюкивают, говоря: спи, все хорошо, опасаться нечего».
Григорий Сковорода, учивший людей счастью, жил в период украинского политического безвременья, когда в старшине, уставшей от героических и кровавых битв своих дедов, исчез дух былой казацкой воинственности. Олекса Дружченко цитировал в своей рукописи слова своего старшего собрата-гения о том, что сотники и полковники когда-то потрясающего землю Войска Запорожского направляли все свои силы и энергию на увеличение богатств, и закончил двенадцатый лист записок афоризмами великого философа:
«Не тот глуп, кто мало знает, а тот, кто знать не хочет. Лучше сухарь с водой, чем сахар с бедой. Жизнь наполнена только тогда, когда наша мысль ради истины изучает ее тропинки».
То, что Олекса Дружченко не раз разговаривал на равных с гением, говорило о его высоком уме и образованности. Теперь Максим знал, что мог думать и как мог поступить его предок во время поисков бумажных следов Богдана Великого, и это было здорово!
Водитель «Нивы» что-то произнес, Максим поднял наполненную мыслями голову и успел справа увидеть пролетевший мимо знак населенного пункта.
Меджибож. Все. Приехали.
Максим поблагодарил вежливого водителя и вышел у моста через Южный Буг, который в этом месте сливался с рекой Бужок. Прямо перед ним возвышалась громада крепости, явно пережившей свои лучшие времена. До ее открытия для посетителей оставалось еще два часа, было уже светло и совсем не холодно, и Максим решил полюбоваться старым великаном, обойдя его стены вокруг, и вспомнить их былую мощь и славу.
О небольшом укреплении на высоком холме размером всего в четверть гектара, в окружении сливающихся друг с другом рек Буг и Бужок, исторические документы впервые упоминали в далеком XI веке. За крепость на богатом торговом пути долго боролись княжеские династии Мономашичей и Ольговичей, в конце отдав ее в состав Галицкого княжества.
После татаро-монгольского погрома Меджибож в 1362 году вместе с Подолией и Волынью оказался в великом княжестве Литовском. Потомки Ольгерда Гедиминовича построили между двумя Бугами первую каменную крепость, которая спасала местное население от ежегодных нападений крымских татар. Летописи упоминали о том, как в 1453, 1509, 1516 годах у Меджибожа, который попал в состав Речи Посполитой, были разгромлены большие крымские орды, приходившие грабить украинские земли.
После того как в 1540 году Меджибож стал собственностью польских шляхтичей Синявских богатые магнаты на пересечении Черного и Кучманского шляхов построили мощную крепость бастионного типа площадью около гектара, которая долгое время не имела аналогов в фортификационном искусстве. Через сто лет крепость стала еще мощнее, ее башни и стены были надстроены.
В самом начале Украинской революции XVII века Меджибож, охраняемый наемными немецкими рейтарами, был атакован казацкими отрядами Максима Кривоноса. Ему в тыл попытались зайти польские хоругви гетмана Ландскоронского, но казаки в яростном бою разбили поляков и немцев, после чего взяли неприступную крепость.
По Зборовскому миру 1649 года Меджибож остался польским, находясь на новой границе Речи Посполитой и Гетманщины Богдана Хмельницкого. В 1651 году огромное казацкое войско, шедшее освобождать Подолье и Волынь, вошло в Меджибож, в котором была устроена гетманская резиденция. Через четыре года войско Потоцкого долго стояло у Меджибожа, но на Гетманщину так и не вошло. В 1657 году армия союзного Хмельницкому трансильванского князя Ракоци с ходу ворвалась в Меджибож, тут же была окружена польскими хоругвями Чарнецкого, Любомирского, Сапери и Потоцкого, однако выдержала штурмы и осады, после чего вырвалась из крепости и ушла в Карпаты.
После раздела украинских земель на правобережные и левобережные Меджибож остался в Польше. В 1672 и 1676 годах огромное османское войско, взявшее неприступный Каменец-Подольский, вошло в Меджибож, в котором остался большой турецкий гарнизон. По Карловацкому миру 1699 года Меджибож с округой вернулись в состав Польши.
При разделах Речи Посполитой второй половины XVIII века Меджибож с Подольем и Волынью оказался в Российской империи и в 1830 году за участие в польском восстании был отобран в казну у тогдашних владельцев Чарторыйских. В крепости, реконструированной в готическом стиле, расположился военный гарнизон.
Меджибожская твердыня сильно пострадала в двух мировых войнах, но еще больше была разрушена в 1950-х годах местным населением, не пощадившим даже крыш, дверей и оконных рам. В 1960 году крепость наконец стала памятником архитектуры и в 2001 году получила статус Государственного историко-культурного заповедника, в котором были развернуты музейные экспозиции и начались реставрационные работы.
Максим не спеша обошел Меджибожскую крепость по асфальтовой дороге, которая символически отделяла ее от местечка с аккуратными одноэтажными домиками. Снег везде сошел, было совсем не холодно, и московский историк был очень доволен. Каменная твердыня на речном перекрестке, построенная в виде не раз побывавшего в сечах копья, производила потрясающее впечатление.
Тридцатиметровые стены с большими контрфорсами и удивительные двухъярусные башни XVI века были методично пронизаны рядами пушечных амбразур и бойниц для ружейного огня. Меджибож, сочетавший в своем облике все стили средневековой фортификации, яростно выбрасывал наружу огромную мощь, дававшую, как ни странно, ощущение абсолютного спокойствия.
Максим подошел к самому острию крепостного копья, почти воткнувшегося в Южный Буг, и задрал голову вверх, пытаясь разглядеть, как зубцы на самом верху стены упираются в низкое небо. Он всегда испытывал подъем жизненных сил в старинных крепостях и замках, от которых веял ветер подвигов и славы. Он уже приезжал в Меджибож, когда писал свою книгу об украинских замках и восстанавливал картину штурма крепости в 1648 году отрядами Максима Кривоноса, разрубавшего немецких рейтар надвое своей страшной саблей весом в полпуда. Московского историка всегда восхищало воинское мастерство казаков Богдана Хмельницкого, десять лет совершавших невозможное, и он радовался, что среди этих героев были его предки. Максим в мельчайших подробностях восстановил, как был взят Меджибож в 1648 и 1651 годах. Когда в его голове возникали образы боя, в котором в огне и черном дыму от залпов мушкетов и пушек голые по пояс казаки лезли на высоченные стены, падая гроздьями с огромной высоты в глубокий ров, и несмотря ни на что по подъемному мосту проламывались в кованые ворота, Максим потом долго не мог успокоиться. Да, были люди в хмельницкое время! Настоящие богатыри, оставившие немеркнущую славу в веках своим потомкам!
Крепостные куранты гулко и страшно ударили десять раз, и Максим, с трудом вернувшийся из семнадцатого в двадцать первый век, пошел к подземному мосту, заканчивавшемуся у почти кубической надвратной башни, от которой не хотелось отводить взгляд – так она была хороша в своей средневековой красоте. Историк с трудом отворил показавшуюся каменной дверь в высоких, обитых железом воротах, слева от которых на углу крепости возвышалась еще одна красавица башня, и вошел, наконец, в глубь Меджибожа.
Он сразу же свернул налево и поднялся по сотне ступеней на смотровую площадку трехъярусной угловой башни, с которой крепость и ее округа были видны как на ладони. Слева направо по всему периметру двора длиной сто тридцать и шириной восемьдесят метров от надвратной башни до острия копья вытянулись каменные казематы с музейными экспозициями. В дальнем углу у реки велись какие-то раскопки, судя по выкопанной темной земле, начатые совсем недавно. У раскопа лежала огромная поленница дров, а вдоль реки шла самая высокая и более всего пострадавшая от времени и людей стена. Справа от входа в большом каземате находился музей Голодомора, из которого в прошлом году Максим вышел совсем больным от увиденного, хотя в свое время исследовал эту тему подробно и знал, как все происходило на самом деле. В центре пустого двора высился каменный монолит римско-католического костела постройки невообразимо далекого XVI века, после польского восстания 1830 года переделанного в церковь. Вокруг крепости в виде подковы лежали Южный Буг и его Бужок, кажется, больший по размеру.
Максим не спеша, чтобы не сломать ноги, спустился вниз с тридцатиметровой высоты, купил экскурсионный билет в только что открывшейся кассе, оставил в камере хранения сумку и пошел прямо к раскопу углового бастиона. Рядом с глубокой ямой стояли несколько человек в теплых рабочих комбинезонах, Максим представился и попросил показать ему археологические тайны Меджибожа, надеясь осмотреть крепостные подвалы. Высокий человек с роскошной кудрявой головой, оказавшийся начальником партии из Киевского института археологии Национальной академии наук Украины, назвавшийся Николаем, коллеге из Москвы, конечно, не отказал.
Археолог подвел историка к основанию круглой угловой башни-бастиона, в которую надо было подниматься по огромным камням, давным-давно вывалившимся из кладки. Максим поднялся вслед за ловким Николаем, и оба вдруг исчезли в глубине стены, толщина которой превышала десять метров. Пройдя по дубовым деревянным настилам над впечатляющими развалинами фундаментов, они спустились в подземный Меджибож, который оказался больше, чем верхний, крепостной. В прошлый приезд Максим спускался в подвал под огромным этнографическим залом с великолепными вышитыми украинскими народными костюмами. Из него начинался хорошо сохранившийся и разрешенный для осмотра небольшой подземный ход к реке, прямой как стрела и реставрированный до невозможности. Киевский археолог повел московского историка в другие подвалы, где, казалось, несколько столетий не ступала нога человека. Подвалы, а точнее, подземные залы, переходящие один в другой под крепостными стенами, производили сильное впечатление. Казалось, сама история словно вбирала в себя человека, у которого не было никакого желания этому противиться.
Средневековые зодчие Меджибожа не экономили на строительном материале, делая свое творение на века, которые, однако, не забыли оставить на нем неизгладимые следы времени. Стены и потолки выглядели по-прежнему мощно, только на полу лежали груды щебня, через которые приходилось постоянно перелезать, упираясь головой в потолок. Николай показал Максиму хорошо сохранившуюся кладку XV века, скрепленную раствором из желтков куриных яиц, и они, с мощными фонарями наперевес, подобрались к дальней стене последнего подвала. Киевлянин подвел москвича к широкой арке, поднимавшейся от заваленного обломками камней пола не более чем на восемьдесят сантиметров, и сказал, что отсюда начинается еще один подземный ход, ведущий вдоль реки за въездные ворота к полуразрушенному старинному монастырю в двухстах метрах от крепости.
Киевляне, приехавшие в Меджибож неделю назад, нашли подземелья прошлым летом, но еще не исследовали их по-настоящему, собираясь сделать это, как только подсохнет земля. Когда они пробирались назад к выходу, археолог несколько смущенно сказал историку, что почти вся его партия, побывавшая, конечно, в подземельях не раз, вместе и поодиночке встречала ночью какие-то неясные, полупрозрачные фигуры, которых археологи однозначно классифицировали как привидения. Максим попросил Николая провести его в тот зал, где их видели чаще всего. Указав на две бойницы вверху у потолка, через которые пробивался дневной свет, он сказал, что тени появляются в светлые ночи с помощью оптического эффекта, особым образом преломляющего в камне, стекле и металле лунный свет, после чего воображение человека создает из теней и обликов все, чего ему хочется и мерещится.
Николай, выслушав Максима, возражать не стал, только задумчиво покачал головой. Московский историк даже не мог предположить, что уже с завтрашнего дня совсем не мифические, а реальные призраки с воем и грохотом ворвутся в его жизнь в виде дьявольской угрозы. В студенческие годы Максим написал показавшуюся интересной многим курсовую работу по истории магии и оккультизма, пытаясь выяснить, шарлатанство это или наука, но так и не выяснил до конца. Несколько лет назад он пытался познакомиться с призраком Черной Дамы из знаменитого белорусского Несвижского замка и не раз сталкивался в своих путешествиях с не расшифрованными наукой мистическими явлениями. Историк пытался объяснить необъяснимое логически, но иногда это не получалось совсем. Максим даже не предполагал, что украинской весной 2016 года он столкнется один на один с самой настоящей нечистой силой, и случится это не раз и не два на обоих берегах Днепра.
Обсудив научные новости с доброжелательным Николаем, собиравшимся углубиться в Меджибож на тысячу лет, Максим поблагодарил его и поднялся на большую открытую площадку углового бастиона, на которой летними вечерами XIX века проходили собрания офицеров гарнизона. Слева длинной и совсем не широкой лентой вился Буг, справа за мостом виднелся, как ни странно, более солидный Бужок и все уютные окрестности Меджибожа. Максим представил, где могли бы быть зарыты клады древних галицких князей татаро-монгольского периода, магнатов Синявских и Богдана Хмельницкого. Получалось, что везде, в бесчисленных подземельях под стенами, под разрушенным монастырем, да и во всей близлежащей округе. Максим хорошо знал, что во время неожиданных налетов кочевников многие богатые купцы и горожане наспех зарывали свои ценности просто у крепостных стен на глубину около метра, которые как невостребованные в последующие века при ремонте крепостей обнаруживались десятками и сотнями. Гетман Богдан, конечно, хорошо подумал, как и куда спрятать свои клейноды и архив.
Меджибож был не компактным замком на горе, а большой крепостью, в нескольких метрах от стен которой стояли десятки хат местечка. Спрятать сундуки с архивом и бочонки с золотом Богдан в этом наполненном людьми месте, конечно, мог, но сделать нечто подобное втайне даже ночью в глубоких подвалах, в которых надо было приготовить заранее секретные камеры, было совершенно невозможно. Богдан не стал бы так рисковать национальным достоянием для будущих поколений, хотя утверждать подобное было бы преждевременно.
Максим вспомнил свое исследование о Библиотеке московских государей, которую неправильно называли библиотекой Ивана Грозного. Она лежала в тайниках Москвы, подземные галереи которой с XV столетия распространялись во все стороны от Кремля, где по нижним ярусам из конца в конец могла проехать карета с тройкой лошадей. К XVIII веку подземелья просто обвалились, их полностью засыпало камнями, битым кирпичом и щебнем, и добраться до их секретов можно было, только вывезя все это из подвалов. Меджибож в поисках сокровищ также нужно было проверять весь, но это могло сделать только государство.
Аккуратно спустившись вниз с углового бастиона, Максим пошел через весь двор в краеведческий зал, в котором работали три научных сотрудника Государственного музея-заповедника «Меджибож». В крепости новых, точнее, неизвестных Максиму документов о Богдане Хмельницком не появлялось, ее документы XVII казацкого века давно хранились в Киеве на Соломенке, а материалы XVIII и XIX столетий находились в фондах Государственного архива Хмельницкой области. Однако была закончена многолетняя работа над хроникой Меджибожа со времен Киевской Руси до нашего времени, которую уже можно было прочитать в электронном виде. Максима посадили за компьютер, и он углубился в чтение истории древней крепости.
В первую очередь он посмотрел текст за середину XVIII века и 1761 год, но о пребывании в Меджибоже киевского школяра, конечно, не упоминалось. Максим вернулся к началу и два часа читал хронику, прежде чем добрался до периода Украинской революции. На 92 странице он обнаружил упоминание о том, что в конце октября 1656 года Богдан Хмельницкий, находившийся в Меджибоже две недели, выехал на Збараж, в сопровождении восемнадцати обитых железом телег с крепкими колесами, высокими бортами и закрытым верхом. В обозе находились фальконеты новейшей конструкции, только что доставленные из Германии, при этом каждую телегу везли по две пары волов. Обоз, от которого гетман не отходил ни на шаг, сопровождал весь Чигиринский полк, окруживший телеги так, что незамеченной к ним не пролезла бы даже мышь.
Обоз, который на дороге ждали сменные волы, сто десять верст от Меджибожа до Тернополя и еще двадцать верст до Збаража прошел без остановок на ночлег.
Дочитав хронику, Максим откинулся на стуле и перевел дыхание. Новые пушки надо было, конечно, беречь от чужих взглядов, но сопровождение орудийного обоза самим гетманом Украины было вовсе не обязательным. А что, если это и был золотой обоз с архивом и клейнодами, который Богдан Хмельницкий вез командиру своей Тайной стражи Максиму Гевличу для закладки в тайник Збаражского замка?
Следы вели в Збараж октября 1656 года, и Олекса в Самчиках совершенно правильно определил направление поиска. Что же он нашел в Збараже, и нашел ли вообще то, что искал? Максим глубоко вздохнул, успокоился и переписал из хроники Меджибожа нужный ему отрывок о восемнадцати телегах.
Внизу страницы была ссылка о том, что сведения об отъезде гетмана в Збараж, о котором Олекса Дружченко в самчиковой рукописи даже не упоминал, были взяты из личного ежедневного журнала создателя Казацкой страны, как Украину в XVII веке называли в Европе. Журнал исчез со всем личным архивом Богдана Великого, но попавший из него в Меджибожскую хронику отрывок был переписан одним из копиистов канцелярии войска Запорожского, бывшим родом из крепости у двух Бугов и составившим первые заметки об ее истории, которые хранились в Хмельницком архиве.
Максим поблагодарил коллег из научного отдела и вышел на крепостной двор, где было совсем темно. Было уже пять часов вечера, и целый день в Меджибоже пролетел как одна секунда. На выезде из местечка на трассу Винница-Тернополь была небольшая гостиница, в которой историк собирался переночевать, чтобы утром отправиться в Хмельницкий и в архиве прочитать заметки копииста, после чего успеть доехать до Тернополя и заночевать в Збараже. О золотом обозе Богдана Хмельницкого Максим старался не думать, чтобы не сорваться в Збараж в ночь. С утра он спокойно пойдет по его следам, как за двести пятьдесят лет до этого сделал Олекса Дружченко, и ничто, кроме землетрясения, не сможет его остановить.
Максим заселился в номер, немного пришел в себя, спустился в небольшое кафе и с аппетитом поел первый раз за день, с удовольствием покуштував отличное крученое сало с чесноком и горчицей. В номере он включил телевизор, нашел местный Хмельницкий канал и стал ждать восьмичасовые новости, чтобы узнать, как Западная Украина прожила один из последних дней этой долгой зимы.
Новости начались, и хорошенькая дикторша на певучем шевченковском языке сразу же заговорила об удивительном происшествии, случившемся этой ночью, и где – в Збараже! Находившиеся в замке, в котором, оказывается, была устроена средневековая корчма, три депутата Самой Верхней Рады внезапно сошли с ума, и, кажется, совсем не от занадто большого количества выпитой горилки с перцем. Никаких других подробностей не сообщалось, только на экране телевизора возник небольшой ресторанный зал в старинном интерьере с огромным камином от пола до потолка, недалеко от которого расположился пышно накрытый стол с двумя опрокинутыми стульями, а третий, с резной спинкой, стоял прямо на столе, ножками в тарелках с недоеденной едой.
Максим досмотрел сюжет до конца и хмыкнул – тоже мне новость, не вмэр Данила, так болячка вдавыла. Слава богу, что этим ребятам-депутатам было вообще с чего сходить. В Самой Верхней Раде у многих с мозгами были проблемы, вернее, они были заняты одним-единственным делом – день и ночь считать гривны, которым по черт знает какой причине не было у них ни конца ни края. Максим давно привык к тому, что любую, даже никакую новость, которая подходила для эфира из рейтинговых соображений, многие телевизионщики высасывали из пальца и раздували до немыслимых пределов, искажая ее до полного неузнавания в борьбе за аудиторию. Наверняка кому-то понадобилось опорочить какую-то партию в Раде и отнять у нее голоса избирателей, для чего и была придумана невероятная пьянка в национальном достоянии.
Странно, что эта история произошла именно в Збараже, в который он собирался добраться завтра. Максим позвонил в отель «Гетман» при замке, принадлежащий тернопольскому музею. Свободные места в маленькой, но очень красивой гостинице под старину были, Максим заказал номер с видом на въездную башню и подъемный мост, заметив, что администраторша говорила очень напряженным голосом. В ответ на вопрос историка, что на самом деле произошло с депутатами в средневековом ресторане, она скороговоркой выпалила на западно-украинском говоре какую-то фразу, в которой Максим разобрал только слова «купа дурных» и «нэма кебетив».
От Меджибожа до Хмельницкого, в котором великий гетман не был ни разу, было всего тридцать километров, архив открывался в десять часов утра, последний автобус из города, до середины XX века называвшегося Проскуровым, на Тернополь отходил в семь часов вечера, и Максим решил лечь спать, почему-то попытавшись перед сном вспомнить все, что ему было известно о привидениях в замках, любивших сводить их обитателей с ума.
Московский историк не знал, что перед сном попал в самую точку, и совсем скоро ему придется проверить на собственном опыте, справедлива или нет очень популярная в украинских местечках пословица: «Нема розуму – вважай калiка».
Исторические источники всех стран во весь голос утверждали, что привидения обычно обитали в старинных замках, дворах и домах. Призрачные фигуры, среди которых самыми опасными называли белых дам и черных монахов, часто ночами попадались на глаза средневековым жителям в их готических жилищах.
Свидетельства очевидцев о встречах с жуткими призраками, которые сводили с ума одним своим видом, были похожи друг на друга. Многие десятки и сотни людей слышали в гулких коридорах и подземельях замков неизвестно откуда берущиеся звуки лошадиных копыт, звон колоколов, тоскливый вой, видели туманные мужские фигуры с отрубленными головами под мышкой, удивительных красавиц в старинных платьях, после жгучего поцелуя приказывавших своим визави выброситься из окна или со стены, молчаливых монахов, бормочущих жуткие заклинания над книгой, написанной самим Князем Тьмы. Те, кто не сходил с ума и не умирал от ужаса после встречи с привидениями, оставляли о них рассказы, которыми полны средневековые хроники и сборники легенд и преданий. При этом в рассказах всегда особо подчеркивалось, что физического насилия со стороны призраков не было, их жертвы умирали только от страха и потери равновесия на лестницах и башнях.
В средневековой Украине наиболее известными мистическими фигурами были знаменитые конотопские ведьмы, умевшие отводить глаза всем без разбору, молчаливые русалки, водившиеся не только в тихих омутах, но и во множестве лесных озер, и, конечно, вытащенный гением великого Гоголя из преисподней ужасный глава всей нечистой силы на берегах Днепра и Ворсклы – демон Вий, которого при появлении на земле всегда сопровождала толпа упырей, вурдалаков и бесов.
На этом месте своих воспоминаний Максим незаметно заснул, не использовав до конца весь рабочий день 28 февраля 2016 года, что случалось с ним крайне редко. Последнее, что пронеслось в его мозгу перед тем, как он выключился на ночь, были прилетевшие откуда-то слова, сказанные низким хриплым голосом: «Поднимите мне веки…».
В 10 часов утра случавшегося раз в четыре года 29 февраля московский историк Максим Дружченко, даже не предполагавший, какой странной чертовщиной для него закончится этот последний зимний день, уже был в Государственном архиве Хмельницкой области. Оформив разрешение на поиск, он попросил сотрудницу читального зала подсказать, где могут храниться документы Меджибожа начала XVIII века. У крепости в ГАХО был свой архивный фонд, но рукописи копииста Максим в нем не обнаружил. Она нашлась в фондах личных коллекций, и Максим, довольный до невозможности, тут же заказал ее и еще девять разрешенных на одного исследователя дел в течение дня и стал просматривать справочники административно-территориального деления Подольской губернии, в которую до 1917 года входили Меджибож и Проскуров. Заказанные им дела принесли на удивление быстро, и Максим тут же углубился в чтение, не забывая расписываться в начале каждого тома на особом месте.
Рукопись копииста из канцелярии войска Запорожского не была датирована, но сотрудники архива определяли ее написание 1711 годом, так как в ней на последней странице упоминался Прутский поход Петра Первого, в котором участвовали казацкие полки. Текст был тяжелым, с бесконечными завитушками и росчерками на половину листа, и Максим читал тридцать два листа записок несколько часов, до самого обеденного перерыва. Слава богу, он сделал это совсем не зря. Неведомый автор записок, не указавший на обложке своего имени, цитировал личный журнал гетмана только один раз. Максим начал его переписывать в свой блокнот и тут же споткнулся взглядом на хорошо знакомом ему слове. В октябре 1656 года Богдан Хмельницкий выехал из Меджибожа не только в Збараж, но и в Вишневец. Прочитав отрывок из рукописи до конца, Максим попытался сосредоточиться на дальнейшей работе, но у него ничего не вышло.
Вишневец! Самый мистический, как и Збараж, замок Украины, один из центров знаменитого монашеского ордена Святого Бернара Клервосского, средневекового знатока оккультизма, активно использовавшего эти знания в своей многогранной деятельности. Максим дважды был в этом пышном дворце в двадцати пяти километрах к северу от Збаража. Когда он изучал его для своей книги «Украинские замки», пожилой научный сотрудник в конце четырехчасового осмотра дворца сказал историку, что на это прекрасное здание никогда не садятся вороны. Услышав это, Максим вздрогнул. Он знал, что эти черные ракеты, сами не отличавшиеся доброжелательностью, на дух не переносили мест скопления зла. Да, воронам Вишневца было чего опасаться!
Максим вышел из архива и двинулся искать недорогое кафе, справедливо предполагая, что поесть еще раз сегодня не удастся. Проскуров-Хмельницкий был сильно разрушен во время войны, и средневековых домов в нем совсем не было. Историк подошел к драматическому театру в виде железобетонного кирпича постройки второй половины XX века, увидел рядом с ним опрятную вареничную, зашел в нее, набрал на поднос еды и сел за столик, продолжая размышлять.
До 1648 года Вишневец и Збараж с округой принадлежали польско-украинским православным князьям Вишневецким, самым страшным из которых был перешедший в католичество Иеремия. Это был личный враг не только Богдана Хмельницкого, но и всего народа, в историю которого за свою кровожадность вошел с прозвищем Бешеный Ярема. Когда после битвы под Берестечком крымский хан Ислам Гирей захватил гетмана Богдана, он держал его именно в Вишневце, в который с огромным выкупом из Люблина мчался Иеремия Вишневецкий, мечтая тут же посадить Хмельницкого на кол. Максим восстановил эту историю во всех подробностях по особой причине. Отряд Тайной стражи гетмана, в котором служил предок Максима, сделал невозможное и забрал Богдана у Ислама за три часа до приезда Бешеного Яремы с бочонком золота и ларцом с драгоценностями. Замещавший Хмельницкого наказной атаман Иван Богун послал к хану характерника Максима Гевлича с товарищами, который освободил создателя Украины, не пролив ни капли крови, и московский историк чрезвычайно гордился, что в этом судьбоносном для Украины деле принимали участие его предки.
До конца обеденного перерыва оставалось пятнадцать минут, и Максим поспешил в архив. По дороге он купил хмельницкие газеты, отметив, что они были на русском языке, и поднялся в читальный зал. Просмотрев за несколько часов дела из меджибожского фонда и не найдя в них упоминаний об Олексе Дружченко, Максим в пять часов вышел из архива и в приближающейся темноте поспешил на автовокзал.
Ему повезло. Автобус на Тернополь отправлением в 16.45 еще не ушел, и Максим даже успел занять в нем место в предпоследнем ряду. Местные автобусы, переданные в частные руки, уже давно выходили в рейсы не по расписанию, а по заполнению. Семичасовой автобус, не набрав пассажиров, мог вообще не пойти на маршрут, и тогда Максиму пришлось бы ночевать в Хмельницком, а не в Збараже, что было бы для него невыносимой задержкой в поисках архива Богдана.
Всего через двадцать минут все места в автобусе были наконец заняты, и с почти часовым опозданием он отошел от платформы Хмельницкого автовокзала. Максим откинулся на сиденье и развернул карту Западной Украины. До Тернополя было сто десять километров, с остановками в Волочиске, Подволочиске и Великих Борках. Время в пути, учитывая, что водитель будет подбирать и высаживать пассажиров на каждом столбе, составит часа два, следовательно, в Тернополе Максим будет до восьми часов вечера и успеет до ночи доехать до Збаража. Историк сел поудобнее и начал восстанавливать в своей голове главы из книги «Украинские замки» о Збараже и Вишневце, не забыв вспомнить и о Бешеном Яреме и его Лубнах. Автобус, конечно, был без рессор, на неровной дороге его трясло необычайно, проход салона был забит до не раз отодвинутого упора взятыми за углом автовокзала пассажирами, деньги которых благополучно перекочевали в бездонный карман водителя, но Максиму уже было все равно. Он медленно и неотвратимо проваливался в любимый XVII век, где черный дым от пушечных залпов над средневековым Збаражем 1649 года стал быстро затягивать яркое летнее солнце.
Впервые местечко Збараж на реке Гнезне упоминается в «Повести временных лет» в 1211 году как крепость Галицко-Волынского княжества, которая через несколько десятилетий была сожжена ордами хана Батыя. Сюда, в Збараж, собирались со всей округи добровольцы, выступавшие затем навстречу татарам.
В 1393 году новгород-северский князь Дмитрий Корибут из литовской династии Гедиминовичей выстроил на месте разрушенного деревянного каменный замок. В течение веков Збараж на Княжей горе стоял преградой на пути непрестанно нападавших на украинские земли татарских орд. В 1474 году огромная орда хана Айдара сожгла бывший центром удельного княжества Збараж вместе с дружиной потомка Корибута князя Василия Несвитского.
Дети и внуки Несвитского восстановили крепость со стенами толщиной около метра и получили титул князей Збаражских. Каменный замок успешно отбивался от крымских татар до второй половины XVI столетия, когда украинские земли с великим княжеством Литовским в результате Люблинской унии 1569 года вошли в состав польской Речи Посполитой. Она считала Украину только естественной преградой на пути крымских орд в Польшу. Збараж отбился от татар в 1558, 1567, 1572, 1588 годах, но в 1589 году огромное турецко-татарское войско с осадными пушками разрушило стены и взяло замок на Княжей Горе.
В начале бурного XVII века новый замок на другом месте начали строить князья Юрий и Христофор Збаражские, учившиеся во Львовской коллегии иезуитов, Краковском и Падуанском университетах у гениальных мыслителей Галилео Галилея и Эразма Роттердамского. Они решили выстроить новый Збараж по последнему слову техники.
Проект замка знаменитого венецианского архитектора Виченцо Скамоцци в 1620 году воплотили на Замковой горе, расположенной в трех верстах от Княжей, голландский и итальянский фортификаторы Генрик ван Пеен и Андреа дель Аква. Новый замок со всех сторон защищали река Гнезна, два пруда и болотистый Черный лес.