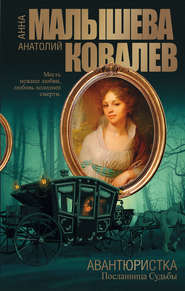
Полная версия:
Посланница судьбы

Анна Малышева, Анатолий Ковалев
Авантюристка. Посланница судьбы
© Малышева A. В., Ковалев А. Е., 2015
© ООО «Издательство АСТ», 2015
* * *Глава первая
Скромные семейные радости ростовщика Летуновского. – Благие намерения бывшего пристава Калошина. – Волк в овечьей шкуре возвращается в Москву
Казимир Летуновский, если не самый старый, то самый удачливый и дерзкий московский ростовщик, из года в год приумножал свое благосостояние. Его деятельность приобретала с каждым днем все более благообразные и почетные формы. Ушла пора, когда он трясся над сундуком, в котором прятал самолично принятые заклады, когда сам с каменным лицом выслушивал душераздирающие (и порой правдивые) истории несчастных людей, бросавшихся к нему за помощью от безысходности. Теперь он сделался владельцем нескольких ломбардов, открыл ювелирный магазин на Тверской улице и вскоре перешел в разряд купцов первой гильдии. Если в его ломбардах и лились слезы, Летуновский этого не видел. Если в его адрес посылались проклятия, он не слыхал этого. Его руки – страшные жилистые руки с кривыми пальцами, привыкшими загребать деньги и толкать сирот на паперть, девушек – на панель, стариков – в могилу, побелели и тоже смотрели вполне добродушно, хотя пальцы иногда шевелились, словно хватая нечто невидимое.
Несмотря на свой преклонный возраст, поляк был еще крепок, здоров и даже обзавелся молодой женой, хотя раньше слыл убежденным и непримиримым холостяком. «Окрутила! – со стыдливым изумлением признавался ростовщик. – Пленила, околдовала старого дурня!» Москва дивилась. Кто бы мог подумать, что такой несгибаемый человек, как Летуновский, способен влюбиться на старости лет! Однако дружно признавали, что пани Теофилия Заведомская, дочь бедного, разоренного шляхтича, и вправду необыкновенно хороша и могла бы пленить красотой и благородством манер самого безнадежного мизантропа. Высокая, тонкая, как плеть, с младенчески ясным розовым лицом и синими глазами того глубокого темного оттенка, который бывает только у лучших сапфиров (как восхищенно отмечал ростовщик), она очаровывала все взгляды. Ее рыжевато-русые волосы не были особенно роскошны, но полячка умела их весьма затейливо причесывать. Бедняжка носила старые, десятки раз перешитые платья, над которыми портила свои прекрасные глаза полночи, чтобы утром появиться в новом туалете, но и они не могли умалить ее прелести и достоинства осанки. Старый ростовщик был для девушки находкой, спасением одновременно от нищеты и от бесчестия ее частого спутника. Шептались, что отец уже не прочь был однажды ее продать самым скверным образом какому-то купцу, когда попал в очередную долговую яму, но тогда дело как-то обошлось.
Теперь пан Тадеуш Заведомский называл себя не иначе как «отцом, пожертвовавшим ради дочернего счастья всем, всем, даже шляхетской своей гордостью!» Жертва совершилась следующим образом. Благородный шляхтич, ведущий свой род аж от Барбары Радзивилл, как-то раз попал в неприятное положение и не в состоянии был выкупить в ломбарде у кровопийцы-ростовщика отданные под залог золотые часики покойной супруги, которые намеревался отнюдь не хранить у сердца, а заложить вновь, чтобы вырученные деньги потратить на свои нужды. Срок закладной истекал, выдать вторую закладную Летуновский, принимавший дворянина из уважения к его фамилии лично в своем кабинете, не соглашался. Доведенный до крайности пан Тадеуш принял молниеносное и остроумное решение, в самой прямой и доходчивой форме предложив ростовщику родную дочь. Собственно, нежный отец и не думал в тот момент о свадьбе… Знакомство состоялось. Теофилия была так чиста, прекрасна, так при этом бедна и беззащитна, в ее глазах сияло полное неведение того, что ее ожидало… Летуновский внезапно сделался рыцарем и женихом.
Часики были преподнесены невесте в подарок. К ним в придачу шли серьги с черными бриллиантами, стоившие целого состояния. Влюбленный Летуновский, слывший первостатейным скрягой, проявлял чудеса щедрости. Теофилия сияла невинностью. Пан Тадеуш красовался в новом фраке и презрительно кривил рот, принимая поздравления. Свадьба, самая пышная, какую только можно было устроить за деньги, состоялась в августе двадцать седьмого года. Бал гремел и кружил головы, на нем была «вся купеческая Москва» – гости жениха, и местная шляхта – гости невесты, почти все с перекошенными от зависти лицами. Впрочем, некоторые пришли только ради роскошного ужина, дававшегося после бала «для своих».
Сплетничали нещадно. Невесте едва исполнилось двадцать лет, а жениху стукнуло шестьдесят два, и это одно само по себе удивляло. Впрочем, улыбка, сиявшая на лице счастливой новобрачной, не покинула его и после свадьбы. Она никогда не сходила с милого личика Теофилии, и молодая супруга ростовщика производила впечатление самое безмятежное. С мужем своим пани Летуновская общалась легко и непринужденно, словно не всерьез. Она за минуту успевала надавать ему различных прозвищ, потормошить, будто куклу, забраться к нему на колени и, спрыгнув, куда-то умчаться, оставив после себя аромат парижских духов.
Ростовщик, в глубине души ожидавший, что его в лучшем случае будут просто терпеть, млел от подобного обращения. Не удивительно, что пани Теофилия ни в чем не знала отказа. Оставшись такой же безмятежно наивной, как до супружества, она совсем не интересовалась делами мужа. Каким путем добываются деньги, «пани ростовщица» знала не больше, чем когда жила под крылышком нежного отца. Пан Тадеуш куда-то уходил и возвращался, приносил или не приносил деньги – о сложном механизме векселей и закладных, об этой адской машине, размалывающей в прах человеческие жизни, девушка не имела никакого представления. Теперь она не знала нужды ни в чем и с восторгом ребенка тратилась на дорогие наряды, которые прежде могла лишь рассматривать в витринах Кузнецкого моста, держать роскошный белый с позолотой экипаж, запряженный четверкой белоснежных, без единого пятнышка, лошадей, ложу в Большом театре… Но больше всего денег шло на тысячу различных мелочей, которые счастливая новобрачная желала иметь в тот же миг, как видела, и получала в тот же миг, как этого пожелала. Подругам она хвалилась в своей обычной, воркующе-легкомысленной манере: «Мой Казимирчик трудится целый день и никогда, никогда мне ни в чем не отказывает!» Подруги, в основном также происходившие из разорившихся польских родов, не скрывали зависти, которой, как они думали, «дурочка Тео» не замечает, и язвили на ее счет чуть не ей в лицо. Все они были бесприданницы, некоторые куда красивее Теофилии, и никаких надежд на будущее у них не предвиделось. Во многих семьях девушки питались одной картошкой, перелицовывали по ночам старые платья, плакали из-за обрывка кружев, который бесполезно было чинить дальше, так как он расползался под иглой. Их красота увядала, лица становились желтее, гордыня – все ядовитее. Кто из них мог сохранить в сердце приязнь к любимице судьбы, «дурочке Тео», ломавшей на их глазах ради забавы баснословно дорогой перламутровый веер, которым она дразнила собачонку?
Впрочем, кое-кто считал ее не дурочкой, а лицемеркой, гениально разыгрывавшей небесное создание. Удивляла та восторженная легкость, с которой Теофилия относилась к своему браку с «отвратительным старикашкой». Недоумевали, как можно пасть так низко, чтобы делить брачные восторги с подобным типом? В конце концов, девушки, излив всю накопившуюся желчь и проявив несколько подозрительную осведомленность, дружно сходились на том, что Летуновский давно уже не мужчина, а только жалкая видимость оного, оттого Теофилия и весела. Очевидно, молодая ростовщица ждет не дождется подходящего кавалера, чтобы наставить своему Казимирчику рога. «Или уже успела!» – шипел кто-то.
Так ли обстояло дело, доподлинно никому не было известно. Между тем идиллия продолжалась, расцветая новыми красками. Казимирчик, ничего не жалевший для своего кумира, свил уютное гнездышко в прекрасном особняке на Малой Никитской улице, обставленном изысканно, на парижский манер, к чему лучшие московские декораторы приложили все таланты, а сама пани Летуновская вложила в него душу. Летуновский участвовал в процессе лишь деньгами, ибо таланты ростовщиков всем слишком известны, а наличие у них души многими вовсе отрицается. К тому же Казимир Аристархович, безвыездно проведший две трети жизни в Москве, окончательно обрусел, никаким европейцем более себя не считал, вкусы имел купеческие, самые простые и с трудом уже мог изъясняться на родном языке. Московское купечество, вообще не любившее чужаков, приняло Летуновского в свои ряды снисходительно, как неизбежный фатум. «Ну какой же он чужак, помилуйте? – не без ехидства ухмылялись некоторые. – Уж сорок лет как на Москве самолучшим кровопивцем сидит! Чутье имеет адово! За рубль из бедного человека всю душу высосет, червь могильный… А богатому мильен нужен?! Из полы в полу, как девку, передаст в тот же час. И откуда возьмет, чертяка?! Из воздуха выщелкнет, что ли?! Наш он, родной! Скотина этакая, пропасть ему без покаяния… Мы давно им детишек стращаем!»
Казимир, утверждаясь на своем месте, ругательств словно не замечал. Он оказывал услуги, вызнавал тайны, втирался в доверие, старался стать незаменимым… Словом, заигрывал с купечеством, как мог, а мог он многое. Про него даже стали говорить: «А с этим мерзавцем, пожалуй, можно иметь дело!», что являлось высшей похвалой в устах тех, для кого дело было целью жизни, а деньги – ее кровью.
Но если ростовщика бородатая часть купеческого сообщества лишь терпела как неприятную необходимость, то его супругу купчихи неожиданно полюбили так же, как возненавидели ее соплеменники. Теофилию везде звали в гости, сажали на почетное место, хотя она и была другой веры, что практически уничтожало ее шансы на возвышение в этом кругу. Она понравилась за простоту, за детскую наивность и милые глупости, которые так и сыпались с ее розовых губ при виде ребенка, собачонки или красивого цветка в горшке. «Такая простая, ну, такая… – с восхищением говорили после ее отъезда. – Из дворян ведь! Говорят, чуть не королевских кровей! Правда, не наших, а ихних, кто их там разберет, может, они все там короли…» «Да это по ней видать, что королевна, – как вошла, как встала, как села… На иконы перекрестилась, видали?! Правда, по-ихнему, ну да пусть, другие-то нонешние дамочки и не вздумали бы. Дурковата она как будто немножко… Ну да и это ничего, зато добра!»
На этих купеческих вечерах Теофилия с удовольствием играла на фортепианах, и великолепно играла – покойница мать успела своими слабыми силами преподать ей начатки образования. По-французски говорила, как француженка, шалила, как дитя, а нашалившись, садилась в угол к старушкам и внимала их рассказам о московской старине. Рассказы были увлекательные и страшные: как на Москве казнили фальшивомонетчиков, как неверных жен в теремах замуровывали, как неделями игрывали свадьбы, какие лютые были зимы и многоводные вёсны… Слушала она тоже как ребенок – подавшись вперед, уронив руки на колени, чуть приоткрыв рот. Старушки сперва побаивались шляхтенки-ростовщицы, потом привыкли и стали с нею ласковы, как с правнучкой.
* * *Однажды вечером, когда Теофилия сидела в своей маленькой гостиной за роялем и разбирала ноты модного вальса, Казимир Аристархович по обыкновению просматривал «Московские ведомости». После женитьбы он особенно пристально изучал раздел «Смесь», выискивая заметки о долгожителях. Им владела навязчивая идея – прожить со своей ненаглядной голубкой-женой необыкновенно долго, до Мафусаиловых лет, и он был рад, когда читал о подобных случаях. На этот раз заметка его прямо-таки взбудоражила. Помимо прочих московских старожилов, там рассказывалось, в частности, об одной вольноотпущенной старушке Поликсене Гавриловне, которой на днях исполнилось сто двадцать лет. «Это что же получается? – быстро прикинул в уме Летуновский. – Она родилась в одна тысяча семьсот десятом году! При Петре Первом, при Августе Втором Сильном!» Мысль эта настолько поразила ростовщика, что он с азартом продолжил свои научные изыскания: «А мне сто двадцать лет исполнится в восемьдесят пятом году! Неужто не доживу?! При такой ангельской женушке, при моих деньгах… Как пить дать, доживу!» «Научное открытие» было немедленно доведено до сведения супруги. Никогда не унывающая Теофилия на этот раз скривилась, будто отведала яблока дичка. «Фи, Казимирчик, – поморщилась она, – мне тогда будет чуть не восемьдесят лет. Подумать жутко!» Она по-детски расстроилась, хлопнула крышкой рояля и удалилась, всем своим видом выказывая недовольство. Казимир же Аристархович, оставшись наедине со своим открытием, не мог уснуть всю ночь, ворочаясь с боку на бок. «Мысли, что твои клопы! – философично восклицал ростовщик, теребя остатки жиденьких волос. – И не видать их глазом, а спать не дают, черти окаянные! Есть ведь какой-то секрет, отчего старуха так долго скрипит и не помирает… Сто двадцать лет! Даром такое не дается!» Наутро он отправился в редакцию «Московских ведомостей», чтобы узнать адрес долгожительницы.
…Поликсену Гавриловну он отыскал в какой-то трущобе, где ютились семейные рабочие одного из московских фабрикантов. Долгожительница занимала угол в маленькой темной комнатке своей внучатой племянницы, которая обитала тут же с мужем-ткачом и двумя детьми-подростками. Дети в школу не ходили, а уже работали на фабрике вместе с отцом, мотая шпульки. Семья эта по местным меркам считалась вполне достаточной – тут на пятерых едоков приходилось трое добытчиков. И хотя щелистый дощатый пол был чисто выметен, что показывало старание хозяйки навести порядок, в комнате стоял смрад. Покрутив носом, Летуновский тут же обнаружил его источник – прямо за узеньким окошком высилась громадная куча мусора, куда сливались всем бараком и помои.
Для визита Летуновский надел старый, протертый в нескольких местах сюртучишко, откопанный им на дне сундука, и старомодные брюки с пузырями на коленях. Отрекомендовавшись мелким служащим, он вручил старушке горшочек с засыхающей фиалкой, которую нерадивая горничная все время забывала поливать. «Не тратиться же на этот сброд!» – рассуждал Казимир.
– Вот-с, решил навестить вас, прочитав в газете о вашем удивительном почтенном возрасте, – начал он, расплываясь в благостной улыбке, – и справиться о вашем здоровье…
Поликсена Гавриловна передвигалась по комнате медленно, черепашьими шагами, с помощью палки, тихо пошаркивая громадными валенками, которые, по-видимому, не снимала ни зимой, ни летом. Горб, выросший за спиной, согнул старушку пополам, оттого она с трудом задирала голову, чтобы получше разглядеть собеседника.
Но глаза долгожительницы казались живыми, а взгляд – пристальным и насмешливым. «Вот ведь такие старушенции сотнями ползают по Москве, – думал про себя Летуновский, – эка невидаль! Антик! Однако не всякая бабка в «Смесь» удостоится попасть. Самого царя Петра Первого живьем видала!»
– Здоровье, батюшка, у молодых, а у стариков одна хворь, – начала Поликсена Гавриловна, и Казимир отметил про себя, что у нее довольно еще звонкий, вовсе не скрипучий голос, хотя и вырывается время от времени какой-то неприятный хрип из одряхлевшей гортани. Для Летуновского, мечтавшего дожить до ста двадцати лет, любая деталь в облике этой старушенции имела огромное значение.
– Ну, а зрение как, в порядке? – заботливо расспрашивал ростовщик. – Газеты, по крайней мере, читать еще можете?
– На зрение пока не жалуюсь, батюшка, и не глуха вроде бы вовсе… А про газеты пошутил небось? Ведь грамоте-то я не обучена! – Поликсена Гавриловна рассмеялась низким басом и погрозила гостю пальцем. – Шутишь над старухой-то?
– Да я ничего не шутил… я, не подумавши, – сконфузился Казимир Аристархович, попутно отмечая, что во рту старухи обретается еще с десяток гнилых зубов, похожих на пеньки в обгоревшем лесу.
Теперь предстояло выведать главную тайну, ради которой он и нанес этот странный визит. Как назло, внучатая племянница «антика», бросив стирку в корыте, от которого шел едкий щелочной пар, и распрямив усталую спину, уставила на него неподвижный взгляд выпуклых блекло-голубых глаз и смотрела, не отрываясь, словно опасалась чего-то.
– Я о чем спросить-то вас хотел, – решился наконец Летуновский, – как вам удалось, дорогая Поликсена Гавриловна, так надолго задержаться в нашем паскудном мире? В чем секрет вашего долгоденствия?
– Ко мне многие за этим самым ходют, – захихикала старушка и внезапно кокетливо, юно махнула рукой, будто Летуновский сказал какую-то фривольность, – да вот только советы я всем даю простые, немудреные: не грешите перво-наперво, зла никому не чините, в церковь ходите, Богу молитеся…
– Да неужто все?! – допытывался ростовщик. – Так-то многие живут, только не по сто двадцать годов… А супруг ваш в каком же возрасте изволил скончаться?
– Господи, помилуй мя от всякого греха! – внезапно перекрестилась старуха. – Да ведь я отродясь с вашим мужеским полом никаких дел не имела. Я – девица!
Разочарованию Казимира Аристарховича не было предела. По дороге домой он честил себя последними словами за неуместно взыгравшую скупость: «Вот болван эдакий! Дурень стоеросовый! Захотел от старушенции получить рецепт долголетия… Так ведьма тебе его и выдаст! За горшок с фиалкой-то. Ага. Держи карман шире! Сунуть бы ей сразу пару ассигнаций, и разговор бы другой был. «Многие ходют…» Вот, кто поумнее, и узнал секрет, а тебе – зась! От ворот поворот… Девица она…»
Дома его ждало новое, еще более сокрушительное разочарование. Тесть, пан Тадеуш Заведомский, посмел вновь явиться к нему с просьбой о деньгах. «И это после того, как я сотню раз выкупал у купцов все его векселя! – молча негодовал Летуновский, слушая излияния тестя, то слащавые, то невыносимо высокомерные. – Никакой благодарности! Это прорва, а не человек!» В нем росла жажда мщения. Старуха-«антик», посмеявшаяся над ним, и помыслить не могла, какого демона она разбудила.
Зять Летуновский был на пятнадцать лет старше своего тестя и поэтому обычно не стеснялся в выражениях, отчитывая важного седовласого и седоусого пана, как школьника. Его не останавливало даже присутствие дочери, если той случалось быть при очередной сцене вымогательства. Впрочем, Теофилия редко желала видеть отца, а если виделась с ним, бросала в его сторону весьма загадочные, долгие взгляды. Если бы пан Тадеуш умел читать в глазах дочери, то прочел бы в них презрение. Но он относился к Теофилии вполне равнодушно.
– Ну что ж… Спасай меня, любезный Казимир Аристархович! Погибаю ведь! Если денег не дашь, уже и не в яму посадят, а черт его знает, что выйдет… – Изможденное, почерневшее от пьянства лицо пана Тадеуша отражало попеременно то плохо сыгранную шутливость, то неподдельный ужас. – Скандальчик ведь вышел…
«Скандальчик», послуживший причиной визита, заключался в том, что пан Тадеуш проигрался в карты на слово. На этот раз он имел несчастье сразиться за зеленым сукном не со своими собратьями-земляками, которые во время игры отчаянно божились, дергали себя за усы, считались царственными предками, а после все же соглашались немного подождать. Он нарвался на шулера, бессердечного, холодного, опытного, вдобавок великосветского льва, и оттого бессердечного вдвойне. Тот публично посмеялся над паном Тадеушем и потребовал немедленной уплаты. «Или я вам, ясновельможный пан, отрежу нос!»
– Сам себя губишь, а я спасай? – раздраженно ответил, наконец, зять, выслушав все мольбы и клятвы. – Что, сколько?
Услышав же сумму, взвился, как фейерверк, пущенный по случаю коронации:
– Хватит с меня, не желаю больше платить! И молчи, не желаю слушать! Сколько можно таскаться сюда?! Я не дойная корова…
– Спаси! – подавленно повторил Заведомский.
– Однажды я уже пытался тебя спасти, предлагал доходное местечко в одном из ломбардов. Ничего, нынче и дворяне не гнушаются за прилавком стоять! Читал я в «Московских ведомостях» про одного французского маркиза – тот сам дамам в магазине шелка отмеряет! А ты чем его знатнее? Чем?! И что ты мне тогда ответил, помнишь?
Пан Тадеуш опустил голову. Тогда он был настолько оскорблен, что осыпал Казимира самыми страшными ругательствами, смешивая с грязью, и, если бы, не дай бог, под рукой оказалась сабля, разрубил бы мерзкого ростовщика пополам.
– Гордыня мешает тебе заниматься делом, – продолжал Летуновский, – но преспокойно позволяет жить на мои деньги! Позволяет шляться по кабакам, валяться по девкам, которыми и солдат бы побрезговал! Позволяет играть в карты, ручаясь моим именем, и жрать водку со всяким отребьем! Проваливай вон, сказано! Ни копейки больше не дам! Пшел!
Пан Тадеуш дрожал всем телом, сжимая и разжимая огромные кулачищи. Он едва сдерживался, чтобы не сорвать со стены канделябр и не раскроить череп ненавистного «паука, таракана, клопа»… От ярости и страха перед завтрашним днем у него кружилась голова. Словно помешанный, ничего не ответив, он бросился в покои дочери.
Теофилия в это время читала сентиментальный французский роман, полулежа на кушетке. При виде отца она вскочила на ноги, отбросив в сторону книгу. Наверное, такая же реакция была бы у нее, если бы в комнату вползла гадюка.
– Доченька, спаси! – бросился он перед ней на колени. – Не допусти, чтобы отца родного осрамили на весь свет! Род Заведомских весь будет унижен вместе со мной! Я не перенесу такого позора! Уговори ты своего паука дать мне денег в последний раз, в самый последний…
– Что вы называете позором? – вспыхнула пани Летуновская. – И не поздно ли вы беспокоитесь о чести нашего рода? Вы продали собственную дочь пауку, как сами говорите, на меня все прежние знакомые косятся, гадости за моей спиной шепчут, в лицо усмехаются… Это для рода Заведомских не позор?
– Но ведь они просто завидуют, как тебе хорошо с ним живется, – опешил пан Тадеуш. – Признайся, ведь славно я тебя устроил, доченька? А если что не так, если он, песья кровь, место свое забыл, не помнит, что ты его облагодетельствовала, пожаловав свою королевскую ручку, ты только скажи мне, уж я череп его плешивый, как тухлое яйцо, разобью!..
– Подите прочь, папенька! – вне себя от негодования закричала Теофилия. Кровь бросилась ей в лицо. – Видеть вас больше не могу! Вы мне омерзительны! И не ходите к нам! Не попрошайничайте! Слышите? Не позорьте меня! Не позорьтесь сами!..
– Отца родного прогоняешь? – Пан Тадеуш тяжело дышал, выкатив воспаленные от бессонных ночей глаза. – Отказываешь мне в пустяке, в то время как муж осыпал тебя золотом и бриллиантами? Если бы твоя мать была сейчас жива… – начал он в чувствительном тоне, пытаясь смягчить голос, но пани Летуновская не дала ему договорить, взорвавшись:
– Она сейчас мертва, потому что вы ее свели в могилу своими кутежами, картами и бесконечными изменами! Вы нас сделали нищими! Вы пытались меня продать, когда больше продать было нечего! Со второго раза у вас это вышло! Меня прозвали, с вашей легкой руки, «дурочкой Тео», но я все вижу и все знаю! Ненавижу вас! Будьте прокляты!
Пана Заведомского пошатнуло. Лицо его на какой-то миг стало багровым, а потом бледным и безжизненным. Казалось, отец сейчас свалится замертво к ногам дочери. Но он развернулся и медленно, тяжело, будто конечности его окаменели, доковылял до двери.
– Прокляв меня, дочка, ты себя прокляла, – тихо произнес он на прощание, так что Теофилия едва расслышала его слова.
* * *На следующее утро труп пана Заведомского выловили в Яузе. Своей смертью, как и жизнью, он доставил немало хлопот и расходов зятю. Летуновский долго уговаривал аббата, настоятеля храма Святого Людовика Французского, похоронить тестя по-христиански. Он обещал пожертвовать на храм немалую сумму денег, но неприступный иезуит не поддался на уговоры. Он напоминал ростовщику, что самоубийцам, несмотря на их происхождение, отказывают в отпевании и хоронят за кладбищенской оградой. Ростовщику пришлось найти двух свидетелей, которые за приличную мзду дали показания в Управе, что своими глазами видели, как пана Тадеуша пьяные мужики с ругательствами сбросили с моста в реку. Как раз в те дни, когда страшная эпидемия холеры приближалась к Москве, в городе заговорили о поляках, которые будто бы и распространили заразу. Слухи эти грозили вылиться в массовые расправы. Поэтому частный пристав Кондрашкин поверил липовым свидетелям Казимира и завел уголовное дело, а непреклонный иезуит получил из Управы бумагу, подтверждавшую, что пан Заведомский был преступно сброшен с моста, а не утопился по собственной прихоти.
Во время отпевания в храме Святого Людовика Французского на Малой Лубянке Теофилия Летуновская, одетая в роскошный траур, не обронила ни единой слезинки по усопшему. «Хотя бы для приличия, душенька», – шепотом уговаривал ее супруг. «Не хочу и не буду!» – дерзко и довольно громко отвечала она. Сам же Летуновский то и дело прикладывал платок к сухим глазам и шмыгал носом, разыгрывая спектакль на тему родственных чувств. Впрочем, зрителей в этот дождливый сентябрьский день в церкви собралось немного. У ростовщиков, как правило, друзей не водится, а собутыльники Тадеуша вряд ли знали о его внезапной кончине. Так что, кроме четы Летуновских, было всего человек десять родственников и подруг Теофилии.

