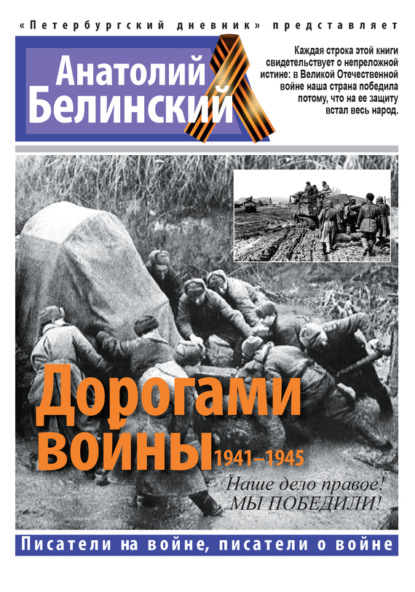 Полная версия
Полная версияДорогами войны. 1941-1945
Довольно быстро у разбитого блиндажа появились люди. Один из командиров, мой друг Волошин, решительный и энергичный человек, стал командовать солдатам:
– Растащить бревна! Здесь есть еще живые. Скорее!
Все лихорадочно принялись за дело. И тут же сверху на скопление людей обрушились два «мессершмита». Все бросились врассыпную. Ударили крупнокалиберные спаренные пулеметы, и, как брызги крупных капель грозового летнего дождя, на мое лицо полетели щепки от бревен, наваленных на груди. Я закрыл глаза. Второй истребитель вслед за первым ударил по другой цели. Они еще только начали выходить из пике, как возле меня опять оказался Волошин. Увидел меня, крикнул: «Он жив!» – и стал помогать солдатам вытаскивать меня из-под бревен. Положили на снег в сторонке, возле дерева.
Один из солдат бросился ко мне:
– Его надо перевязать. Он ранен!
Верхняя часть моего маскхалата была в крови. Волошин размышлял, оценивая обстановку. И тут же решительно приказал:
– Не надо! Пока будете его раздевать и перевязывать, одевать, за это время можно донести до ПМП!
Меня положили на плащ-палатку. Командир одного из орудий уже успел откопать в разбитом блиндаже мой планшет и полевую сумку. Прибежал и положил их мне на грудь.
– Вот, товарищ лейтенант, еле нашел.
Он хотел мне в последний момент сделать что-то приятное, личное. Предметы снаряжения на фронте ценились очень высоко, фотографии и письма, которые у меня лежали в полевой сумке, вообще берегли как зеницу ока. Я лежал недвижим, продолжая жить, однако, кипевшим вокруг боем. В планшете были записи целей, данные о поступлении снарядов, списки. Я попросил его передать их Волошину, который уже носился где-то по батарее. Полевую сумку отдал командиру орудия на память. Я говорил. Хорошо это помню.
Наступила минута расставания с друзьями, со своими солдатами. Я чувствовал себя как будто виноватым перед ними в том, что мне предстоит их покинуть в такой момент. Вместе было пройдено столько испытаний, столько трудностей. Я понимал, что у оставшихся их будет еще больше впереди. Ведь мне предстояло отправиться в госпиталь, что в тех условиях было равноценно дарованию жизни. Я был готов провалиться сквозь землю, и у меня как-то не укладывалось в сознании, что они останутся вот здесь в этом пекле, а я буду далеко в тылу.
В это время прозвучала команда Волошина: «К орудиям! По местам!» Солдаты и сержанты, стоявшие возле меня и пробегавшие мимо, прощались на ходу.
– После госпиталя возвращайтесь к нам! Ну, ты теперь отвоевался навсегда. Пока!
– Не забывайте нас. Прощайте!
– Пока! Нам еще до Германии носом землю пахать.
Подбежал Волошин. Солдатам приказал:
– Нести быстро. Взять два карабина. Чтобы мигом были обратно здесь!
– Глянул на меня: – Ничего, отремонтируют. Ну, будь здоров! Пиши, где будешь.
Два солдата, взявшись за концы плащ-палатки, понесли меня ускоренным шагом в полковой пункт медицинской помощи. Наша батарея уже опять повела ураганный огонь.
Меня занесли в медпункт – приземистый деревянный сруб с крохотным столиком внутри и деревянными нарами вдоль одной из стен. Тут же вошел врач и спросил: «Откуда? Чем его?» Приказал посадить меня на стул, разрезать и снять маскировочный халат, а сам сел за столик и стал быстро заполнять историю болезни. Потом подошел и стал внимательно оглядывать со всех сторон полушубок. Диагноз был поставлен сразу: «Полушубок цел.
Он тяжело контужен. Положите его на нары».
Солдат удивился.
– Должна быть дырка, ведь кровь.
– Это из горла, носа и ушей, – врач быстро писал в историю болезни фамилию, полк и диагноз.
По всему телу я стал ощущать тысячи игл, все более и более впивавшихся в меня, нарастающие боли в разных местах позвоночника. Во рту пересохло, и очень хотелось пить.
Каждая клетка моего тела среагировала только сейчас на ужасную травму. Я подумал, что лучше умереть, чем испытывать такие муки. Но врач сказал, что надо терпеть, реакция постепенно пройдет.
Вскоре я или уснул или потерял сознание…
Снова на фронтеЧетыре месяца я находился на излечении в тыловом госпитале. После выписки был направлен на фронт, снова в район Мясного Бора, в тот же 127-й артполк, который за успешные бои по освобождению Тихвина получил наименование Шестого гвардейского.
В штабной батарее я пробыл примерно десять дней. Я наблюдал много новых примет фронтовой жизни. Самое главное, что бросилось в глаза, – это решительные действия против немецкой авиации стрелковым оружием. По пролетавшему вдоль линии фронта на большой высоте немецкому разведчику «фокке-вульф» («рама») в направлении его полета перемещался сплошной вал огня из всех видов оружия: винтовок, ручных пулеметов, противотанковых ружей, даже автоматов. Но его брюхо было бронировано, для стрелкового оружия он был неуязвим, даже если бы пули долетали до него. Но каждый теперь знал, что самолет можно сбить ружейно-пулеметным огнем. Первый солдат, сваливший в дивизии немецкий самолет из винтовки, получил орден Красного Знамени. К моменту моего приезда у дивизии, как писали об этом газеты, было на счету уже двадцать пять сбитых самолетов, главным образом из винтовок. Плотный огонь заставлял теперь самолеты противника держаться на значительной высоте.
Жить при штабной батарее на фронте, не имея никаких обязанностей, было очень тягостно, и я надоедал командиру полка своими просьбами определить меня к месту. Активных боевых действий наша дивизия в это время не вела, и свободных мест не было. Кроме того, командир полка, видимо, дожидался уведомления из штаба дивизии о моем назначении в полк, хотя нельзя исключить и простого обстоятельства, что мне просто давалось время для того, чтобы адаптироваться к боевой обстановке после длительного пребывания в госпитале.
Вскоре вакансия в своей батарее для меня открылась. Младший лейтенант Щербина, находившийся при пехоте в качестве корректировщика артиллерийского огня, был убит. Командир полка пригласил меня к себе и предложил занять место в своей шестой батарее, к которой был приписан корректировщик. Я дал согласие и получил приказ занять место Щербины.
– Давай на его место – так прозвучал этот приказ. – Только не забывай, что ты артиллерист, и не ввязывайся в пехотные дела. Твои функции там должны быть совершенно самостоятельные. Главное сейчас – это выявить огневые точки. Однако контакт с пехотой полностью не теряй, учитывай там особую обстановку.
В тот же день в сопровождении одного разведчика я отправился на передовую в район Мясного Бора, на наблюдательный пункт батареи, находившейся в боевых порядках пехоты, для того чтобы представиться комбату.
Я подходил к знакомым местам, где пролегала теперь линия огня. Было примерно три часа дня, июльское солнце нещадно палило, казалось, вбирало в себя защитные цвета солдатских гимнастерок, извлекало из болот тяжелые запахи. Кругом стояла обманчивая тишина, нигде не было видно ни одного человека.
– Вот на этом склоне землянка разведчиков и связистов, – пояснил мне обстановку разведчик, указывая на едва приметную железнодорожную насыпь. – До этого места можно идти в полный рост. От землянки метров двадцать надо идти пригибаясь, а далее до наблюдательного пункта – только ползком. Слева впереди – немецкие снайперы. Будьте особенно осторожны. Они много наших поснимали. Я, кажется, одного засек. Еще пару дней понаблюдаю, а затем пойду приглашать наших охотников за снайперами.
Мы подошли к землянке. Это была обыкновенная нора в склоне невысокой железнодорожной насыпи, вход в которую закрывал кусок плащ-палатки. Возле землянки нас встретил сержант, словно выросший из-под земли. Сопровождавший меня солдат юркнул под плащ-палатку в свое убежище. Мы поздоровались.
– Где тут у вас родничок, из которого можно холодненькой напиться? – спросил я, полагая, что среди болот должны быть родники.
Мне очень хотелось пить. Накануне давали дополнительный командирский паек – селедку крепкого засола, которую я неосмотрительно съел. Сержант заулыбался.
– Тут кругом родники. Пей, из какого понравится!
– Покажи ближний, в каком направлении?
– Да тут рядом, вправо впереди – метров двадцать.
Захватив котелок, я, пригибаясь, отправился в указанном направлении и увидел воронку от бомбы диаметром метров восемь, заполненную мутной жижей, которую при большом воображении можно было считать водой. У противоположного края воронки наполовину в воде лежала убитая вздувшаяся лошадь, а рядом с ней торчали ноги немца, туловище которого тоже было скрыто под водой. Никаких признаков ложбинки, где мог струиться ручеек или бить маленький родничок, я не нашел и возвратился к землянке.
– Не нашел я этот родничок, – с досадой проговорил я. – Наверное, разучился ориентироваться на местности, пока лежал в госпитале. Иди сам покажи его.
Мой серьезный тон поверг сержанта в изумление.
– Воронку видели?
– Видел?
– Так это и есть наш ближайший «родничок». Неужто вправду искали настоящий родник?
– Так там падаль лежит в воде и немец убитый!
– Точно! Оттуда и берем. Надо только осторожно у самого краешка набирать и стараться не мутить воду.
– Да как же вы ее пьете?
– Так и пьем. В другую воронку с водой надо вперед бегать под огнем снайперов или назад за пять километров к Волхову. Только кто тогда воевать будет?
– А если что с желудком случится, или зараза какая пристанет? – задал я машинально нелепый вопрос.
– Черта с два! Зимой в желудках копыта переваривались, там микроба жить не может! Конечно, снабжают вот такими салфетками, которые смочены каким-то составом. Надо приложить ее к краю кружки и пить через нее, вот так. Только это не помогает: и запах болотной жижи остается, и еще какой-то хлоркой воняет, как в уборной.
Сержант напился этой мутной жижи, которую принес подошедший солдат, а я водил языком по пересохшим губам и думал о том, как же в этот зной люди утоляют жажду в пехоте, куда я иду?.. Пить такую воду я не стал. «Буду терпеть столько, сколько позволят силы… А что же дальше будет без воды?» Этого я себе не представлял. После госпитальной гигиены трудно было привыкать к окопной жизни. Мне вспомнились слова командира полка, который, оставляя меня при штабной батарее, говорил: «Привыкай». Да, контраст с госпитальной щепетильностью по части гигиены был большой.
Однако период адаптации к новым условиям оказался не так уж велик. Подошел связист, кончик носа которого был обмотан тряпкой, взял банку с водой, только что принесенной из воронки.
– Попьем свеженькой, – широко улыбнулся он.
Это было искреннее удовлетворение. Во флягах вода быстро нагревалась и на вкус была много противнее, чем только что принесенная. Но, глядя на его перевязанный нос, я сначала подумал, что он не может совершенно переносить стоявший вокруг устойчивый тошнотворный запах трупов. Это меня удивило, и я с оттенком пренебрежения к такой мелочи спросил:
– Что это ты свой нос обмотал?
Солдат понял мой вопрос по-своему: пустяковое ранение, а бинт намотал.
– Пуля чирикнула, когда бежал с катушкой связи, обожгла кожу на самом кончике носа, и вот гноится. В медсанбат совестно идти с такой царапиной, когда и крови-то нет. А может, и вправду на солнце лучше подсохнет. Только вот ползать приходится, и болячка все время сдирается.
Он снял повязку с носа, а я, воспользовавшись подсказкой солдата, постарался уйти от своих предположений.
– Уже все засохло. На солнце еще лучше подсохнет, – с оттенком командирского пренебрежения к таким пустякам выкрутился я.
До этого мне довелось воевать только в условиях зимы, жестоких морозов, и мое первое командирское наставление в летнее время лучше было оставить при себе.
Увидев, с какой жадностью связист пил принесенную воду, мое отношение к данной воде чуть-чуть поколебалось. «А ведь все пьют. Все же, какая ни есть, а вода. Для начала, чтобы меня не вырвало, я попробую помазать губы этой жижей». Первый шаг адаптации к воде из воронки был сделан.
Командир батареи передал по телефону, чтобы я еще до наступления темноты явился на наблюдательный пункт. Мы с разведчиком добрались до него быстро, продвигаясь по-пластунски. Наблюдательный пункт был расположен на левом крае линии траншей, которая вилась по едва приподнятой складке местности. Сооружение было добротное, имело три наката бревен и довольно просторное.
Командир батареи прибыл в полк тоже недавно, и мы друг друга не знали. Он разъяснил мне обстановку и задачи, которые возлагались на меня. А они состояли в том, чтобы корректировать при необходимости огонь батареи, дивизиона, полка по скрытым целям противника, расположенным в зарослях виднеющегося впереди лесочка, а находиться я должен в боевых порядках первой роты 38-го стрелкового полка, которая залегла по самому краю леса.
– Ты только смотри, – давал он мне напутственное слово, – не давай там втягивать себя в пехотинские дела. Сиди в блиндаже и ни в коем случае не ввязывайся в схватки пехоты, а то она наших людей для своих целей использует. Лейтенант Щербина, который был до тебя, наверняка поэтому и погиб. Занимайся своим делом.
– А как туда добраться?
– Взгляни в стереотрубу, разведчики расскажут. Но первый раз, пожалуй, лучше попытаться с пехотинцами пройти. Я слышал, что сегодня ночью туда, кажется, сам командир первого батальона должен идти. Тебе лучше договориться с ним, это самый удобный случай будет. Заодно лично познакомитесь. Сейчас пошлю разведчика уточнить время, когда они пойдут в первую роту.
Командир батальона передал, чтобы я явился к десяти часам вечера. К назначенному времени я отправился по ходам сообщения на его командный пункт. Траншеи первого батальона были в полный профиль, я шел не сгибаясь, как вдруг до моих ушей донеслось:
– Ты что… – бушевал старшина, распекая за что-то провинившегося солдата, – хочешь, чтобы я отправил тебя в первую роту?!
Для меня, артиллериста, такая угроза показалась совершенно нелепой и странной. Как можно пугать пехотинца, который все время находится на линии огня, еще чем-то, посылкой в другую роту? Трибунал, расстрел за неисполнение приказа, позорная смерть – в моем представлении это было действительно страшно. Хотя никто никогда в моем окружении за все время пребывания на фронте не знал случая, чтобы такая угроза была реализована. Самому иногда приходилось пригрозить солдату отправкой в пехоту с огневой позиции батареи, но и тогда реакция на это была почти всегда радостная – каждому молодому солдату хотелось побывать в настоящем деле. А меня это очень возмущало: как можно так легко променять бога войны на службу в пехоте, как можно не любить артиллерию?
Угроза старшины сначала не вызвала у меня какой-либо настороженности, и, проходя мимо него, я лишь спросил:
– Где тут находится ваш комбат? Я из шестого, мне как раз в первую роту нужно. Говорят, сегодня туда пойдут?
– Первый поворот направо, товарищ лейтенант. Значит, вместе пойдем сегодня. Там уже собираются. Вот этого разгильдяя туда бы прихватить на недельку.
Я пошел далее по траншее, а в моей голове стали назойливо вертеться слова: «Первая рота… первая рота… первая рота». Мне стало любопытно, что это за рота, которой старшина пугает. «Судя по всему, там долго не пробудешь, или там лежать придется в гнилом болоте. Ладно, приду, увижу сегодня…»
Впереди пехотыВ траншее первого батальона 38-го стрелкового полка собиралась группа командиров и солдат, направлявшаяся в первую роту. Я доложил командиру батальона, что имею приказ прибыть в эту роту на место убитого лейтенанта Щербины, корректировщика огня 6-го гвардейского артполка.
– Очень хорошо. Я сам туда собираюсь. Отправимся, когда стемнеет. Ожидайте вот здесь, у поворота, – указал комбат взмахом головы в сторону, где поблизости от командного пункта начиналось короткое ответвление окопа в сторону противника. Мы обменялись крепким рукопожатием.
Сумерки наступали медленно, и я решил внимательно осмотреть местность. Взобравшись на насыпь земли перед окопом, я увидел впереди себя, рядом, проволочное заграждение в два кола, тянувшееся вдоль линии траншей, а на триста метров впереди него – открытое место, за которым чернел жиденький лесок. Мой взгляд на нем задержался – там находился противник, там где-то залегла первая рота, боевое охранение батальона и полка. Вся местность впереди была слегка вздыблена разрывами мин, снарядов и бомб, но больших воронок, где можно было бы при случае укрыться, я не заметил.
Я смотрел вперед и думал о скоротечности армейской фронтовой жизни. Всего четыре месяца назад, в марте, в глубине виднеющегося впереди леса, в восьмистах метрах от траншеи, меня тяжело контузило. Менее двух недель назад я еще лежал на госпитальной койке в Иванове, успел побывать в Москве, был направлен на Калининский фронт и вот теперь оказался у Мясного Бора, смотрю в сторону скрытой за лесом деревни Любцы, по которой в прошлом наша батарея вела огонь. Я нахожусь в окопах среди пехотинцев, а ночью буду впереди пехоты. До сих пор моя должность командира огневого взвода и старшего на батарее отделяли меня от пехоты двумя-тремя километрами, мне лишь изредка приходилось бывать на передовой, а теперь я на самой линии огня, который со стороны противника постепенно усиливался.
Сотни огненных трасс пронизывали все пространство впереди, проносились над головой, обрывались на средине поляны. Я посмотрел направо, где на фоне меркнувшего горизонта также рассыпались следы трассирующих пуль, зависали осветительные ракеты, и подумал: «И такая картина до Северного Ледовитого океана». Повернул голову налево, где вдали невидимые мне осветительные ракеты подсвечивали и обозначали контуры леса: «А там – до самого Черного моря идут кровопролитные бои». Только в этот момент, когда у меня оказалось время для размышлений, здесь, на передовой, я понастоящему глубоко осознал и даже как-то ощутил масштабы происходящей войны и невероятной длины линию фронта в несколько тысяч километров, где в таких же вот траншеях находились миллионы наших солдат. У меня возникло глубокое удовлетворение, что я нахожусь среди них.
Между тем отдельные огненные трассы ружейного огня, исходившие из леса и пересекающие друг друга, стали иногда превращаться в снопы искр, как будто там, впереди, в разных местах леса начинали крутить гигантские точильные камни, к которым прижимали металл.
Я втянул голову в плечи, сполз с бруствера и присоединился к своим попутчикам. Мне казалось невероятным, что по этому открытому месту можно идти, но все настойчиво повторяли:
– Пора идти.
– Надо выходить, пока огонь не усилился.
«Ну, конечно, – объяснил я себе, – сначала пойдем до выхода по траншее, а потом придется ползти по этому гиблому гнилому месту, которое впереди».
Наконец, все оказались в сборе и послали одного разведчика доложить об этом командиру батальона. Он тут же явился.
– Все собрались? Пошли, разберемся после выхода!
Мы свернули с траншеи в ход сообщения, уводивший в сторону противника. Через несколько шагов прошли под проволочным заграждением, тут же по пологому выходу выбрались на чистое место и прошли еще десяток метров. Комбат остановился, вся группа подтянулась и окружила его. Он стал называть место каждого в цепочке. Шустрый молоденький разведчик с круглым пухленьким личиком крутился возле командира батальона.
– Товарищ капитан, разрешите мне повести. Ну, разрешите. Я ходил уже не раз, знаю каждый бугорок и ямку, не будем спотыкаться. Разрешите мне повести, товарищ капитан?
Конечно, настоящий разведчик оправдывает свое название, когда оказывается первым, и он, естественно, старался при старших командирах показать свое мастерство. Но за этим в данной ситуации скрывалось и нечто другое – ему хотелось заодно прикрыть собой от шальной пули командира батальона, которого он, как и все солдаты (я уже успел узнать об этом), просто обожал.
Эта наивная хитрость была сурово наказана.
– А ты, чтобы поменьше вертелся, встанешь в хвост, – определил его место капитан.
Он поставил его, разумеется, не замыкающим, эта ответственная задача была возложена на одного из командиров, а предпоследним. Мне было определено идти впереди разведчика.
– В случае чего поможешь вот этому лейтенанту, который первый раз идет, – указывая на меня, сказал капитан назойливому разведчику.
Командир батальона отдал еще несколько указаний на случай неожиданностей, которые встретятся на пути, приказал всем еще проверить снаряжение. Я ощупал карманы, не осталось ли там каких-либо предметов, которые могли при движении издавать звук.
Все встали в цепочку, друг другу в затылок. В могучей фигуре командира батальона, который первым шагнул вперед, держа в левой руке гранату «лимонку», а в правой наган, чувствовались непоколебимая уверенность и решимость. Это шел хозяин своих владений и земли русской, и горе было тому врагу, который мог повстречаться на его пути. У других командиров гранаты были подвешены к поясам, пистолеты в руках, разведчики шли с автоматами на груди, а я, охваченный этим порывом и серьезностью людей, крепко зажал в своей руке пистолет ТТ.
Шустрый солдат, который шел вслед за мной, тихо наставлял меня, своего подопечного:
– Товарищ лейтенант, идти будем быстро, старайтесь не отставать. Ступайте ногой в след впередиидущего, комбат может повести напрямик через минные поля. При ракетах не шевелиться, делайте всё, как все. В случае чего, я остаюсь с вами. На огненные трассы не обращайте внимания, они идут поверх головы.
Я, однако, задирая голову, глазел на трассы и инстинктивно старался втянуть ее в плечи. Огненные плети трассирующих пуль рассекали пространство над головой так близко, что невольно хотелось припасть к спасительной земле. Некоторые трассы обрывались рядом на земле, впереди и в стороне от нас. Время от времени противник пускал осветительные ракеты, и тогда ослепительно яркие, чуть зеленоватые фонарики повисали впереди нас, заливая все окружающее пространство каким-то мертвенным светом, медленно опускались на парашютиках вниз, быстро выгорая и не долетая до земли. В такие моменты вся наша цепочка замирала, и наши позы напоминали застывшие фигурки людей на кадре кинопленки. Ночью издали, даже при свете ракет, такие позы людей легко было принять за обгоревшие стволы деревьев. Не важно, что их не было видно на этом месте днем: ночью память при необычном коротком освещении работает по-другому – важно было не шевелиться.
Вся эта славная «новгородская дружина» командира батальона была готова в любое мгновение принять бой, ибо противник мог буквально вырасти изпод земли, просочившись между нашими боевыми порядками.
Через некоторое время мы вышли на тропинку, которая повела вдоль канавки, протянувшейся в сторону леса, обошли лежавшего на небольшом бугорке убитого солдата.
– Это все тот самый лежит? Почему не убрали? – повернув голову, тихо спросил комбат.
– Не было, товарищ капитан, ни одного человека, чтобы послать, все были в расходе, – оправдался кто-то.
– Как его фамилия? Что-то уже забыл…
В цепочке начали мучительно вспоминать: Веденеев? Веремеев? Валеев?.. В пехоте люди часто меняются, многие имеют созвучные фамилии, всех командирам трудно запомнить.
– Уточнить и доложить, – недовольно оборвал комбат. – Сообщить родным. Своих людей не знаете.
Мы продолжали двигаться в маршевом темпе, и я только успевал смотреть за ногами впередиидущего солдата. Прошли мы минные поля или нет, я не знал, а от вопросов в этой ситуации приходилось воздерживаться.
Еще раз, прямо над нами, вспыхнула ракета, в свете которой недалеко от нас отчетливо обозначился какой-то частокол воткнутых в землю палок – все, что осталось от находившегося здесь некогда реденького лесочка. Огненные смерчи не оставили на деревьях даже веток.
В этом частоколе порубанной и искореженной молодой поросли и залегла первая рота – боевое охранение 38-го стрелкового полка.
– Почти пришли, – пояснил мне идущий сзади солдат.
Мне сразу же стали ясны выгоды расположения этой роты. Она, оказывается, залегла не перед лесом, а вцепилась в этот реденький лесок, закрыла возможность противнику прямого обстрела нашей пехоты, в которой, в случае наступления, не пришлось бы нести потери на открытом месте.
Я хорошо помнил, как в минувшую зиму пехота форсировала Волхов. Поднявшись от реки по крутому берегу, рота за ротой бросались по открытому месту в атаку в направлении леса, до которого было всего метров пятьдесят, пока не удалось зацепиться за его кромку и втянуться в него остальным. Примерно через пару часов после боя на этом месте я ехал на санях выбирать огневую позицию для батареи на другом берегу Волхова уже за пять километров от берега. Место недавнего боя было покрыто телами наших солдат от самого берега до леса…
Позиция первой роты была драгоценной. Правда, протяженность кромки леса, которую она заняла, была, как я потом узнал, небольшой – сотня-другая метров, но каждый метр этого места уже сохранял десятки, сотни жизней наших солдат при будущем наступлении.

