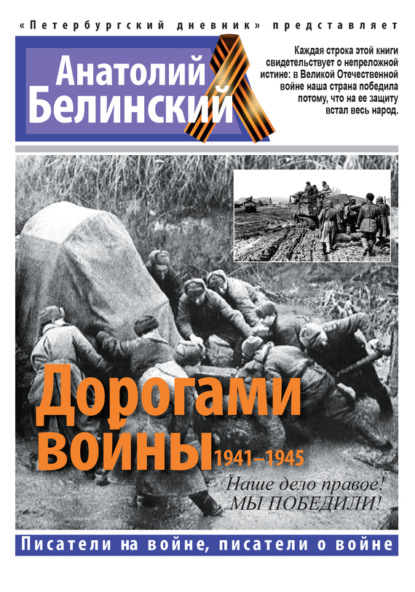 Полная версия
Полная версияДорогами войны. 1941-1945
Старинный русский город Тихвин к исходу грозного 1941 года оказался важным перекрестком войны. Здесь развертывалось сражение, значение которого далеко выходило за рамки данного района. Как писал маршал С.М. Штеменко, оно сыграло заметную роль в жизни и борьбе осажденного Ленинграда, оказало влияние на состав и группировку сил противника в решающей битве за Москву.
В тот момент мы, молодые командиры, над стратегическими ситуациями не задумывались, но интуитивно чувствовали, что свежую сибирскую дивизию двинули на важный участок советско-германского фронта. Так оно и оказалось.
Гитлеровское командование, возобновив в сентябре 1941 года наступление на всех трех стратегических направлениях для захвата Кавказа, Москвы и Ленинграда, планировало сначала сломить оборону Ленинграда, высвободить здесь свои войска, чтобы затем ударить всеми силами на Москву, обойдя ее с северо-востока. Потерпев провал в своих попытках сломить сопротивление защитников Ленинграда прямым ударом, вражеское командование стало принимать энергичные меры для выполнения своего намерения путем создания мощного кольца добиться глубокой и полной блокады Ленинграда.
Поскольку в руках защитников города Ленинграда оставалась южная часть Ладожского озера и по нему налаживалась связь со страной, немецкое командование разработало новый план наступления к реке Свирь, на соединение с финской армией. По этому плану главное направление нового удара через Будогощь и Тихвин стало с октября 1941 года предметом внимания немецкого командования.
Советское командование прилагало огромные усилия для деблокирования Ленинграда и удержания южной части Ладожского озера, но эти попытки не увенчались успехом. Наши войска были обескровлены, и 8 ноября 1941 года немецкие войска захватили Тихвин, перерезав последнюю дорогу, по которой к Ладожскому озеру подвозились грузы для осажденного Ленинграда. Требовались решительные действия по ликвидации противника в районе Тихвина и Волхова, чтобы перебрасывать грузы для осажденного Ленинграда до Ладожского озера и затем далее в Ленинград.
Вот почему, хотя положение под Москвой было тяжелым, в ноябре-декабре 1941 года на Тихвинское направление было дополнительно направлено из стратегических резервов и с других участков фронта девять стрелковых и одна танковая дивизия, стрелковый полк, танковая бригада, специальные части и подразделения.
9 ноября 1941 года командующим 4-й армией был назначен опытный военачальник генерал армии К.А. Мерецков, а 17 декабря был образован Волховский фронт.
Наша 65-я стрелковая дивизия влилась в состав оперативной группы 4-й армии. 127-й легкоартиллерийский полк, в котором я был командиром огневого взвода, после выгрузки начал продвижение в сторону Тихвина только на рассвете, когда возвратилась полковая разведка. Колонна вскоре втянулась в лес, где дорога пошла по выемке, подобно узкому коридору, рассекавшему невысокую возвышенность, покрытую могучими соснами и елями с тяжелыми замысловатыми шапками снега на ветвях.
Мы шли за орудиями, которые легко катили шестерки попарно запряженных лошадей, делились между собой первыми впечатлениями о невиданной красоте северного леса зимой.
Наши восторги прервал, неожиданно вынырнув с правой стороны леса, легкий немецкий самолет-разведчик. Он на небольшой высоте пересек дорогу и заложил глубокий вираж, увидев колонну.
– Воздух! Воздух! – одновременно разнеслось по всей колонне. – В укрытие!
Ездовые ударили лошадей и рванулись на рысях вперед, стремясь рассредоточиться и найти место, где можно было бы выбраться из узкого дефиле, чтобы укрыться в лесу. Рассыпались по сторонам и боевые расчеты, однако некоторые еще не спешили, понимая, что летчик только еще рассматривает движущиеся к линии фронта наши войска. Я внимательно наблюдал за самолетом, удивленный, что встреча с немецкой авиацией произошла так быстро.
Сделав два круга над хвостом колонны, самолет перевалился на другое крыло и стал делать виражи над головой колонны. Было нетрудно догадаться, что летчик считает орудия и собирает обстоятельные данные. Затем самолет полетел в сторону станции взглянуть, что делается там, сделал над ней несколько кругов, вышел на ось дороги, направляясь опять в нашу сторону.
«Лег на боевой курс», – пронеслось у меня в голове.
– В укрытие! За мной! – крикнул я оставшимся на дороге, взбираясь по откосу к лесу. Оглянувшись, увидел, что несколько солдат остались стоять на дороге, и моментально скатился к ним. Один из них, держа в руках вожжи, невозмутимо убеждал своих товарищей:
– Чего бежать-то? Нешто вы не видели: крест у него? Это санитарный самолет пролетел!
Я остолбенел от солдатской наивности, потом взорвался.
– Сейчас бомбить будет! Покажет вам санитарную обработку. В укрытие! Самолет чуть-чуть поводил носом, еще точнее выправляя курс по оси дороги. Товарищи «грамотея» поняли, что им грозит, и бросились за мной, а оставшийся на дороге с удивлением замотал головой, не понимая источника опасности.
Отбежав на десяток метров в лес, я плюхнулся под большую сосну головой к дороге, спрятал ее за ствол дерева. Но было так охота посмотреть на первую атаку самолета, на солдата, на действия зенитчиков, которые уже расчехлили на своей машине счетверенные пулеметы, приготавливаясь к открытию огня, что я тут же выглянул из-за дерева, наблюдая за их действиями. «Наверняка собьют самолет на такой небольшой высоте, – думал я. – Сейчас прямо в лоб ударят. Деться ему некуда».
Я уже прикидывал, куда он рухнет. Зенитчики суетливо задергались. «Дубины! Чему только их учили? – зло прокомментировал я их действия. – Ну, скорее же, скорее! Такой случай! В перекрестье прицела его! Опоздаете!» Пулеметная очередь только началась и тут же оборвалась: заело ленты. От самолета отделились две небольшие бомбочки, и я спрятал голову за дерево. Взрывы раздались чуть впереди на дороге, метрах в сорока от меня. Самолет улетел в сторону Тихвина. Я тут же выскочил на дорогу. Потери оказались невелики. Бомбы упали в кювет, повредили одну повозку, убили одну лошадь, легко ранили оставшегося на дороге солдата.
Так все получили боевое крещение на первом километре от места выгрузки, а некоторые, кроме того, узнали, что есть различие между красным крестом нашей авиации и фашистским опознавательным знаком, что желтый крест на самолетах противника и свастика – это одно и то же.
Опасаясь прилета вражеских бомбардировщиков, полк свернул вскоре с дороги и занял первые огневые позиции. Наша шестая батарея расположилась возле громадных елей, окаймлявших небольшую полянку. В секторе для стрельбы не должно быть высоких деревьев, у елей обрубили нижние ветви, чтобы можно было оттащить орудия при появлении самолетов противника. Левее нас расположились две батареи 76-миллиметровых пушек. Связисты, обвешанные телефонными катушками, сразу же потянули провода на наблюдательный пункт.
Уже к вечеру поступила команда на пристрелку орудий. Все немного волновались перед таким ответственным событием, хотя каждый был готов к этому и четко знал свои обязанности. Заряжающий взял полуторапудовый снаряд и, сознавая, что это не учебная болванка, начал осторожно направлять его в канал ствола гаубицы.
Командир взвода лейтенант Гаврилюк тут же подскочил к заряжающему:
– Смелее надо действовать, с силой надо загонять снаряд, как учили, чтобы медный поясок врезался в нарезку ствола! Вот так!
Он взял снаряд и со звоном загнал его в ствол.
– Это первый снаряд, который на головы врагов посылаем!
Все отбежали от орудия и попрятались согласно инструкции в ровике, в том числе и наводчик, державший в руках конец десятиметрового шнура. Командир взвода стал в стороне от орудия. Я, как стажер, решил, что мне тоже прятаться в укрытие не к лицу и, вопреки наставлению боевого устава, стоял возле орудия. На всякий случай, опасаясь за свои барабанные перепонки, зажал пальцами уши и нос, как это делают начинающие пловцы. За время службы в армии мне лишь однажды пришлось присутствовать на боевых стрельбах, да и то в качестве зрителя. Стоять рядом со стреляющим орудием не приходилось.
Прогремел первый выстрел. С моими ушами ничего не случилось, и с ушами лейтенанта, который, улыбаясь, смотрел на меня, тоже. Эмоций после выстрела было достаточно: наконец-то и мы послали на головы врагов первый снаряд! Все словно повзрослели сразу на несколько лет и испытывали глубокое удовлетворение. Но что это? Ствол гаубицы, откатившись, почему-то мучительно медленно возвращался назад и, не дойдя на один сантиметр до нормальной отметки, остановился. По условиям мирного времени это было ЧП – чрезвычайное происшествие.
– Надо срочно послать за артмастером, – предложил я.
– Ничего! Из этого орудия, видимо, со времен Гражданской войны не стреляли, – помедлив, сделал заключение Гаврилюк. – Жидкость в противооткатном устройстве застоялась. После второго выстрела станет на место. Командир орудия внимательно обследовал все узлы орудия, но не обнаружил ничего подозрительного. Однако после второго выстрела ствол не докатился уже на пять сантиметров. Немедленно сообщили командиру батареи. На наблюдательный пункт вызвали орудийного мастера, который тут же поставил диагноз орудию: это может означать только одно – погнулся шток противооткатного приспособления. Требуется заводской ремонт.
Подошедший к нам командир орудия принес на ладони иголку хвои, упавшую с дерева после выстрела на салазки противооткатного устройства, и сокрушенно сказал:
– Вот! Нашел!
Это, действительно, могла быть причина неполадок в орудии, недоката ствола. Но ею могло быть и то, что давно не меняли тормозную жидкость, а главное, не проверили орудие перед выступлением в бои. В мирное время учения проводили, как принято было говорить, «в обстановке, приближенной к боевой», а это значит, что раз в год вывозили одно орудие на полигон и стреляли для отчета. Все в качестве зрителей стояли и слушали в отдалении. «Приближенность» была метров за сто. И вот за это пришлось расплачиваться.
Мы с командиром орудия были обескуражены, нам уже стало ясно, что потеряли орудие в первый день стрельбы. Когда орудие отправляли на заводской ремонт, мы шли его провожать, и наши лица были как на похоронах.
Я знал, что мы его назад не получим.
День за днем артиллерийский полк вел огневые налеты, после которых пехота бросалась в атаку на укрепления врага, но он цепко держался за свои позиции. Продвижение вперед исчислялось иногда метрами, десятком метров. В бой вступили «катюши». Первые сведения, которые принесли разведчики с передовой о залпе гвардейских минометов, мы восприняли как плод фантазии, хотя слухи о доселе невиданном оружии наших войск уже ходили, доходили они и до меня.
Рассказывали, что «земля встает стеной», что «ничего не остается живого». Мне как-то не верилось, что именно на этом участке фронта будут брошены в бой части с секретным оружием. Вскоре, однако, пришлось услышать, как в гром артиллерийской канонады неожиданно ворвались могучие, пронзительные, скрежещущие звуки гвардейских установок, от которых холодок пробежал по телу. «Катюши» били всегда неожиданно. Но тогда, в 1941 году, таких установок было мало. Однако не поддается учету сила их морального воздействия на врага.
Наша пехота, вгрызаясь в оборону противника, продолжала нести большие потери. Вражеские огневые точки прижимали ее к земле. Вскоре стало ясно, что надежно подавлять их можно только при стрельбе прямой наводкой.
Первый приказ выделить одно орудие для стрельбы прямой наводкой поступил нашей гаубичной батарее. Речь шла о подавлении огневой точки, расположенной в каменном строении, а наводчики шестой батареи за несколько дней боев успели уже зарекомендовать себя как мастера снайперского ведения огня. Из комсостава батареи для этой цели выделили меня. Я тут же приказал лучшему огневому расчету выкатывать орудие на дорогу. Полученный приказ вызвал у меня чувство гордости за такое поручение и волнение, от которого никуда не уйдешь, когда дело касается первой встречи с врагом лицом к лицу. Пострелять прямой наводкой всем хотелось. Мы были молодыми и уверенными в себе.
У самой дороги произошла небольшая заминка. Тяжелая гаубица по самый ствол увязла в занесенной снегом придорожной канаве, и вся батарея прилагала отчаянные усилия для того, чтобы вытащить ее на дорогу. В этот момент возле нас оказался кто-то из командиров соседней пушечной батареи 76-миллиметровых орудий. Узнав о поступившем приказе, он тут же выложил свое мнение:
– Какого черта вы претесь с этой махиной на прямую наводку! Пока будете выкатывать ее там на позицию, вас всех перебьют, и от гаубицы останутся одни ножки да рожки. Там снег по пояс, а катать орудие под огнем противника придется на руках! Тащите ее назад! Сейчас скажу, чтобы из нашей батареи направили одну пушку.
Он бегом направился на свою позицию. Через несколько минут упряжка лошадей легко вытащила 76-миллиметровую пушку на дорогу.
– Приказ был нашей батарее направить орудие, – осадил я командира взвода, выбираясь из канавы. – Помогите лучше вытащить гаубицу.
– Сами управитесь! Нам надо спешить, там ждут, каждая минута дорога.
– Куда вы лезете? – стал возмущаться я. – Там крепкие каменные сараи, только вот этой долбить надо! – кивнул я на свое орудие.
– Там быстрота нужна! – отрезал он мне.
Молодой солдат, татарин по национальности, слышавший нашу перепалку, рассмеялся, взбираясь на передок готовой тронуться пушки, и бросил мне слова, запомнившиеся на всю жизнь:
– Не беспокойтесь, товарищ младший лейтенант, мы не хуже вас отстреляемся. Будьте уверены, не подкачаем! А из нашей пушечки только и стрелять прямой наводкой.
Я не знал тогда, что фамилия этого солдата Маннанов и что он идет на свой бессмертный подвиг, за который будет первым в дивизии удостоен высокого звания Героя Советского Союза.
29 ноября, на десятый день после начала наступления наших войск на Тихвин, гитлеровцы предприняли сильнейшую контратаку. Такое упорство противника нетрудно было понять, если напомнить, что 22 ноября вступила в строй ледовая трасса по льду Ладожского озера, и стало налаживаться снабжение осажденного Ленинграда. Гитлеровское командование прилагало отчаянные усилия удержать Тихвин, чтобы добиться решения стратегической задачи – выйти к Онежскому озеру на соединение с финской армией и замкнуть полное кольцо блокады Ленинграда.
Густые цепи противника при поддержке самолетов, танков, артиллерии двинулись на наши позиции. В этом бою расчет орудия, выделенного для стрельбы прямой наводкой, сильным минометным огнем был полностью выведен из строя. Заряжающий Ильдар Маннанов, которого командир орудия отправил за снарядами, возвратившись на позицию, увидел погибших товарищей и приближающиеся цепи врагов. Он встал за прицел. Каждый солдат огневого расчета мог прекрасно исполнять обязанности наводчика: совмещению профессий в армии еще до войны придавалось большое значение.
Маннанов ударил из пушки в упор по наступающей немецкой пехоте, внося опустошение в ее ряды. Он вел огонь до тех пор, пока она не отхлынула назад. Через некоторое время гитлеровцы бросили в атаку танки. Ильдар открыл огонь по ним и подбил головную машину, остальные повернули назад. Взрывом мины его ранило в ноги и шею, но он не оставил орудия и продолжал в упор расстреливать врагов, которые все наседали. Рассказывали, что он выпустил уже сто восемь снарядов, которые непрерывно подтаскивал в промежутках между атаками, и у орудий оставалось только четыре снаряда, когда на позицию этого героя, смельчака-артиллериста обрушились немецкие пикирующие бомбардировщики. Взрывом бомбы Маннанов был оглушен. За этот бой, который он вел один на виду у нашей пехоты до тех пор, пока к нему не подоспела помощь, Ильдару Маннановичу Маннанову было вскоре присвоено звание Героя Советского Союза.
В боях за Тихвин наши воины проявляли массовый героизм, который вызывал в душе каждого солдата восхищение, потрясал до глубины души, заставляя с удесятеренной силой отдаваться ратному труду. Эти вести о беспримерной храбрости наших товарищей по оружию доходили и от войск, наступавших на Тихвин с севера и северо-запада. Их приносили на огневые позиции батареи обычно разведчики и связисты, приходившие с наблюдательных пунктов. О некоторых из них приходилось читать в дивизионной газете. Такие весточки о ежечасных подвигах, которые совершались в боях за Тихвин, заставляли солдат буквально преображаться на глазах. Любая трудность начинала казаться пустяком, мелочью по сравнению с теми чудесами храбрости, которые творили вокруг нас такие герои. Я примечал, что, прослушав очередное сообщение солдатского телеграфа об исключительном примере героизма, и рядовые и сержанты, не сговариваясь, спешили каждый к своему месту, с каким-то остервенением вгрызались в неподатливую землю, выжимая из себя все силы, какие только можно было выжать.
В один из последующих дней немецкий самолет-разведчик, покружив над орудиями и пересчитав, наверное, не только орудия, но и количество ящиков со снарядами, улетел в сторону Тихвина. По правилам следовало убираться прочь с этого места, но надвигались спасительные сумерки, и мы, посовещавшись, решили не менять позицию. К орудиям непрерывно подвозили боеприпасы.
С утра началась невиданная по своей силе артиллерийская подготовка перед решительным штурмом города. Артиллерийскому наступлению на фронте всегда предшествует упоительная тишина. Тишина сначала воцарилась и в это утро. Орудийные расчеты подтаскивали к орудиям ящики, выкладывали снаряды, заряды, наводчики в десятый раз заглядывали в прицельные приспособления. Последовала команда натянуть шнуры. По команде «Огонь!» ударили все орудия полка. Потом каждое орудие стреляло с возможной предельной скоростью. Словно тысячи громов из грозовых туч спустились на землю и собрались на одной поляне, стараясь на мелкие кусочки разодрать воздух. Позиция батарей быстро заволоклась сизым удушливо-едким дымом. Вскоре впереди орудий снег растаял метров на двадцать, позади орудий стали расти горы стреляных гильз. Через некоторое время стала гореть краска на стволах. Из каналов стволов при открывании затворов ручейками стекала гарь. Сознавая приближение штурма, орудийные расчеты работали с предельным напряжением сил. Чтобы поддержать темп огня, орудийная прислуга прикладывала к стволам для охлаждения снег, для протирки зарядных камер, из которых не успевала стекать гарь, в ход пошли портянки. Неосторожные движения заряжающих причиняли рукам ожоги.
Голова отказывалась воспринимать ужасающий грохот выстрелов, наводчики давно перестали слышать команды и, показывая на уши, мотали головой, отдельные солдаты стали оседать на снег от усталости – подносить двадцатидвухкилограммовые снаряды было нелегко. Артиллерийское наступление продолжалось уже много часов подряд.
Комиссар, неотлучно находившийся на батарее, приказал организовать кормление людей, и на позиции тут же стали доставлять котелки с супом. Отдавая команды, стоя позади орудий, я смотрел, как наводчик ближайшего орудия, прильнув к панораме, правой рукой вращал маховик прицельного приспособления, а в левой держал котелок: дернув за шнур, он пытался, пока накатывает ствол после выстрела, отхлебнуть глоток супа. Это ему редко удавалось, темп стрельбы был большой. Я подошел к наводчику и подменил его. К наводчикам в артиллерии отношение особое, как к первой скрипке в оркестре.
Машины со снарядами одна за другой подъезжали прямо к орудиям. После разгрузки, в которой принимали участие все, кто только мог, включая командиров, шоферы стремительно бросались в кабины и, оглушительно газуя, уносились на станцию. Водителей охватил азарт боя, они понимали, что сейчас от них зависит многое.
Только к вечеру последовала команда: «Стой!» Я во время боя даже перестал записывать количество израсходованных снарядов. Подсчитали потом пустые гильзы зарядов. Примерно по 400 снарядов на орудие выпустила в этот день наша гаубичная батарея. В пушечных батареях, с большей скорострельностью орудий, расход снарядов был значительно больше. Огонь такой интенсивности нашему полку долго потом не приходилось вести. Этот сокрушающий огонь по вражеским позициям причинил ему немалый урон. Такая огневая мощь радовала, окрыляла, убеждала, что дни хозяйничанья гитлеровцев в Тихвине сочтены.
После короткого перерыва еще раз сделали силами артполка огневой налет по позициям противника в городе, который длился недолго. Теперь уже отстрелялись, отметил я про себя, пехота пошла на штурм города. Конечно, нам никто с передовой не объявлял об этом. С наблюдательного пункта передаются только команды на ведение огня: прицел такой-то, снарядов столько-то… Линия связи между НП и орудиями прокладывается не для выражения эмоций, она должна быть всегда чистой, но что после чего следует – всегда можно понять, как в шахматной игре у хороших игроков.
65-я дивизия при штурме была перенацелена на южную окраину города и повела наступление на железнодорожный вокзал. Все батареи артполка быстро снялись со своих позиций и двинулись в боевые порядки пехотных полков поддерживать своим огнем наступающие части. Лошади по брюхо в снегу с трудом тащили тяжелые гаубицы по открытому полю вокруг города, и поэтому мы вскоре отстали от пехоты, которая при поддержке пушечных батарей уже, наверное, где-нибудь ворвалась в город.
Ожидая перед собой сопротивление противника, мы метров за триста до вокзала сняли орудия с передков и отправили упряжки подальше назад, а сами, с неимоверными усилиями налегая на спицы колес, стали метр за метром продвигаться вперед, готовые в любую минуту повести огонь прямой наводкой. Но звуков боя пехоты в районе вокзала не было слышно.
– Пехота, наверное, прошла в стороне от вокзала, – послышался голос.
– Затаились, – высказал кто-то предположение.
– Подпускают ближе, сейчас ударят.
Чем ближе мы подходили к вокзалу, тем быстрее становился темп движения орудий, тем ниже мы пригибались, с секунды на секунду ожидая огня противника. Потом стала возникать уверенность, что впереди никакого противника нет. Но штурм есть штурм, порыв еще продолжался. В поте лица мы преодолели последние метры до железнодорожной колеи, перевалили через рельсы и… раздался голос батарейного балагура:
– Все! Конец штурма: город взяли!
Только что рассветало. Мы еще переводили дух от усталости, как посыпались разочарованные голоса:
– Удрали! Упустили!
– Да нет, пехота, наверное, ведет бой в центре города. Слышите?
Упряжки лошадей с передками подогнали к орудиям, приняли походное положение и стали ожидать команды на дальнейшее движение.
Гитлеровцы под напором наших частей, наступавших с трех сторон, уже не думали об удержании города. Стремясь спастись от полного разгрома, они начали спешно выводить ночью свои части из города по дороге в сторону Будогощи. Они оставили город и даже сняли заслоны, прикрытия при поспешном отступлении.
Пехотные части в разных местах выходили на противоположный берег Волхова и вели тяжелые бои. Как и ожидалось, гитлеровцы дрались на рубеже Волхова отчаянно, пытаясь сбросить наши части с плацдармов и удержать рубеж по реке.
Комбат дал приказ переправиться на другой берег Волхова, где шли бои уже в двух километрах от берега и где находился его наблюдательный пункт. Мы уже были на другом берегу и, двигаясь по дороге, увидели связистов. Они сидели возле дороги со своими катушками в ожидании нас – успели проложить связь от НП.
– Скорее устанавливайте орудия, – торопили они, – фрицы начинают новую атаку! Бой идет за этим лесом, на опушке!
Мы без промедления загнали упряжки с орудиями в удобное место возле дороги. С наблюдательного пункта комбат стал передавать команды на ведение огня. На таком малом прицеле нам еще никогда не приходилось стрелять. Так близко ставить орудия позади своего наблюдательного пункта было нерасчетливо.
Только в данном случае это было оправдано, если предполагалось выдвинуть орудие на открытое место для стрельбы прямой наводкой, то есть для стрельбы шрапнелью.
Орудия вели интенсивный огонь. Я по командам, передаваемым комбатом, старался представить, что там происходит.
Прибежал связист с передовой, схватил карабин, гранаты и, убегая назад, успел только сказать:
– Бой идет за этим лесом, нашей пехоты мало, фрицы лезут напролом, вот-вот могут здесь появиться! Будьте готовы спасать орудия, держите упряжки наготове. Комбат сказал, что сообщит, если связь будет целой. Глядите в оба сами все время!
Поблизости от орудий стали рваться немецкие мины. Орудийные номера не обращали на них внимания. Я стал опасаться: если будут потери людей, кто вытащит орудия на дорогу, кто будет спасать их? Орудийной прислуги и так мало – по два-три человека на орудие. В последнее время пришлось по приказу давать пополнение в пехоту. Я стал уже сам работать за орудийный номер – подносить снаряды. При каждом завывании очередной мины я кричал солдатам «ложись». Одна мина плюхнулась в десяти шагах, ушла под снегом в болото и взорвалась, выбросив на два метра в высоту немного грязи. В момент падения мины мы инстинктивно все пригнулись, а после взрыва повеселели.

