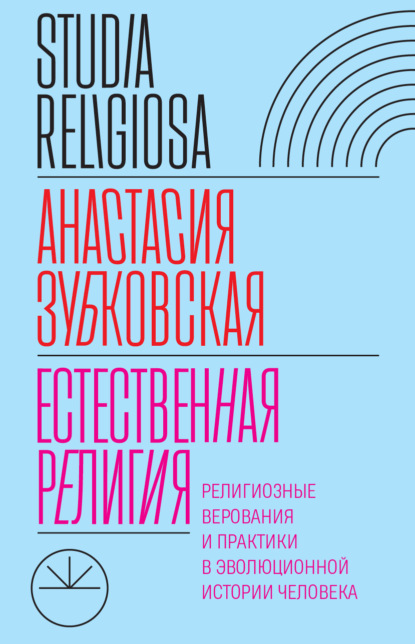
Полная версия:
Естественная религия. Религиозные верования и практики в эволюционной истории человека
Мирча Элиаде писал об Отто так:
…он прочитал Лютера и понял, что означает для верующего «живой Бог». Это не бог философов и не Бог Эразма, это не какая-то идея, абстрактное понятие, простая моральная аллегория, это – страшная мощь, проявляющаяся в божьем «гневе»35.
Человек религиозный, пишет он, имеет уникальную способность превращать свою реальность в насыщенное, могущественное бытие, поэтому современный секулярный человек живет в «неосвященном» Космосе.
Священное как бы становится важным краеугольным камнем в описании homo religiosus, но в европейской интеллектуальной культуре оно все больше подвергается секуляризации, отделяясь от божественного, и в конце концов становится неразрывным партнером для профанного. Так понимал религиозную природу человека нидерландский теолог и феноменолог религии Герард ван дер Леув. Он учил, что сознанию человека присуще противоречие между священным и мирским (сакральным и профанным), именно эта диалектика делает его homo religiosus, и одна из важных задач феноменологии религии состоит в том, чтобы помочь человеку осознать внутри себя это противоречие. Элиаде считал, что, даже если современный секулярный человек считает себя никак не связанным с религией, его жизненный опыт все равно «крипторелигиозен», то есть он как бы латентный верующий, только его религиозность направлена не на священное, а на мирское.
Мне кажется, что современный светский человек, скорее всего, будет против этого заявления, да и вообще в целом концепции homo religiosus. Говоря о человеческой природе, тот, кто обладает научным мировоззрением, с уверенностью будет утверждать, что человек – это животное. Он относится к царству животных, типу хордовых, классу млекопитающих, отряду приматов, семейству гоминид, роду человек, виду человек разумный. Понятие homo sapiens придумал в 1735 году шведский биолог, отец биологической систематики Карл Линней, автор фундаментального труда «Система природы». Там он высказался насчет того, чтобы отнести человека к приматам, поскольку его наблюдения свидетельствовали о большом сходстве между человеком и обезьяной, но на него сразу же обрушилась теологическая критика, поэтому Линней предложил термин «антропоморф».
Проблема происхождения и развития человеческого вида изучается в рамках эволюционной антропологии. Немалый вклад в эволюционную теорию человека внес Чарльз Дарвин. В «Автобиографии» он отмечает, что по крайней мере до 1836 года был религиозным человеком. Он не был склонен к тому, чтобы отказаться от веры, мечтал, что евангельская история будет подтверждена документально какими-нибудь неожиданно найденными древними рукописями. Однако со временем Дарвину становилось все сложнее находить опору для своих религиозных взглядов, он начал испытывать сомнения (в частности, он упоминает сомнения по поводу того, что Ветхий Завет – это не ложная история мира). После смерти дочери Анны в 1851 году он окончательно разорвал связь с религией. После этого он начинает все больше задумываться о естественном эволюционном происхождении человека, хотя сама теория эволюции, как и предшествующие ей учения, воспринималась неоднозначно. Когда капитан корабля «Бигль», на котором Дарвин совершал кругосветное путешествие, высказался против теории эволюции, тот саркастично сказал:
Жаль, что он не предложил своей теории, согласно которой мастодонт и прочие крупные животные вымерли из‑за того, что дверь в ковчеге Ноя была сделана слишком узкой, чтобы они могли туда пролезть36.
До своего плавания Дарвин хотел стать священником, но экспедиция сильно изменила его, он вернулся с твердым намерением стать ученым и экспертом, как тот, кто его очень вдохновлял, – геолог Чарльз Лайель. Они вели переписку, в том числе обсуждая проблему человека и Разумного Замысла. Однако Лайеля отталкивало то, что предком людей, согласно теории Дарвина, является обезьяноподобное существо, «оранг», поэтому не соглашался с Дарвином.
В своей главной книге «Происхождение видов путем естественного отбора» Дарвин скромно отмечает: «Много света будет пролито на происхождение человека и на его историю»37. Спустя почти 12 лет он публикует работу «Происхождение человека и половой отбор», где уже с большей уверенностью приводит аргументы в защиту происхождения человеческого вида от других живых существ. Вот, например, он пишет:
Если мы обратимся теперь к ближайшим родственникам человека и, следовательно, к животным, наилучшим образом представляющим наших древних прародителей, то найдем, что кисти рук у четвероруких устроены по одному образцу с нашими38.
У него был свой взгляд и на происхождение этики:
Нравственная природа человека поднялась до своего настоящего уровня отчасти вследствие развития его мыслительных способностей, а следовательно, и здравого общественного мнения, но главным образом благодаря тому, что симпатии человека стали нежнее и шире под влиянием привычки, примера и образования39.
Он допускал, что нравственность может быть «натренированным» у предков и унаследованным признаком и корень ее лежит в «общественных инстинктах», однако насчет естественного происхождения религии он высказывался категорично:
Невозможно, однако <…> утверждать, что вера врождена или инстинктивна у человека. Но с другой стороны, верование в распространенных повсюду духовных деятелей является, кажется, всеобщей и, по-видимому, составляет плод значительного развития таких способностей, как воображение, пытливость и удивление. Я знаю, что многие ссылаются на наличие этой предполагаемой инстинктивной веры в бога как на доказательство его существования. Но такое заключение слишком поспешно; допустив его, нам пришлось бы верить в существование многих жестоких и злобных духов, обладающих несколько большей властью, чем человек, потому что верование в них несравненно больше распространено, чем вера в благодетельное божество. Понятие о едином и благодетельном творце не рождается, по-видимому, в уме человека до тех пор, пока он не достигнет высокого развития под влиянием долговременной культуры40.
Он далее пишет, что признает: выводы, следующие отсюда, «будут сочтены нерелигиозными».
В истории наук о человеке размышления Дарвина сыграли большую роль, потому что во многом благодаря ему в европейской интеллектуальной культуре постепенно формируется и утверждается новая парадигма – натуралистическая. Человек рассматривается не в его связи с Богом и священным, но прежде всего как участник естественной истории, точно так же как остальные живые существа. В определении человека как биологического вида нет ничего, что указывало бы на его религиозность как на отличительную черту. Тем не менее, ограничиваясь рамками только естественного происхождения человека, мы должны заключить в натуралистические рамки и все то, что человек изобрел, придумал и открыл.
Понятие «натурализм» придумал известный эволюционист по прозвищу «бульдог Дарвина» Томас Хаксли. Я уже упоминала его, поскольку он автор понятия «агностицизм» и, вообще, он, видимо, очень любил методично формулировать различные термины и делал это удачно, так как многие его придумки стали неотъемлемой частью научной культуры и самих наук о жизни41. Размышляя о природе человека, Хаксли писал:
Нет никакой абсолютной структурной линии демаркации между животным миром и нами <…> попытка провести психическое различие столь же бесполезна, поскольку высшие способности чувствования и интеллекта начинают прорастать уже в низших формах жизни42.
Натурализм он понимает как такой способ описания реальности, который заранее исключает наличие в окружающем мире чего-то сверхъестественного, необъяснимого, и даже если в природе находится какая-то непостижимая тайна, то ее непременно можно и нужно постичь с помощью эмпирических методов.
Натурализм тесно связан с эмпирическими науками, материализмом и атеизмом. Сам Хаксли вложил немало усилий в антирелигиозную критику и в том числе пытался проанализировать события христианской истории с точки зрения науки. Мне нравится выражение философа Рональда Намберса, что натурализм – это «переоценка взаимоотношений между естественным и сверхъестественным»43. Эту фразу, как мне кажется, можно интерпретировать так, что натурализм не просто борется со сверхъестественным, критикует и высмеивает его, а скорее подчиняет себе, указывает, что у каждого чуда есть научное объяснение. Проще говоря, любое сверхъестественное имеет естественные причины и физическое основание. В этой картине мира Бог и даже библейски точный ангел будет иметь научное объяснение. Здесь надо сказать, что натурализм почти всегда верен сциентизму, который отводит науке исключительную роль в познании и объяснении реальности44.
В общем, диалог между религией и наукой в Новое время был отнюдь не гладким, но очень интересным и плодотворным. Мне не хочется описывать отношения классической науки и христианской религии как борьбу противоположностей или вечный спор о природе реальности, потому что это куда более сложная и запутанная история, достойная своей минуты славы (и моих текущих и будущих исследований!). На чем здесь можно сосредоточить внимание, так это на том, что в европейской культуре XIX столетия произошло смещение религии из публичной сферы в приватную. В этот период религиозная вера, как говорят социологи, постепенно становится частным делом каждого индивида, она снижает влияние на политическую сферу и отделяется от государства. Такой процесс в социологии называется секуляризацией, то есть, проще говоря, это возникновение светского публичного пространства. В результате этого процесса мы наблюдаем, как европейская культура снова разделяется на две области – религиозное и светское. Это разделение, похожее на то, о котором говорили феноменологи религии – священное и профанное, – но применимое к социальной сфере, как будто более «приземленное».
В XIX веке религия становится сферой сверхъестественного (supernatural), понимаемого буквально как сверхприродное, недоступное эмпирическому исследованию. Мы могли убедиться в этом на примере феноменологического движения. Священное, будучи предметом необъяснимым и неприкосновенным, всегда хранит в себе тайну, недоступную для научного внешнего изучения, и может быть постигнуто только во внутреннем опыте. Однако диалог религии и науки не завершается на этом разграничении, последняя продолжает «расколдовывать мир», в том числе предпринимая попытки препарировать саму религию. Социолог Макс Вебер в лекции студентам Мюнхенского университета провозглашает следующее:
…мир расколдован. Больше не нужно прибегать к магическим средствам, чтобы склонить на свою сторону или подчинить себе духов45.
И хотя иронически мы могли бы из двадцатых годов XXI века усмехнуться, что лучше бы нам все-таки склонить на свою сторону духов и заколдовать мир обратно, наука уже кардинально изменила наше восприятие мира. Для человека, получившего научную прошивку, священное становится научной проблемой, а не невыразимой тайной. Означает ли это, что человек из homo religiosus эволюционировал в homo saeculum?
Конечно, я не хочу сказать, что только в XIX веке человек начал размышлять о том, как и почему возникла религия. Все это уже было у древних греков (как и многие другие научные и философские проблемы). К примеру, Диоген Лаэртский сообщает нам о Ксенофане, который открыто критиковал богов и религию. Он говорил, что люди придумали богов, поэтому те так похожи на них самих, и, мол, если бы у лошадей тоже были боги, они, соответственно, были бы похожи на лошадей. Теорию «заговора правителей и священников» тоже придумали очень давно. Секст Эмпирик приводит стихи из драмы «Сизиф» афинского тирана Крития, в которой рассказывается, как некий разумный законодатель изобрел богов, чтобы люди под страхом божественного наказания не нарушали законы. Иногда в литературе эту драму приписывают Еврипиду. В IV веке до н. э. появилась другая известная гипотеза происхождения религии, придуманная философом Евгемером. Он считал, что боги и различные мифологические персонажи раньше были обычными людьми, но со временем, благодаря легендам об их заслугах, стали обожествляться, так и возник религиозный культ.
Многие философы находили источник религии в страхе перед явлениями природы или в более сложных психологических явлениях. Философ Людвиг Фейербах считал, что религия имеет абсолютно антропологические основания: она есть только у человека, потому что он обладает сознанием и самосознанием, а Бог, по его словам, – это как бы некоторая объективация человеком самого себя: «Сознание Бога есть самосознание человека, познание Бога – самопознание человека»46 и «Откровение божье есть только откровение человеческой природы»47. Фейербах считал, что религия происходит из особенностей восприятия себя и окружающей среды, страха и любопытства перед силами природы, и поскольку у нее такие естественные истоки, то она есть нечто психологическое, иррациональное, чувственное.
Пожалуй, самый большой вклад в разработку проблемы происхождения религии сделали культурные антропологи XIX – начала XX века. Их оптика сильно отличалась от «эйдетического видения» феноменологов религии, которые исходили из внутреннего постижения религиозного опыта. Антропологическое исследование – это, напротив, внешнее наблюдение за ним и выведение закономерностей. Мне кажется, что поэтому антропологические теории имеют больший объяснительный потенциал, чем феноменологические: они «расколдовывают» религию, помещают ее в социальный и культурный контекст, где она рассматривается как структура, система из составных элементов.
Основываясь на этнографическом материале, антропологи пытались отыскать первичную форму религии в истории человечества. К тому времени эволюционизм уже начали адаптировать к культурным и социальным теориям. Основоположником классического эволюционизма в антропологии религии считается английский ученый Эдуард Тайлор. Вместе с другом, банкиром и коллекционером Генри Кристи, он отправился в Мексику, где попутно делал этнографические заметки. Об этом путешествии Тайлор рассказал в своей первой книге «Анауак, или Мексика, мексиканцы древние и современные». Вернувшись в Англию, он продолжил свои антропологические исследования. В 1871 году он опубликовал труд «Первобытная культура. Исследования развития мифологии, философии, религии, языка, искусства и обычаев», который впоследствии стал одним из главных текстов в культурной антропологии. Дарвин прочел эту книгу и написал Тайлору: «Она заставит меня в будущем рассматривать религию – веру в душу и т. д. – с иной точки зрения»48. Хотя он в те годы сам уже редко высказывался о религии, по всей видимости, работа действительно произвела на него большое впечатление.
В «Первобытной культуре» Тайлор излагает теорию развития сложных форм религии из простейшего элемента – анимизма. Вера в духовных существ – это «минимум религии», своего рода спиритуалистическая философия древних людей, которые таким образом пытались объяснить для себя окружающий мир. Представьте себе, что человеку впервые приснился яркий и реалистичный сон, как он путешествует. Проснувшись, он будет думать: «Что это было? Путешествовал ли я в самом деле?» Его размышления приводят к тому, что, скорее всего, у человека есть двойник, который действительно отправился в путешествие, когда тот уснул. Этот двойник, вероятно, живет внутри него. Он более гибкий, легкий, полупрозрачный, скорее всего, он выходит из отверстий в теле – ноздрей и рта. Духовный двойник. Это его душа. Душа может покинуть тело человека не только во сне, но и при обмороке, во время транса или сердечного приступа, с наступлением смерти. Куда отправляется душа, когда умирает человек? Может ли она выбрать себе другое тело или бродит по земле? Хочет ли душа есть и пить? Испытывает ли она зависть, страх, гнев и другие эмоции? Скорее всего, душа умершего может отомстить или стать лучшим другом. Что я могу сделать для того, чтобы духовные существа мне не навредили? Если духи хотят есть, я поделюсь с ними добычей. Как духи помещаются на земле в таком количестве? Могут ли они обрести новое тело или отправиться на небеса к другим духам? Кто был самым первым духом на земле? Кто создал всех остальных? Из чего? Постепенное расширение анимизма путем размышлений приводит к образованию все более сложных форм религии, в которых появляются культ, ритуал, миф, теология и т. д.
Концепция «дикаря-философа» в дальнейшем критиковалась. Современное переосмысление анимизма критиками Грэмом Харви, Хубертом Фихте, Эдуарду Вивейруш де Кастру и другими фокусируется на том, что анимизм Тайлора был слишком метафизическим, разделяющим культуру людей на спиритуалистическую и материалистическую сферы. Получается как будто, что охотник-собиратель выделял какое-то специальное время для философских размышлений. На самом деле, как пишут современные теоретики, анимизм – это некая материальная связка человека с окружающим миром, а не побочное метафизическое явление. Это наблюдение мне кажется вполне справедливым, я объясняю его тем, что Тайлор не был материалистом. Хотя у него довольно критическая теория, но, на мой взгляд, он тоже довольно эмпатично подходил к своим исследованиям. Вероятно, на это повлияло его происхождение из семьи квакеров.
Друг Чарльза Дарвина политик и ученый Джон Лаббок писал, что первоначальным мировоззрением в истории человечества можно считать атеизм. Он понимает его не как отрицание богов, а как их отсутствие в картине мира, это «естественное состояние дикого и необразованного ума»49. Религиозные представления появляются в связи с тем, что человек начинает размышлять по поводу сна, смерти и потери сознания. Даже первые боги, которых придумал человек, пишет Лаббок, были связаны с этим, как, например, в римской мифологии Сомнус и Морс, боги сна и смерти, дети Нокс – богини ночи50.
Из-под руки Лаббока выходит совершенно противоположный homo religiosus культурный вид. Противоречие этих двух концепций относительно религиозной природы человека снимает французский социолог Эмиль Дюркгейм, объявляя человека homo duplex.
Человек, – пишет он, – во все времена живо ощущал эту двойственность. В самом деле, повсюду он представлял себя состоящим из двух полностью разнородных существ: с одной стороны, тела, с другой – души <…> такое повсеместное и неизменное верование не может быть просто иллюзией…51
И далее:
Старая формула homo duplex подтверждается фактами. Наше устройство отнюдь не просто, наша внутренняя жизнь словно бы обладает двойным центром притяжения. С одной стороны, это наша индивидуальность, а точнее – наше тело, на котором она основана; с другой стороны – все, что выражает в нас нечто иное, нежели мы сами52.
В общем, как говорил Блез Паскаль, человек – одновременно и ангел, и животное, он никогда не может быть чем-то одним. Дюркгейм говорит, что дуализм человека всегда выражается в религиозной форме, и поэтому даже человек, не относящий себя к какой-либо конфессии, все равно чувствует эту двойственность внутри и старается ее каким-то образом оформить в своем мировоззрении.
Собственная двойственность воспринимается человеком как сакральная, а сакральность Дюркгейм рассматривал как неустранимый элемент социальной жизни человека. Священное у него окончательно обретает гравитацию, я бы даже сказала – становится рутиной, потому что он объявляет его
результатами доступной научному анализу психической операции, в высшей степени творческой и плодотворной, которую называют слиянием, общностью множества индивидуальных сознаний, объединяющихся в общее сознание53.
При этом сакральное не исчезает как явление, оно настойчиво продолжает присутствовать в социальной и культурной жизни человека разумного. Нельзя определить какую-то конкретную форму, хронологическую или географическую точку, когда появилась религия. Дюркгейм утверждает, что религия не начинается нигде, точно так же как и любой другой социальный институт. Религия – социальное явление. Вместе с другими социальными сферами она является естественной и имманентной для общества, которое, в свою очередь, объявляется sui generis. Человек, таким образом, тоже homo religiosus, но уже в некотором новом смысле.
До сих пор, говорит Дюркгейм, происхождение религии пытались объяснить двумя путями – натуризмом (то есть из культа природы) и анимизмом (то есть из культа духов), однако эти две крайности его не удовлетворяют, потому что довольно искаженно трактуют палеопсихологию. Так, например, Тайлор считал, что древний человек не умел проводить различие между одушевленными и неодушевленными предметами, так же как это не умеют делать дети и животные. Однако на самом деле (и об этом пишет впоследствии Герберт Спенсер) детский анимизм не похож на анимистическую картину мира, поскольку ребенок, к примеру, осознает разницу между куклой и человеком, точно так же как животное четко отличает живую муху от неживой. Анимизм как религиозная форма отличается от анимизма вообще тем, что в нем используется категория сакрального. Точно так же романтическое чувство возвышенного при созерцании Альп отличается от подношений горным духам – тем, что оно связано с понятием священного и имеет большое социальное значение. Задача натуралистических теорий религии, стало быть, состоит в том, чтобы найти естественные причины этого.
И мы ничего не объясним в религии, пока не выясним, как возникла эта идея, к чему она относилась и что могло способствовать ее появлению в сознании человека54.
Влияние Дюркгейма на последующую науку невозможно измерить. В религиоведении его идеи тоже предваряют огромное количество теорий и различного рода наблюдений. Современное когнитивное и эволюционное религиоведение – это в определенном смысле неодюркгеймианство, поскольку религия рассматривается ими как естественное социальное явление, дающее определенные бонусы для участников социального процесса. Дюркгейм доказывал, что ритуалы и верования позволяют членам общества быть более солидарными, и эта проблема тоже рассматривается в эволюционных теориях религии, в частности через понятия альтруизма и группового отбора.
Надо сказать, что теория эволюции тоже имеет очень насыщенную историю развития. Начиная с 1859 года, когда была опубликована книга Дарвина «Происхождение видов», и до сегодняшнего дня эволюционизм является фундаментом для естественных наук, и его роль в научной картине мира уже даже не обсуждается. Сначала теория эволюции двигалась вслепую, затем были открыты законы генетики. За период чуть более 160 лет эволюционизм стали применять не только в науках о жизни, но и в социальной теории, гуманитарном знании. До сих пор существуют попытки объединить эволюцию и креационизм. Теория эволюции собрала немало сторонников и критиков; мне кажется, что справедливо будет сказать о ней как о научной революции.
Под современным эволюционизмом чаще всего понимают «современный эволюционный синтез» или «синтетическую теорию эволюции» (modern evolutionary synthesis, сокращенно СТЭ), которая возникла между 1937 и 1950 годами благодаря советско-американскому биологу Феодосию Добржанскому. Суть СТЭ сводится к тому, чтобы согласовать дарвинизм и генетику. Этот синтез в конце концов привел к объединению вокруг теории эволюции различных естественных наук. Со временем СТЭ тоже стали пересматривать, и возникло движение «расширенной теории эволюции» (extended evolutionary synthesis). Его сторонники предлагают включить в теорию недарвиновские принципы развития (например, принцип «прерывистого равновесия» помимо или вместо дарвиновской постепенной эволюции). В отличие от классического эволюционизма современные эволюционные исследования уходят от иерархичности и градуализма в объяснении того, как развивается природа. В них применяется более гибкая методология, которая действительно позволяет расширить эволюционную теорию, включить в нее синтез и социальные науки тоже, ответить на вопрос, является ли человеческий вид «венцом эволюции».
Науки вообще всегда стремятся к тому, чтобы строить между собой мосты. Сегодня происходит мощная коллаборация разных дисциплин, направлений, школ, методик и т. д. – то, что мы называем междисциплинарным знанием. Предмет исследования тоже не присваивается какой-то определенной наукой или направлением. Гуманитарии изучают грибы, реки, компьютеры, представители естествознания исследуют религию, мораль и любовь. Человека по-прежнему изучают и те и другие, но уже с более критической точки зрения, не как торжество эволюции природы, а как ее самый неоднозначный продукт. Он двусмысленный главным образом из‑за своего разума. Конечно, и раньше в интеллектуальной истории никто не считал человека простым (например, для христианских схоластов, в отличие от единого Бога, человек – это 1+1), но во второй половине ХX века все в очередной раз в этом убедились благодаря возникновению когнитивных наук.
В 1956 году американский психолог Джордж Миллер опубликовал статью «Магическое число семь плюс-минус два», в которой рассказал о своем открытии: кратковременная память человека не может запомнить более 7 ± 2 элементов55. Это открытие позже назвали «кошелек Миллера», как бы имея в виду, что в память, как в кошелек, нельзя положить более семи (± 2) монет. Такая же особенность позже была обнаружена и у муравьев56. В том же 1956 году на семинаре в Дартмутском колледже американский информатик Джон Маккарти впервые использовал термин «искусственный интеллект», тем самым расширив понятие интеллекта вообще: теперь он не только прерогатива человека разумного. К тому времени Алан Тьюринг и Джон фон Нейман уже поставили проблему мышления машин и его сравнения с человеческим разумом57, а Марвин Мински защитил первую диссертацию, посвященную нейронной сети58. В 1957 году вышла в свет книга, перевернувшая представление о языке и мышлении, – «Синтаксические структуры» американского лингвиста Ноама Хомски59. Началась когнитивная революция60. Психология, лингвистика, компьютерные науки, антропология, нейробиология, философия и другие науки образовали междисциплинарную область исследования человеческого и нечеловеческого мышления как процессов переработки информации. Для когнитивных наук эволюционизм стал полезным фреймом, и со временем их сотрудничество привело к появлению новых дисциплинарных областей (например, эволюционной психологии).



