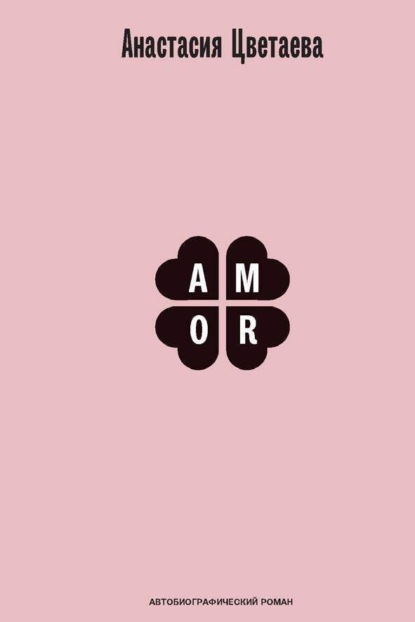
Полная версия:
Amor. Автобиографический роман

Анастасия Цветаева
Amor. Автобиографический роман

Издательство выражает благодарность директору Дома-музея
Марины Цветаевой в Москве Юлии Александровне Чурсиной
за помощь в подготовке этой книги

© О. А. Трухачёва, текст, 2024
© Ст. А. Айдинян, вступительная статья, комментарии, составление, 2024
© Оформление. ООО «Бослен», 2024
Станислав Айдинян
Роман Анастасии Цветаевой «Amor»
А. И. Цветаева – признанный мастер русской художественной мемуаристики, автобиографического жанра. Уже первые её прозаические книги, вышедшие в эпоху Серебряного века, были автобиографичны, построены на дневниковых записях.
Есть книги, в которые чем дальше вчитываешься, тем глубже в них погружаешься. К ним относится роман Анастасии Ивановны Цветаевой «Amor», персонажи которого будто двигаются по шахматной доске прожитой ими жизни. Роман не выдуман, а «додуман», «дочувствован», достроен из жизненного материала, из того, что действительно было… Он – плод преображённой эмоциональной памяти.
«Amor» создавался в много этапов. Первоначальный вариант родился в 1938–1939 годах, когда после ареста в 1937‑м Анастасия Ивановна была тройкой осуждена на десять лет исправительно-трудовых лагерей. Уже в лагере после тяжёлых физических работ её взяли в сметно-проектное бюро. Там она общалась с прототипом основного героя романа. Писала на папиросной бумаге, которую в лагере выдавали курящим, и через вольнонаёмных передавала частями на волю. Но многие страницы до Москвы не доехали, их выкурили по дороге. Анастасия Ивановна рассказывала: «Когда я вновь была арестована, была в Вологде и потом сослана навечно, следователь, который прочёл страницу из „Amor“, сказал: „Я посмотрел его, это культурная ценность. Можете взять с собою в ссылку. Я сказал солдату, чтобы он положил рукопись в ваши вещи“. Но он не учёл, что по дороге будет шмон. Именно это слово однажды мелькнуло в его обычно аккуратной, разливчатой речи. И вот я была поставлена к стене. Потом заперли в бокс. И там я поняла: чтобы сохранить, надо положить бумаги в другой мешок и на дно. Тогда рука, дойдя до дна, наткнувшись на слой материи, может и не заметить, не прощупать бумагу. А знаете, что тогда в тюрьме значила бумага?.. Страшное дело. Это всегда повод для проверки. Но судьба сохранила мне „Amor“».
Собственно, роман «выжил» чудом. С обширной перепиской героев материалы к роману составляли около 1000 машинописных страниц. Анастасия Ивановна уже на воле расшифровала практически нечитаемую рукопись, переписала её. Дала промежуточное название: «Руины романа». Годы спустя возникла надежда напечатать текст в одном из журналов в Эстонии. Для этого Анастасия Ивановна убрала все лагерные реалии. Потом, к 1990 году, наоборот, вернула их и ещё дописала отдельные лагерные сцены и мелкие подробности.
«Amor» – настоящий психологический роман с перемежающимся действием, разными сюжетными линиями, со сложной фабулой, объединённой личностью «лирической героини», от лица которой ведётся повествование. Реальный прототип – сама Анастасия Цветаева, романное имя которой – лёгкое, летящее имя древнегреческой богини Победы – Ники. У мраморной фигуры этой богини, что стоит на лестнице в Лувре, нет головы и рук, но есть огромные крылья… О ней Анастасия Ивановна впервые услышала в детстве от своего отца, профессора-античника, искусствоведа и эпиграфика И. В. Цветаева, издавшего в 1890–1894 годах три выпуска «Учебного атласа античного ваяния». В основанном им Музее изящных искусств стоял гипсовый слепок статуи Ники Самофракийской в натуральную величину.
Заглавие книги имеет тоже античное происхождение – от латинского «Любовь»… «Amor est vitae essentia» – «Любовь – это суть жизни», – утверждали римляне в давние времена. Анастасия Ивановна говорила, что, давая книге имя «Amor», имела в виду любовь не в чувственном, а в подчёркнуто духовном смысле. На протяжении всего основного действия идёт своеобразный «диалог судеб» между героиней и начальником сметно-проектного бюро Морицем, человеком, который затронул её глубины, заинтересовал как неординарная личность. Мориц – энергичный и эрудированный, волевой и эмоциональный. Однако в нём проявлялись порой и моменты душевной глухоты. Её ужасало, возмущало в нём то, что он живёт без борьбы с собой. И Ника, как и Анастасия Ивановна, верная себе, ведёт бой за душу Морица, пытается звать за собой ввысь…
Ключом к «роли» образа героини в романе могут послужить её слова: «Но ведь это ужасно – быть таким человеком, как я, таким восприимчивым, так входящим в чужую душу… какое-то качание на волнах…»
Через все пережитые разочарования Ника чутко стремится к познанию людей, её окружающих, к откровениям их внутреннего мира. Она по призванию писатель. Тут особенно приоткрывается назначение образа Ники, – она не только персонаж, не только действующее лицо, но и трансформированное отражение автора в книге, образ Ники уже предстаёт как художественный «автопортрет» на фоне её трагической судьбы, в буре её взаимодействий с героем романа, с Морицем.
Почему этот противоборствующий диалог двух волевых, даже своевольных натур получился столь живым? Потому что ткань романа соткана с редкой энергией чувства, его полноты… И ещё, по словам автора, она старалась углубляться в психологию героев, писать психологически, – роман в полной и решающей мере густо настоян на психологии, столкновении жизненного восприятия героев. Говоря о романе, Анастасия Ивановна настаивала именно на таком его понимании…
Мориц и герой, и антигерой. Он привлекает и отталкивает. С одной стороны, с подчинёнными бывает резок, нетактичен. С другой стороны, в нём – страстная погружённость в работу, забвение себя ради поставленной цели.
Контрастом к его грубости и жёсткости он же в момент отдыха может стать обворожительно любезен, остроумен – «просто другой человек», удивляется Ника и убеждается, что Мориц соткан из противоречий и этими поворотами характера её притягивает, хотя и не отдаёт себе в этом отчёта. Притягивает он полнотой жизни, которой веет от него, полнотой действия – каждого, до победного конца, в нём воля, безжалостная к другим в своём самоутверждении…
Автор даёт подтверждение нашему наблюдению в той главе, где говорится о кратковременном застое дел на стройке, о затишье, которое переживает деятельный Мориц. «Почему-то и время медленно течёт сегодня… Вот было одному дню покоя случиться, как бы насильственному дню отдыха, – и уже нечего делать Морицу, уже всё перепробовано, перечувствовано, вспомнено, уже скоро начнётся: скука! Уже рукой подать до того, что потянет назад, в работу, в ритм и азарт труда… Всё это Ника, должно быть, наглухо пришивает к шубке – так она крепко об этом думает и так крепко сшивает старый мех. Странно, но это так – ей сейчас хочется того Морица, с токами высокого напряжения! Но от этих токов – пропадёшь, потому что они – грубой фактуры, от них кидает то в жар, то в мороз, и постижение их при всём стремлении к человеку – есть сплошное расставание с ним. Этот, который сейчас так лиричен, изыскан и возмещает сторицей то, чего тогда – жаждалось, делает это сейчас слепо: лиризм в такой неразбавленной степени предстаёт Нике – слабостью. Она им, сама не доосознавая, – обкормлена. То, что было бы добродетелью для Скупого рыцаря, у его расточителя сына – порок. У Ники – тоска и тончайшая ревность к отсутствующим доблестям того Морица».
Да, многоопытную Нику в Морице пленяют не только всеотдающая самоотверженность, темпераментный порыв, «ярая» мужественность. Но это любование сопряжено и с сочувствием, с печалью. Не только потому, что Мориц лишён свободы. Он ещё и болен, у него туберкулёз. Лишь позже искушённый читатель станет приглядываться к Морицу и увидит в его страстной погружённости в работу не только врождённый темперамент, но и болезненную горячность.
И этим он совпадает со своим реальным прототипом, которого Анастасия Цветаева встретила в лагере. Звали его Арсений Аркадьевич Этчин (27 февр. 1901 – 2 июня 1946). Участник Гражданской войны, член ВКП(б) с 1919 года. Был следователем, работал под руководством Н. В. Крыленко (до 1921 года), был секретарём-референтом народного комиссара иностранных дел Г. В. Чичерина (до 1924 года). От него ушёл работать в Нефтесиндикат. С 1937 года по политической статье отбывал срок на Дальнем Востоке, в лагере, где томилась в заключении А. Цветаева. От А. Этчина остались печатные труды, хранящиеся в Российской государственной библиотеке: «Рационализация у капиталистов и у нас» (Москва; Ленинград: Гос. изд-во, 1927), «Партия и специалисты» (Москва: Московский рабочий, 1928), «О единоначалии» (Москва: Московский рабочий, 1930).
Мне, автору предисловия, приходилось дважды встречаться с вдовой А. А. Этчина, Ольгой Яковлевной Этчин, которой посвящён роман. Она немало рассказывала о муже, о его сотрудничестве со многими крупными организаторами промышленности и строительства, в первую очередь с родным братом партийного руководителя Украины, виднейшим государственным деятелем, членом ЦК ВКП(б) Иосифом Викентьевичем Косиором (1893–1937), у которого был секретарём по хозяйственным делам, с ним ездил в 1929 году в США. Рассказ Этчина-Морица об этом путешествии отражён в «Amor». После поездки он по инициативе некоего Берицкого встречался с И. В. Сталиным, чтобы рассказать ему о том, что видел в поездке. В 13-м томе собрания сочинений И. В. Сталина имеется письмо тов. Этчину от 27 февраля 1931 года о «внутрипартийных противоречиях», в котором вождь отвечает на четыре вопроса, к нему А. А. Этчиным обращённые, говорит и о том, что получил его брошюру, хотя «прочесть не смог (некогда!)».
О. Я. Этчин свидетельствовала: «У нас всегда народ собирался. Арсений любил общение с интересными людьми. Талантливых людей очень уважал, понимал. Умел с ними говорить, помогал им». Называла в круге его общения Андрея Белого, Исаака Бабеля, дома у которого бывал с женой; скульптора Нину Петрову, легендарного оператора советского кино Эдуарда Тиссе, авиаконструктора Андрея Николаевича Туполева. Этчин был и журналистом, писал под фамилией Ольгин (взяв, по примеру друга, писателя Владимира Лидина, псевдоним от имени жены). Статьи Этчина-Ольгина – подвалы и передовицы – можно найти в газетах «За индустриализацию», «Правда», «Известия», особенно в период работы под началом И. В. Косиора. Этчин писал тексты и за него, в этом случае гонорары за статьи они делили.
Ольга Яковлевна рассказывала: «Исаак Бабель очень Арсением интересовался. Видел в нём современного, образованного, разностороннего, активного человека. Каждую неделю приезжал в Хорошёвский бор. Увозил в Горки к жене сына М. Горького, Максима Пешкова, там мы встречались с ней, с Надеждой, невесткой Горького. Там Арсений очень много проводил времени. Возил меня домой к Бабелям».
Когда Арсения арестовали, не имея постоянной работы, Ольга Яковлевна устроилась торговать газированной водой в парке культуры и отдыха, за копейки. Увидев её, И. Э. Бабель подошёл. Сказал, узнав: «А я смотрю, вы, не вы…» Она ему пожаловалась, что её учили обманывать отдыхающих. «Вас обманули, и вы обманывайте!» – он имел в виду, что Арсений Этчин тогда уже был арестован, и это был, по его мнению, своего рода обман. И при этом о Сталине Бабель сказал: «Он посадил Катаева, а я буду его славить?» Бабель имел в виду своего друга, писателя Ивана Ивановича Катаева (1902–1937), советского писателя, который был обвинён в участии в контрреволюционной террористической организации и приговорён к ликвидации Сталиным, Молотовым, Кагановичем и Ворошиловым, чьи подписи стояли на титульном листе расстрельного списка из 81 фамилии. Потом был осуждён и казнён и сам И. Бабель.
Ольга Яковлевна повторяла, что А. И. Цветаева своей опекой и заботой продлила Этчину жизнь. Анастасия Ивановна при мне так надписала номер журнала «Москва»: «Дорогой Ольге Яковлевне Этчин, продолжение романа, где Ваш муж занимает одно из главных мест. Вы читали? (или прочтёте) описание Вашего лица, в которое глядела я, автор, полвека назад… С любовью А. Цветаева на 96 году. 23.05.90».
В проектно-сметном бюро на стройке рядом с Морицем – работает в романе Евгений Евгеньевич, конструктор и изобретатель, дымящий французской старинной трубкой «жакоб». Образованный, воспитанный. У него, как и у Морица, был реальный прототип – Фёдор Фёдорович Попов, как рассказала Анастасия Ивановна, «изысканный человек. Я даю живой кусок жизни. Мы все вместе ехали в этапе. С ним и с Этчиным». Евгений Евгеньевич – своего рода антипод главного героя. «У Морица – естественность дикаря! – вспоминала она слова Евгения Евгеньевича. – А то, что он взял от культуры, связало его по рукам и ногам – вместо того, чтобы ему дать свободу! Мориц – весь ложный, – сказал он ей тогда, в час откровенности, когда ещё не знал, что скоро Ника станет Морицу – другом». Однако Мориц, несмотря на взаимную неприязнь, стремится ради интересов государства продвинуть изобретение Евгения Евгеньевича, сделать так, чтобы в верхах о нём узнали, проявляет при этом благородство, чем вызывает ещё большее уважение у Ники.
Когда Евгений Евгеньевич балует Нику уютными историями из своего детства, стройка, строительный фон, и так не слишком подробно описанный, исчезают, превращаясь в еле различимую теневую абстракцию за плечами героев.
Вообще пришла пора отметить одну важную особенность романа: развитие действия с первых страниц происходит в ограниченном пространстве – в бараке, в помещении проектно-строительного бюро лагеря или вблизи него. Рассказы героев об их прошлом выносят нас за пределы этого постоянного места действия, арены конфликтных ситуаций и порой острых диалогов. Отсюда своеобразная камерность романа, подчёркнутая тем, что на двух основных героях сконцентрировано развитие действия. На Морице, когда он рассказывает Нике о своей жизни, на Нике, когда она говорит или пишет Морицу – о своей. Остальные события в окончательной, сокращённой авторской редакции романа служат иллюстрацией взаимоотношений основных героев.
Говоря о романе в целом, надо сказать, что камерность его подчёркнута и тем, что облик героев не слишком согласуется с нашими традиционными представлениями об инженерах-строителях, о технической интеллигенции. Недаром проектно-сметное бюро на зоне называли «Дворянское гнездо». Может быть, потому в характеристике персонажей не звучат диссонансом эпитеты «грациозный», «элегантный», «изящный»… Но пусть не вводит в заблуждение эта чисто внешняя «непохожесть» – в их действиях, репликах, поступках сквозит естественность, правдоподобность, порой – страстность, они сердечны, человечны.
Показателен следующий фрагмент романа из предпоследней его редакции. «Ника шла по зоне, возвращаясь из кухни, где по доброте нового повара ей удалось испечь на сковородке печенья для Морица из присланного женою его в недавней посылке комочка гусиного сала, засунутого в стеклянную баночку, – это была драгоценность, с трудом раздобытая для больных лёгких мужа, но Мориц, как все чахоточные, ненавидел сало – но в печенье съест его, не узнав. Она шла по мосткам у самого края зоны, вдоль рядов колючей проволоки, взгляд её поднимался на вышку, одну из четырёх, где четыре вохровца в военной форме стерегли их лагерную точку.
Ей вдруг стало ясно, почему и Евгений Евгеньевич, и Мориц рассказывают столь жарко о своём прошлом, о далёком детстве: им довлела их жизнь на воле крепче, чем реальность сегодняшнего дня; несмотря на неприглядность, этот долгий бредовый день когда-нибудь кончится. Они вернутся в своё, дорогое, недожитое…
Но эту отрадную мысль прервал лай сторожевых собак, бегающих у рва, вокруг зоны. Ника уже входила в барак».
Мориц и Евгений Евгеньевич интересуют Нику потому, что в них есть то свойство души, которое люди называют – полёт. У Морица душевно полёт несколько выше, и потому отклик на него в Нике – больше, громче… В нём, в его словах, порою бывали ноты этого полёта…
«Кто знает, где похоронен Григ? – спрашивает Мориц, допивая последний глоток чёрного кофе. – Совершенно один, на скале, на острове, посреди моря. (Так вот он какие вещи понимает, Мориц… отзывается в Нике.)»
И Ника постепенно, от страницы к странице романа, всё более тянется к Морицу. О, как воспринимает она его рассказ о рискованной автомобильной гонке над пропастью, участником которой был Мориц во время своего заокеанского путешествия. Он так заканчивает свой рассказ: «…и шофёр домчал!..
Поза, лицо Морица – словно он проснулся, из яви ещё раз в явь, ещё более явную, городской человек! Страстный любитель городов Европы, всего самого последнего, самого острого, азарт, риск, игра – вот что было центром этого человека! И всё-таки Нике за себя сейчас стыдно – за то, что он её так взволновал рассказом об этой гонке: при победных словах – и шофёр домчал! – в горле, как в детстве, – судорога (ещё миг – и к глазам – слёзы?). В том, что никто не мог так пережить эту гонку, только они оба, было их наедине среди людей в комнате, как будто они вместе мчатся сейчас по Парижу, – его обращение к ней, он её избрал себе в спутники! Ника боится взглянуть на Морица, потому что он может – понять».
Здесь уже отчётливо звучащая жажда единения с ним, уже полюбленным ею. Мастерство Анастасии Цветаевой в том, что она неброско, даже незаметно создаёт с помощью множества кроющихся в тени повествования мотивов ощущение неизбежности углубления чувства Ники к Морицу…
И вот героиня, прожившая, как мы узнаем, жизнь, полную романтических порывов, увлечений и трагических перепутий, вновь переполнена тем, что названо ею «проклятой женской потребностью быть любимой и кого-то любить – одного».
Вновь воспаряет она на крыльях чувств на ту головокружительную высоту, туда, где уже не хватает дыхания и откуда столько раз ветры жизни уносили её на острые камни одиночества и тоски…
Не называя имён (не специально ли – узнать, прочувствовать по реакции), Ника рассказывает Морицу, что говорят о нём в бюро, – о том, что, по мнению многих, он ярый бессовестный карьерист. И далее одно за другим обвинения с чужих слов. И вот как звучит ответ Морица: «Мориц выслушал с тонкой, чуть озорной улыбкой. „Карьерист!“ – говорит он. Одно только слово – но Ника уже пленена его тоном. Надо слышать, как он говорит его! Точно школьник подкинул в небо маленький чёрный мяч! Он вскинул узкую сребро-русоволосую голову (или ей кажется, что он сильно седеет?). „Продвижение по лагерной службе!“ Здесь хотеть „продвигаться“… – и быть бы начальником какого-то… проектного бюро! Он смеётся, чудесно блеснув зубами, и упоительная насмешливость трогает его черты. „Надо быть… моллюском! – говорит он. – Надо было никогда не видеть этого голубого неба, – он чуть поднимает лицо в сияющую, воздушную глубь, – чтобы так говорить“… Конца фразы она не запоминает. Пронзённая её началом, она смотрит на сказавшего её; кончено! Больше ничего ей не надо! Она поверила этому человеку – навек. Он спохватывается: идти. Она спохватывается, что идут люди, – и вообще, что есть мир».
Вот эту жажду прозрения в человека, в его сокровенную суть и несёт Ника по жизни и… по страницам романа. У неё сильное эмоциональное восприятие мира, «на волнах» которого несётся её жизнь меж скал и подводных течений – холодных и тёплых.
В жажде чутким «ухом души» приникнуть к Морицу, несмотря на его срывы в грубость и на прочие несовершенства, она всё равно увлечённо приближается к нему. Просит его рассказывать ей свою жизнь – от начала, от истоков, сказав, что собирается написать поэму о нём. Под предлогом литературного «дела» (не скуки ради!) Мориц раскладывает перед Никой пасьянс своей судьбы. Но за литературным «делом» и со стороны Морица, и со стороны Ники встаёт чисто человеческая пристрастность – в оценках прожитого. Без такой пристрастности, кстати сказать, нет настоящего литературного произведения. Чтобы глубже познать героя будущей поэмы, Ника с первого вопроса направляет его на глубоко личную, интимную сторону жизни.
«– Я решила: я буду писать о вас – поэму, – говорит Ника Морицу. – Но мне нужен материал. Дайте мне как бы краткий обзор ваших встреч с людьми – и любовных, и вообще важных, – а потом выберу то, что мне надо. Любовь – если не было, страсть. Дружба…
– Видите ли, Ника… – Мориц, встав, стоял спиной к окну. – Вы оперируете словами „страсть“, „любовь“. Хотите знать „главное“?! Я не знаю! Может быть, главное было, – то есть всего сильней, – то, что не получило воплощения. Один взгляд! Я сразу узнал, что это – именно то (что – я не знаю), но те глаза обещали всё то, чего не было у меня в жизни. Я вообще не смогу осознать, как много я потерял, что эти встречи не сделались жизнью… – Он теперь шёл по комнате, глядя вперёд и вверх, стремительный, упругий и лёгкий голос виолончельными звуками шёл за ним. – Не помню черт. Взгляд! Он и сейчас стоит передо мной.
„Вот его доминанта! – ещё раз императивно сообщает она себе. – (Хотя он говорит об этом торопливо, может быть, уже каясь, что сказал…) – Вот фундамент поэмы, не забудь! Не отвлекись по пути, запомни. Ключ! Те, кого он любил – терпели не меньше, чем я, которую он не любит. Его „да“ были – нет“.
Она готова уже почить на высотах, предлагаемых ей этой мыслью, но легко, мотыльком, порхнуло: „…а есть ли у него – душа?“»
Это – вопрос вопросов романа. Разбираясь в Морице, Ника ближе подошла к нему. Когда Мориц рассказывает о своих привязанностях и связях, он настораживает Нику. Не кажется ли ей, что он больше говорит о чувствах женщин к нему, а не о своих к ним? Не веет ли чёрный плащ эгоцентризма за его плечами?.. Она всходит по ступеням подробностей в рассказываемую ей жизнь, восходя к сути его личности. Ей трудно сдержаться, когда он рассказывает, что во время Гражданской войны в холоде и недостачах с трудом доставал дрова, растапливал печь и варил молоко для его преданной жены. «Вот этого я никогда ни для кого больше не делал! Это было в моей жизни – раз…» Нике, привыкшей бросаться на помощь людям, нелегко понять Морица. Он уточняет: «…Я не забыл это не потому, что это было мне трудно, а потому, что это шло вразрез со всем жизненным складом!» Дело было именно в том, что при своей страстной и гордой натуре он не показывал своих «забот о близких»! Она тут поняла его беспомощность «перед роком своего нрава», перед собственной гордостью, этим вечным благородным пороком…
Сомнения Ники достигли апогея, когда в пылу психологического пристрастного анализа она в стихах, к Морицу обращённых, выдала свою увлечённость им, пошла на фактическое признание, и он стал уклоняться… Вот характерный фрагмент:
«– Я очень трудный человек, Ника…
В её сознании метнулось: „Маленький человек!..“ Она бы, кажется, ему простила: и то, что он равнодушен к её душе, возьми он человеческий, тёплый тон, назови он вещи их именами, хоть только по-братски. Он снял бы с неё половину её тяжести. Но он отступал, отклонялся, отнекивался. Он думал о роли. Не о существе дела! Он думал не о ней – о себе. Человек, не способный быть даже братом, – что же это за человек? „Даже братом“. Но это же очень много, это же драгоценнее – так многого…
Но он говорил, надо было слушать.
– Вы сказали, что я жесток. Может быть. Человек не сделан из мрамора… Когда узнаёшь, что человек тебя… – он поискал слово и, неволимый тем, что за спиной кто-то вошёл, и, может быть, потому, что английский язык в данном пункте был пластичней русского, – „likes you“ (глагол „нравится“), удачно избегнув „loves“ („любит“). Вы однажды спросили меня, два ли во мне человека. Я думаю, во мне много людей… Я не чувствую, чтобы я был мистер Хайд, но ведь я и не доктор Джекиль… Всё – проще. Вы преувеличиваете меня!
Ей было немного стыдно, как за провалившегося на экзамене сына»…
Конечно, Ника страдала, когда Мориц не может раскрыться и откликнуться навстречу её жажде понять, старается «обозначить границы». В ней, помимо её воли, чувствуется тень обиды на собеседника. Мы чувствуем, что она почти оскорблена как женщина. Чувства брали верх. Чувства возобладали над её пониманием. Ей стало изменять не самообладание, а способность «вживаться», становиться на точку зрения Морица, а следовательно – до глубин понимать.
Это и естественно – ведь момент более чем эмоциональный, так трудно разумом смирить страсти, сдержать их.
Поняв Морица, она поняла бы многое, что заметил бы взгляд со стороны.
Да заговори он даже в самом тонком и светлом тоне, устремляя её на торную дорогу дружбы в ответ на её признание, увлечённой Нике это всё равно бы показалось бесчувственно ледяной пустыней, и не о жертвенности своего чувства подумала бы Ника, из её души в ответ прозвучало бы всё то же – по-английски enough! – довольно! – быть может, не вслух, быть может, про себя (что ещё больнее!), но прозвучало бы. В конце концов ум удовлетворился бы предложенной дружбой. Сердце – нет.



