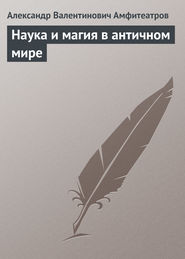 Полная версия
Полная версияНаука и магия в античном мире
Успешные исцеления одержимых бесами были очень важным, сильным и убедительным орудием христианской пропаганды в язычестве. По-видимому, со временем они стали считаться в народе как бы специальностью исключительно христианского духовенства. Тертуллиан, Лактанций, Августин равно указывают, что христианским экзорцистам приходилось иметь дело не только с своими, но и с языческими душевнобольными, и демоны, заключённые в последних, обличали себя, называясь именами идольских божеств. Утверждения такого рода, исходящие от разных церковных писателей на протяжении трёх столетий, не должны быть подозреваемы в преувеличении, как плод чрезмерного христианского усердия к успехам веры, маленькая ложь ради торжества великой истины. Нет ничего удивительного, если душевнобольные язычники, действительно, вопили о богах, в них поселённых. Глубочайшее убеждение, что душевная болезнь есть божественное наслание, демоническое вселение в человека, старо, как мир, и было присуще античному мировоззрению повсеместно. Это убеждение – одно из тех, что, передаваясь из поколения в поколение, делаются как бы врождённым самовнушением народов, наследственною, расовою идеею и владеют человеком, даже механически, когда он не управляет своим сознанием, говорит и действует непроизвольно и без разумения. После девятнадцати веков христианской дисциплины, имеем ли мы право, всё-таки, сказать с уверенностью, что даже в Европе, не говоря уже о странах азиатских и африканских, большинство населения видит в сумасшедшем и истеричке естественно больных, а не бесноватых? Отсюда можно умозаключить о напряжённости суеверия в период дохристианский. Современное кликушество обычно сопровождается страшными ругательствами и богохульствами. Не иначе было, конечно, и в истерии античной. Наши кликуши хулят христианских святых, священников, обряды, а кликуши языческие издевались над богами своего культа. «О, юница, – гласит, обращаясь к Федре, хор в „Ипполите“ Еврипида, – бог владеет тобою: это либо Пан, либо Геката, либо досточтимые корибанты, либо тревожит тебя Цибела». Гиппократ сохранил для потомства примерную таблицу примет, по которой в его время определяли, кто из богов виноват в недуге душевнобольного. «Если одержимый прыгал, как козёл, скрежетал зубами и правая сторона его тела сокращалась конвульсиями, – виновницу недуга усматривали в Матери Богов; если он вопил грубым и повышенным голосом, то его приравнивали к лошади и приписывали его недуг Посейдону; если он не держал испражнений, причиною тому, уверяли, была Геката Энодия; как скоро он пищал и щебетал, подобно птице, болезнь считалась обязанною происхождением Аполлону Номию; если он точил ртом пену и топотал ногами, творцом недуга почитался Арес. Всякий раз, что кто-нибудь бывал охвачен ночными страхами и тоскою, выходил из себя, соскакивал с кровати, чтобы бежать из комнаты, – всё это оказывалось ловушкою, расставленною на человека: Геката и герои овладевали им». Самая этимология названий душевных и нервных недугов в древней медицине показывает, что их понимали, как божественное овладение телом человека; слова «эпилепсия», «нимфолепсия», «теолептос», «даймониолептос» обозначают «схватывание» больного сверхъестественною силою: нимфами, богом, демоном. Для римлянина падучая болезнь – lues deifica, боготворящая болезнь; бешенство – mania болезнь, насылаемая царством мёртвых, манами; сумасшедший larvatus, larvarum plenus или cerritus захваченный Церерою. Отвратительность проявлений душевной болезни не позволяла, конечно, причислить её к действиям доброй силы; поэтому её принимали или как наказание от божества, обычно благодетельного, но в данном случае разгневанного, или, – при развитии демонических верований в дуалистическом направлении, – как выходку ярости «какодаймонов», злых демонов, ларвов, Гекаты с её свитою и т. д. В христианстве, конечно, утвердилось только второе мнение; все душевные болезни были признаны злобно-демоническими; борьба с истерией и истеро-эпилепсией посредством заклинаний и церковных обрядов проходит красною нитью через всю историю католичества, льёт кровь в застенках на пытках мнимых колдунов и колдуний, зажигает им костры и т. д. Известно, что первобытное христианство пыталось применить чудесную целительную силу веры не только к душевным, но и ко всем болезням человеческого организма. «Болен ли кто из вас, пусть призовёт пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне». К учёной медицине многие христиане, верные этому тексту, относились с порицанием, как к попытке насилия над волею Божиею. «Медицина и всё, что относится к ней, представляет такое же коварство», – определяет суровый Татиан после того, как осудил Демокритово учение о физической симпатии и антипатии и талисманы, на них основанные. Практика благочестивого обряда, предписанного в послании св. апостола Иакова, как видно из свидетельств отцов и учителей Церкви, была необычайно широка. Её принимали и развивали не только православные, но и еретики, причём гностики, конечно, вносили в обряд восточные магические примеси. Любопытно, что один из наиболее могучих, но в то же время и наиболее мистических умов неоплатонизма, великий Плотин, относился к демонической одержимости с недоверием и горячо оспаривал её возможность. В его «Эннеадах», обработанных Порфирием, мы встречаем следующую тираду, направленную против гностиков. «Они хвалятся, будто исцеляют болезни. Достигай они того воздержанием, правильною жизнью, претензии их были бы разумны: но они утверждают, будто болезни суть демоны, которых они могут изгонять своим словом, – вот чем хвастают они, с целью прослыть святыми у черни, всегда падкой на восторги пред могуществом магии. Людей рассудительных им не убедить. что болезни ваши происходят не от причин ощутительных, как-то: переутомления, полнокровия, отощания, разврата, словом, порчи организма, проистекающей из начала внутреннего или внешнего. Что оно так, видно уже из самой природы лекарств. Часто исцеляют болезнь слабительным или микстурою; часто также бывает на пользу диета и кровопускание. Отчего же тут изнемогает демон – от голода или микстура его замаривает? Когда, вслед затем, человек выздоравливает, – демон должен либо остаться в нём, либо выйти; если он остаётся, каким образом его присутствие не препятствует выздоровлению? Если выходит, – почему? Что ему приключилось? Питался он что ли болезнью? В таком случае, болезнь – одна вещь, демон – другая. Если он входит туда, где нет причины для болезни, почему тот, в чьё тело он проникает, не всегда болеет? Если он входит в тело, когда оно уже носит в себе естественную причину заболеть, то в каком качестве пристаёт он к этой болезни? Сказанной причины уже достаточно, чтобы вызвать лихорадку. Смешно допускать, что, раз болезнь имеет свою причину, то, как скоро причина эта в действии, находится и демон вполне приспособленный, чтобы придти к ней на помощь». Скептической тираде знаменитого философа можно противопоставить много мест из христианской апологетики, доказывающих, что древности в довольно широкой степени свойственно было учение о физическом предрасположении к восприятию болезней. Именно это хроническое предрасположение и почиталось естественно болезнью организма, обострения же, развивавшиеся на его почве, приписывались демонам. Таким образом, с точки зрения медицинской, демоны являлись чем-то вроде микробов, бацилл, занятых и палочек современной науки, которым здоровый и сильный субъект легко сопротивляется, тогда как хилый и истощённый быстро воспринимает их и гибнет. Конечно, лечение пресвитерское далеко не всегда вело к исцелению больного. Юлиан Отступник злобно смеётся, что христианство не вылечивает «ни проказы, ни лишаёв, ни подагры, ни дизентерии, ни водяной, ни костоеды и никакой телесной немощи. Оно очищает только от прелюбодеяний, хищений и вообще всяких душевных прегрешений». Христианство, с своей стороны, как бы дало косвенный ответ на этот попрёк в известной легенде о «вене-Константиновом», повествующей, как император Константин чудесно очистился от проказы крещением, после того, как благочестиво отверг медицинский совет жрецов идольских – избавиться от болезни ваннами из тёплой крови невинных младенцев. Языческим противовесом христианской легенде служила молва, будто предлогом к выбору между языческим и христианским культом были не физические, но моральные страдания Константина. Терзаясь совестью, как убийца сына своего Криспа и жены своей Фаусты, Константин обратился за утешением к религии и философии языческим, но они, устами неоплатоника Сопатра и жрецов разных культов, объявили, что не знают средств для искупления таких ужасных злодеяний. Тогда-де император прибег к христианам, которые, за покровительство их вере, обещали простить ему всё, что угодно. Легенда эта, рассказанная языческим историком Зосимом, давно опровергнута, как страдающая хронологическими неточностями.
Известно, что восточные народы относятся к безумным с большим уважением и, по возможности, оставляют их бродить на свободе, исходя из того убеждения. что они не столько больны, сколько посещены богом, и, стало быть, не человеческого ума дело судить, добро из этого будет или худо. Античные взгляды на сумасшествие близки к турецким. Вдохновенный экстаз пророка, оракула, поэта и даже пьяного – такая же одержимость духом, как и сумасшествие: «Молись Бахусу, чтобы вино не отуманило твоего рассудка», – приглашает Овидий в шуточном стихотворении своей любовной книги, но – совсем не в шутку. В вине живёт дух, демон, бог, и, кто пьёт вино, впадает во власть этого духа, демона, бога, и, чтобы остаться трезвым за чашею, сохранить самообладание и здравый ум, мало тебе самому желать того, надо, чтобы и Бахус пожелал, надо заслужить его благосклонность. Всякий человек в нервном подъёме выше нормы, всякий «френетик» опасен, потому что божество в нём; но – божество это может выразиться и вредным беснованием, и полезным провидением или гениальным творчеством. Жрецы экстатических культов, пифии, вакханки одержимы демонами, добрыми к человеку, им угодному, но свирепыми против человека, им сопротивляющегося, идущего против их воли. Плутарх сообщает об ужасном припадке истерии, случившемся с дельфийскою жрицею, когда её заставили предсказывать насильно. Бл. Августин, чьи сочинения весьма богаты фактическими иллюстрациями к данному вопросу, ставит френетизм и прорицание, ясновидение, второе зрение в прямую связь между собою. «Нам известно, что одержимый нечистым духом, находясь у себя в доме, указывал время, когда собирается выйти к нему из своего, отстоящего на расстоянии двенадцати миль, дома пресвитер, где он в данную минуту находится в своём пути, как приближается и когда входит во двор, в дом и спальню, пока не является к нему на глаза. Всё это больной видит не глазами; однако, если бы он этого каким-нибудь образом не видел, то не давал бы таких верных показаний: а был он болен лихорадкой и говорил как бы в френетическом бреду. Может быть, он и действительно был френетик, но его по этой причине считали за одержимого демоном». Тот же автор с удивлением рассказывает о случаях, когда пророческий дух овладевал людьми незаметно для них самих и делал их предсказателями по неволе. Факты, им приводимые, имеют действующими лицами либо язычников, либо врагов Христовых (Каиафа), так что должны быть отнесены к событиям не «Града Божие», но «града дьявольского», к обольщению злых демонов. Августин повествует о молодых людях, которые, «хотя не имели ни малейшего понятия о двенадцати знаках», вздумали разыграть из себя астрологов и, к собственному изумлению, оказались точными и счастливыми предсказателями. «Другой юноша плясал пред оркестром, расположившимся на таком месте, где по случаю какого-то языческого праздника было много идолов, не духом каким-нибудь восхищённый, а представляя исступлённых с потешным передразниванием знакомых, около стоящих и зрителей. Ибо в обычае было не воспрещать, если кто-нибудь из юношей, после совершённого пред завтраком жертвоприношения и при возбуждённом состоянии фанатиков, хотел забавляться подобным образом. Между тем, среди пляски, сделав себе передышку, шутя и окружённый смеющейся толпой, он предсказал, что наступающею ночью в ближайшем лесу будет умерщвлён львом человек, смотреть на труп которого с наступлением дня сбежится толпа, и место настоящего празднества опустеет. Так и случилось, хотя всем присутствующим по всем его движениям видно было, что он сказал это шутя и не находясь в состоянии умственного расстройства или исступления; и даже сам он тем более дивился случившемуся, что не знал, в каком душевном состоянии произнёс своё предсказание». Биографии многих знаменитых людей Рима отмечены фактами случайных предсказаний, врывавшихся, подобно неким вдохновительным вихрям, в жизнь этих героев, баловней судьбы. Особенно богата ими жизнь диктатора Суллы, «счастливого Суллы», – по римскому народному убеждению, нечестивейшего игралища демонов, по учению св. Августина. Не лишнее отметить, что из френетических прозорливцев и ясновидцев, описанных Августином, многие отличались резкими неправильностями в половой системе.
Способность второго зрения иногда понималась, как демонская услуга, обусловленная даром незримых, легковесных и мощных духов быстро перемещаться в пространстве от видящего к видимому и обратно. «Всякий дух, – говорит Тертуллиан, – имеет полёт быстрой птицы; а потому ангелы и демоны переносятся с места на место во мгновение. Вся земля для них как одно место: для них так же легко узнать, где что делается, как и разгласить о том повсюду. Быстрота их, свойственная их неведомой натуре, весьма способна к тому, чтобы выдавать себя за богов. Они хотят почитаться виновниками того, что возвещают, и действительно бывают виновниками, только не добра, а зла. Им известны даже намерения Божии, первоначально через пророков, а ныне чрез их писания. Таким-то образом, похищая у Божества таинства Его, они успевают притворно Ему подражать». В пример таких мгновенных перелётов предсказательного духа, Тертуллиан ссылается на известное испытание Крезом Лидийским дельфийского оракула. – «Что царь делает в данную минуту?» – спросили Аполлона лидийские послы. – «Варит черепаху», – отвечал оракул, – и угадал. «Блуждая в воздухе, носясь в облаках, сближаясь с звёздами, демоны легко могут предсказывать об изменениях времени».
Подробное рассмотрение огромного и сложного вопроса о демонической одержимости, конечно, не может входить в программу моего этюда, довольствующегося намёткою общих взглядов и понятий античного мировоззрения; к тому же исторический центр его лежит и далеко за рамками эпохи, мною исследуемой. Те, кто интересуются судьбами вопроса, могут найти богатый, блестяще изложенный и освещённый материал в классическом труде Альфреда Мори «La Magie et l'astrologie dans l'Antiquité et au Moyen Âge». Современная наука о духе, психиатрия и психопатология разобрались в явлениях, относимых древностью к разряду демонической одержимости, настолько внимательно и пользуются ими так остроумно и успешно, что теперь детальное их исследование, очевидно, надо считать достоянием скорее врача-психолога, чем историка. Метафизические воззрения прошлых веков и затем материалистическая против них реакция во второй половине девятнадцатого столетия наложили на вопрос безмерное множество ложных гипотез и мнений. Истина его оказалась, таким образом, на дне весьма глубокого колодца. Когда в этих наслоениях разберутся внимательные и беспристрастные изыскатели, по всей вероятности, в нелепостях античных заблуждений найдётся несколько зёрен драгоценной и поучительной правды, теперь скрытой, как водится, в аллегориях и метафорах, узко и близоруко принимаемых за чисто религиозные мифы.
8
Общение человека с демоническим существом, понятное дело, возможно только при том условии, если обе стороны вполне удовлетворительно одна другую понимают. Развитие магии и параллельный рост требований, к ней предъявляемых, могучий рост античной государственности и культуры, осложнение житейского уклада и случаев в нём, когда смертному требуется религиозное вмешательство в быт его, нужны советы и помощь сверхъестественной силы, вызвали соответственный прогресс и в развитии магии. К векам империи, как говорено уже и ещё будем иметь случай говорить, старые оракулы замолчали или ослабели. Одна из многочисленных причин к тому, конечно, – отсталость их первобытного волшебства: цивилизация широко и пёстро шла вперёд, а культ замкнуто и консервативно стоял на месте, жреческое откровение оказалось позади своей философствующей паствы и стало ненужным ей. Простые «да» и «нет» из уст внемлющего бога уже не удовлетворяют мистически настроенного верующего. Обращаясь к демону, неопифагореец или неоплатоник хотят беседовать с ним, как с неким божественным юрисконсультом. Додонский звон, двусмысленные каламбуры дельфийского бога, сон в пещере Трофониевой никому не нужны более. Попытка Юлиана восстановить антиохийский оракул Аполлона Дафнийского кончилась полнейшею неудачею, а между тем никогда ещё не занимались магией и гаданием о будущем усерднее, чем в эти годы, – во второй половине четвёртого века. В самом непродолжительном времени после неудач Юлиановых, Валентиниан и Валент объявляют преследование магии, – со всею энергией, жестокостью и пристрастием, свойственными гонениям религиозным. Легенда об одном из процессов этого гонения показывает, что магический кружок искал, чрез гадание кольцом, привешенным свободно качаться между буквами алфавита, узнать имя своего будущего государя, преемника Валентова. Успели определить только начало имени «Феод…», что дало Валенту повод убить влиятельного вельможу-язычника Феодора и, быть может, ещё нескольких несчастных с именами, начинавшимися злополучным «Феод…» Судьба, как известно, всё-таки, сделала своё дело, и преемником Валента оказался испанец Феодосий Великий. Это эпоха, когда пророческие аллегории, метафоры, намёки уже недостаточны. Даже христианские писатели, в полемике с языческими, употребляют такие странные аргументы, как подложное стихотворение Сивиллы с акростихом имени Иисуса Христа. Век требует, чтобы религия стала чем-то вроде положительного и прикладного знания. Мистерии и магическое демонослужение, обещающее в телетах своих непосредственное общение с божеством, делаются упованиями всех религиозных людей, которые не примкнули к христианству. Маг – феург, берущийся познакомить адепта с демоном или богом посредством таинственных обрядов очищения, мистагог и фауматург окончательно затмевают, побеждают и отстраняют от влияния на общество жреца, устарелого чиновника устарелого духовного ведомства. Человечество учится, во множестве новых религий и теософических систем, благоговейно трепетать пред Единым Богом и дерзко управлять незримыми силами творения, образующими таинственную лестницу совершенствования от материи к духу, от плоти к Божеству.
Развитие и международность магии выдвинули вперёд вопрос о языке демонических существ, ей покорных. Здесь необходимо опять обратиться к глубинам иудаизма. Влияние иудейской мысли на греко-римский мир в конце римской республики и в первые века империи было очень значительно. Прозелитов своих иудаизм имел во всех важных центрах империи и во всех слоях общества, – до императрицы Поппеи Сабины включительно. Накануне своего рокового восстания при Нероне иудеи были модными людьми в Риме. От них ждали чего-то великого, неслыханного, каких-то новых судеб миру. Нерону было предсказано великое восточное царство со столицею в Иерусалиме. Мир волновался смутными мессианскими ожиданиями: великий свет, могучий властитель должен воссиять на Востоке, поднявшись из Иудеи. Известно, что многие видели Мессию в Веспасиане. Понятно, что, при таком настроении общества, каждый иудей, тем паче образованный, являлся в нём существом загадочным, мистическим, с будущностью, чреватою событиями. Настроение поддерживалось тем, что первый век нашей эры – действительно, блестящая пора национального гения иудейского, когда из недр его хлынули потоком такие мощные и разнообразные учительские силы, как апостольская проповедь, Филон, первые гностики и т. д. Иудей стал слагаться в воображении и представлении народном в человека, который знает какую-то особую религиозную истину, скрытую от всех других. Ясно, что, при таких данных, магия века должна была очутиться в иудейских руках по преимуществу. Иудейские гоэты и гадалки кишат в народе, а Симон из Гиттона, Элеазар и им подобные магические авторитеты поселяются во дворцах, влияют на аристократию и философов. Теоретические поиски религиозной истины в эту эпоху были почти окончены вчерне. Все философско-теологические системы, сводясь в тех или других компромиссах к Платону, признают Бога единым, развивают в тех или других формах и с теми или другими оттенками учение о божественной триаде, слагают величественную догму Логоса, – в высшей теологии, а в практическом, земном её, так сказать, подотделе принимают гипотезу ангелического и демонического посредничества. Насущный вопрос, истекающий из этих выводов, – утилитарное искание религиозной силы. Так как почти единодушно было решено, что на волю Верховного Существа, каково бы оно ни было, человек не в состоянии оказать ни малейшего давления, то задача сводится к изобретению способов влиять на его «сатрапов» и «проконсулов» – ангелов и демонов. Это изобретение шло вперёд ощупью, вырабатывая сложную демоническую «феургию». Ни один маг не настаивал на конечной непогрешимости своего знания настолько твёрдо, чтобы не освежать его новыми формулами, обрядами и даже принципами, буде таковые наплывали откуда-либо в жизнь, и утверждалось в обществе мнение о их большей против прежних силе. Гордость иудеев своею исключительною религией, национальная замкнутость и брезгливость их вели к тому, что «народ избранный» ненавидели все племена земные и, по закону и предчувствию взаимности, считали его ненавистником всех народов земных. Но, вместе с тем, распространялась и широко утверждалась в народах уверенность, о которой мы только что говорили, – что религиозные тайны, помогающие иудеям, на зло всеобщей к ним антипатии, сохранять своё политическое существование и общественное устройство, особенно властны и могучи. Припомним смущение, невольно охватившее победоносных римских солдат, когда они взяли приступом храм Иерусалимский и – стали пред ним в суеверной нерешимости, не смея проникнуть в таинственную твердыню; их радостно изумило, когда какой-то сорви-голова, «как бы по внушению бога», швырнул внутрь грозного здания роковую головню и дерзким поступком одного точно снял волшебные чары со всех. Вот почему языческий маг изучал иудейскую кабалу и волшебные книги, якобы писанные Ноем, Хамом, Авраамом, Иосифом; вот почему он заклинал воздушное демоническое воинство именами Ягве, Адонаи, Себаофа, Баруха, Авраама, Израиля, ангелов и даже просто бессмысленными и исковерканными еврейскими словами, будто бы выхваченными из священных Моисеевых книг, – едва ли не с большею надеждою, чем именами Зевса и олимпийцев.
Служители смешанного эллино-иудейского магического культа были особенно многочисленны в Самарии, которую христианство справедливо считает рассадником древнейших своих ересей, корнем гностицизма. Когда Иисус Христос явил Себя в Палестине, местные маги поспешили испробовать демоническое воздействие Его имени, не спеша, однако, к Нему обратиться. Их интересовало чудо, а не учение, сила, а не правда. Заподозрив, что в группе учеников, образовавшейся вокруг Иисуса и продолжавшей затем Его проповедь, практикуется какой-либо новый заклинательный секрет, они пытались купить его у апостолов за деньги, как свидетельствует знаменитый эпизод в «Деяниях» о Симоне волхве из Гиттона. Другой волхв Бар Иисус предлагает апостолу Павлу состязание в магическом искусстве, как некогда египетские жрецы соперничали с Моисеем пред лицом фараоновым. Третий фауматург, Менандр Самарийский, старался затмить христианские обеты бессмертия души посулами бессмертия телесного, – и, к удивлению, имел доверчивых последователей, не разубедившихся даже смертью самого ересиарха и его непосредственных учеников. Секта Менандра существовала более двух столетий. Относительно псевдохристиан, удачно обращавших в свою пользу имя Христово, не следуя Христу, сам Спаситель высказал мнение весьма снисходительное: «Кто не против нас, тот за нас». Но век апостольский и позднейшие новообразования церкви не подражали этой божественной мягкости, так как тройственное слияние в ересях самарийского происхождения начал христианских, иудаического предания и магии создало могучие гностические расколы, вооружённые сложными философскими системами «лжеименного знания», более опасными для христианского единства и правоверия, более соблазнительными, чем самый грубый и пёстрый политеизм. Гнозис рождает Сирия, развивает Александрия, впитывает Рим. Известно, что язычники относились к гностикам снисходительнее, чем к другим христианам, быть может, видя в них не столько христиан, сколько просто, так сказать, христианствующих магиков, ищущих в тайнах христианства дополнения к науке халдеев, к секретам Египта и к еврейской кабале.

