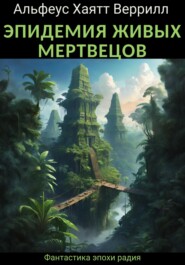
Полная версия:
Эпидемия живых мертевецов
Когда дело дошло до ухода, я почувствовал немалую грусть и депрессию, потому что, хотя я никогда бы не поверил, что это возможно, я привязался к людям-обезьянам и чувствовал, что они мои старые друзья и мои люди. Мне было особенно жаль покидать Мумбу, и какое-то время я даже подумывал о том, чтобы взять его с собой. Но я понял, что даже если мне удастся убедить его сесть в мое каноэ и попытаться пройти по туннелю, в чем я очень сомневался, он, вероятно, зачахнет и умрет от одиночества и тоски по дому, вдали от своего народа и среди незнакомцев.
И я почувствовал странное возбуждение и нервозность по мере приближения часа моего тайного отъезда. Я мало спал прошлой ночью и встал до рассвета, и задолго до восхода солнца я уложил свои вещи в свое каноэ из шкур или коры и поплыл вниз по реке к мели, где я обнаружил золото.
К тому времени, как я добрался до места, уже почти рассвело, и, вытянув мою лодку на отмель, я принялся за работу со своим мачете и деревянной мотыгой, которую я сделал. Место оказалось гораздо богаче, чем я себе представлял, и почти в каждой горсти гравия и песка, которые я вымыл и просеял в плетеном лотке и "разложил" в глиняном тазу, я находил самородки. Без сомнения, более мелких хлопьев и пыли было еще больше, но я не мог тратить время на их просев и довольствовался более крупными кусками и кусочками металла. Я так увлекся своими трудами, что не замечал, как шло время, пока мое внимание не привлек громкий раскат далекого грома. Я был несколько поражен, так как, по моим расчетам, первых сильных дождей не предвиделось в течение нескольких дней, а гром был самым необычным явлением, если он не был аккомпанементом к этим первым проливным ливням. Я заметил, что рассвет быстро приближался, небо на востоке уже посветлело, и я увидел, что небо затянуто тучами и что гряда тяжелых черных облаков низко нависла над вершиной утеса на противоположном конце долины. Все это я заметил и остановился, чтобы набрать последнюю корзину гравия, думая про себя, что еще несколькими самородками я был бы доволен, потому что жадность цивилизованного человека при виде золота непреодолима. Затем еще один ужасный раскат грома эхом прокатился по долине, отражаясь от скалы к скале. Пораженный, понимая, что я должен поторопиться, если хочу уйти до того, как разразится шторм, я оттолкнул свое каноэ от мели, схватил весло и направился вниз по течению. От отмели до туннеля было целых две мили по реке, и, прежде чем я преодолел половину расстояния, уже совсем рассвело. Я также заметил, что двигаюсь очень быстро, в то время как облака теперь распространились, закрыв половину неба, и часто раздавались раскаты грома и яркие вспышки молний. И все же я не осознавал всей опасности, не думал, что похожий на взрыв облаков потоп будет продолжаться много часов, возможно, несколько дней.
Только когда я приблизился к зияющей черной дыре, я понял, что у меня в тылу, должно быть, с тропической силой льют дожди, что на высокогорье за стенами долины бушует шторм, и что озеро, питавшее реку, было затоплено и сливало излишки воды в долину.
Но когда я увидел перед собой вход в туннель, я понял это и запаниковал. Но слишком поздно. Я лихорадочно работал веслом и пытался направить свое судно к берегу, но все мои усилия были тщетны. Река несла меня вперед, прямо к дыре в скале, и ее течение удерживало мое хрупкое каноэ в центре канала, несмотря на все мои усилия повернуть его в сторону. Мое сердце, казалось, остановилось, я почувствовал тошноту и слабость от ужаса, когда увидел, что вода уже заполнила туннель на расстоянии ярда от сводчатой крыши. Я был уверен, что верная смерть стояла передо мной. Задолго до того, как я смог пересечь проход, вода поднималась, пока не заполнила подземный канал, и напрасно я проклинал себя и свою безумную алчность, которая задержала меня.
Все это произошло за долю секунды. В следующее мгновение черная арка появилась над танцующим носом моего каноэ. Едва осознавая свои действия, я бросился плашмя на дно каноэ, вплыл в туннель и был окутан абсолютной тьмой.
Глава VI
"Трясясь и дрожа, ожидая в любой момент почувствовать, как вода переливается через борт моего каноэ, услышать, как его борта скрежещут о каменную крышу, когда вода поднималась, я лежал не шевелясь. Казалось, прошли века. Не было ни проблеска света, только рев несущейся воды, заполняющей ужасный подземный туннель. Постепенно, по мере того как проходили минуты, а каноэ все еще мчалось вперед невредимым, я успокоился. Возможно, проход внутри был выше, чем у входа. Был шанс, что я все же смогу выкарабкаться, вынесенный на первых волнах наводнения, и я осторожно поднял весло, ожидая почувствовать, как оно ударится о крышу над головой. Но оно не встретило сопротивления, и, воодушевленный новой надеждой, я сумел зажечь факел и поднял его над головой. Едва различимые в сиянии, я мог видеть стены туннеля, искрящиеся и переливающиеся, когда свет отражался от кристаллической породы, а в десяти футах над моей головой я увидел потрескавшийся от воды свод со свисающими сталактитами. Я вздохнул легче. В настоящее время мне не угрожала реальная опасность, и мне казалось, что течение теперь не такое быстрое.
Но мое каноэ бешено крутилось, раскачиваясь и подвергаясь неминуемой опасности опрокинуться или врезаться в стену или какую-нибудь подводную скалу. Закрепив факел на носу, я схватил весло и направил каноэ по центру потока. Я плыл вперед, все дальше и дальше. Река часто делала крутые повороты, и если бы судно было предоставлено самому себе, оно наверняка потерпело бы крушение. Часто туннель становился очень узким, но всегда между моей головой и крышей оставалось достаточно места, и постепенно ко мне возвращалась уверенность в хороший исход путешествия. Затем, внезапно, на крутом повороте, мой самый большой страх оправдался. Крыша резко опустилась, и передо мной пенящийся поток, казалось, полностью заполнил канал. Прежде чем я успел вскрикнуть, пылающий факел ударился о низко нависшую скалу и был сброшен за борт, и я едва успел пригнуться и броситься ничком в свое каноэ. Я знал, что это был конец. Я бы утонул, как крыса в мышеловке, и глубоко, горько сожалел, что вообще покинул долину людей-обезьян.
Снова и снова я чувствовал, как планшир моего каноэ ударяется о крышу над головой. Каждый раз, когда он натыкался на скалу и на мгновение колебался в своем стремительном движении, мое сердце почти останавливалось, и я чувствовал, что все кончено. Часто, когда судно медленно продвигалось вперед, вода переливалась через борта, и я лежал там, парализованный страхом и наполовину погруженный в ледяную воду, беспомощный, неспособный подняться, ожидающий смерти. Это была неописуемая пытка, невыразимая мука, а затем, как только я почувствовал, что каноэ замедляется, поскольку трение о свод пещеры было слишком сильным и сила течения едва его преодолевало, темнота внезапно исчезла, и туннель наполнился светом. В следующее мгновение каноэ рванулось вперед, и я ошеломленными глазами смотрел вверх, на огромный участок чистого голубого неба. Я был спасен, спасен в последнее мгновение, потому что, когда я сел, моргая и дрожа, и оглянулся, я увидел, как последние несколько дюймов устья туннеля исчезают в массе бурлящей воды.
С могучим вздохом благодарности и облегчения я огляделся. Я плыл по поверхности широкого ручья, в который впадала река из долины. Со всех сторон простирались темные массы густых лесов, густых, зеленых и прохладных, и я громко кричал и плакал при виде такого количества зелени, увитых виноградом деревьев, на которых никогда не было видно красных листьев.
В течение нескольких часов я греб и дрейфовал вниз по течению, направляясь не знаю куда, но довольный тем, что я спасся, что где-то впереди лежит побережье и цивилизация, и что передо мной, при удаче и разумной осторожности, жизнь и свобода среди моих собратьев. Я так стремился как можно дальше уйти от долины, которую я покинул, что даже не остановился, чтобы поесть на берегу, а жевал сушеное мясо и фрукты до самого полудня.
Затем, усталый от своих усилий и волнения, я вытащил каноэ на берег в маленькой бухте, защищенной лианами и кустарником, и, закрепив ее, вошел в лес. В дюжине ярдов от берега я обратил в бегство небольшое стадо пекари и удачным выстрелом свалил одного из зверей своей стрелой. Вскоре разгорелся огонь, и я хорошо поужинал жареной свининой и жареным бататом. Затем, отдохнувший и сонный, я бросился в свой гамак и мгновенно потерял сознание.
Было темно, когда я снова проснулся, и, чувствуя жажду, я подошел к реке, чтобы напиться. Когда я добрался до берега и наклонился, чтобы достать из каноэ тыкву, мои глаза заметили слабое свечение далеко вниз по течению. Какое-то мгновение я озадаченно смотрел на него. Затем мой несколько одурманенный сном разум прояснился, и я понял, что это был свет от костра. Кто-то был рядом, какие-то человеческие существа разбили лагерь в миле от того места, где я стоял. Были ли они друзьями или врагами, индейцами или белыми людьми? Я понятия не имел, где нахожусь, насколько далеко от цивилизации, был то индейский край или район, часто посещаемый собирателями каучука или другими туземцами. Те, чей костер отбрасывал красноватый отблеск на реку, могли быть белыми, черными или красными, и если последнее, они могли быть либо дружелюбными, либо враждебными. Как бы мне ни хотелось встретиться с обычным человеком, я знал, что должен быть осторожен. Я не должен вслепую бежать в лагерь дикарей, которые убьют меня на месте и, возможно, потом полакомятся моим телом. Но я был опытным бушменом, я был уверен, что смогу подойти к костру незамечено и неслышно, и если бы отдыхающие были цивилизованными или почти цивилизованными, я бы высадился; если бы они оказались враждебными индейцами, я мог бы уплыть вниз по течению, убираясь с их пути. Соответственно, я бесшумно отстегнул свое каноэ, так же бесшумно шагнул в него, схватил весло и так же бесшумно, как одна из теней на берегу, поплыл к огню.
Держась ближе к противоположному берегу и в густой тени джунглей, я быстро приближался к свету, пока не осмелился идти дальше. Затем, подведя свое каноэ вплотную к берегу, я ступил на берег. Прячась за каждым стволом дерева и зарослями бамбука, я прокладывал себе путь, пока не оказался напротив костра. Когда я приблизился к нему, я ахнул и остановился как вкопанный, почти не веря своим глазам. В небольшом углублении в лесу пылал большой костер, а вокруг него собрались четверо обнаженных раскрашенных индейцев, вооруженных мощными луками и длинными стрелами. Но не эти дикари привлекли мое внимание, а пятая фигура. К небольшому дереву возле костра была привязана женщина, девушка, чье скудно одетое тело и лицо, отчетливо видимые в свете костра, были безошибочно белыми!
Кто она была? Что она здесь делала, пленница этих свирепых индейцев? Даже на расстоянии я мог видеть, что она была очень красива и что на ее лице не было никаких признаков страха, ничего, кроме смиренного, безнадежного выражения, когда она наблюдала за индейцами у костра. То, что они были враждебными, было очевидно, и вполне вероятно, что они также были каннибалами. Мое сердце сжалось, когда я понял, что их прекрасная пленница скоро может стать пищей для каннибальского пиршества. Моя кровь закипела, пока я беспомощно смотрел на связанную белую девушку и ее раскрашенных похитителей. Но что я мог сделать, чтобы помочь ей? Я был бессилен против четырех вооруженных дикарей. С оружием, даже с револьвером, я мог бы быть достаточно безрассудным, чтобы напасть на них, рассчитывая на внезапность и ужас огнестрельного оружия, чтобы выиграть бой. Но будучи безоружным, если не считать плохого лука и стрел, какие у меня были шансы? И вдруг, когда я подумал об огнестрельном оружии, на меня снизошло вдохновение. В моем сознании вспыхнуло воспоминание о переполохе, вызванном моими взрывающимися патронами среди людей-обезьян. У меня все еще был один патрон, который король проглядел, когда грабил меня. Если бы я только мог подойти достаточно близко к костру, чтобы бросить патрон в пламя, я мог бы напугать индейцев и обратить их в бегство, а в суматохе спасти девушку. Конечно, это была дикий, безумный план, у которого были все шансы на провал. Даже если благодаря хитрости и удаче мне удалось приблизиться к огню, все шансы были против меня. Я могу не успеть бросить патрон в огонь, он может не взорваться, индейцы могут не испугаться, или они могут оправиться от испуга прежде, чем я смогу освободить пленницу, или, даже если они убегут, а я заберу девушку, они могут и, вероятно, будут преследовать нас на каноэ. Но были ли у них каноэ? Я не заметил ни одного, и я вглядывался в каждую тень и обыскивал каждое укрытие вдоль берега, не видя никакого судна. Нет, я был убежден, что мне нечего бояться на этот счет, и каким бы большим ни был риск, я решил пойти на него.
Гораздо лучше расстаться с жизнью в попытке спасти девушку, чем оставить ее в таком печальном положении, и всю оставшуюся жизнь меня будут преследовать воспоминания о ней. Мои планы быстро оформились. Вернувшись по своим следам, я оттолкнул свое каноэ от берега, бесшумно повел его вверх по течению за пределы досягаемости света костра, быстро переплыл на противоположный берег и позволил каноэ плыть вниз по течению. Прямо над костром в воду выступал небольшой участок суши, и здесь я пришвартовал свое суденышко, прикрепив его к веслу, воткнутому в мягкий ил, которое можно было мгновенно вытащить. Теперь я был так близко, что мог слышать голоса индейцев, и хотя они говорили таким низким гортанным голосом, что я не мог их понять, я узнал в их речи диалект мьянко – самых свирепых, самых неумолимых каннибалов южноамериканских джунглей. Но открытие, хотя и подтвердило мои опасения за судьбу девушки, ободрило меня. Мьянко были примитивными, отчужденными, враждебными и никогда не вступали в контакт с цивилизованным человеком. Следовательно, шансы на то, что взрывающийся патрон напугает их, были выше. Но для того, чтобы воспользоваться им, я должен был добраться до огня, а сделать это незаметно и неслышно казалось невозможным. Однако, находясь за рекой, я обратил внимание на каждую деталь окрестностей, и моя долгая тренировка в буше сослужила мне хорошую службу. С одной стороны костра, почти нависая над ним своими ветвями, росло большое дерево мора, его приземистый ствол, широкие раскидистые корни и спутанные лианы позволяли легко взобраться наверх. Если бы мне удалось укрыться в ветвях и пробраться наружу по ветке, я бы почти уронил патрон в пламя внизу. Но я знал, что взобраться на это дерево без шума и не привлекая внимания индейцев было невозможно.
Но у меня был план, о котором я молился и надеялся, что он может мне пригодиться. Схватив два батата, я заполз под укрытие дерева мора и, глубоко вздохнув и собрав все свои силы, швырнул один батат в черные тени джунглей за костром. В тот же миг, как клубень врезался в кусты, дикари вскочили на ноги, мгновение прислушивались, а затем, схватив оружие наизготовку, трое из них бросились на звук. Даже девушка повернулась и уставилась на это место, в то время как четвертый дикарь остался у костра в напряженном ожидании. В следующее мгновение второй батат пробился сквозь листву и с плеском упал в воду ниже по течению. С резким криком четвертый индеец бросился прочь, в то время как остальные трое закричали и поспешили в том же направлении. Едва второй батат покинул мою руку, как я, задыхаясь, вскарабкался по стволу дерева. Я быстро добрался до самых нижних ветвей и, не обращая внимания на кусочки падающей коры и шелест веток и листьев, пополз по ветке, пока не лег, спрятавшись и тяжело дыша, в десяти футах от огня. У меня было мало времени. Индейцы уже возвращались, бормоча, озадаченные, задаваясь вопросом, что вызвало шум, и, очевидно, нервничали. Они были суеверны и, без сомнения, постоянно боялись нападения врагов, а таинственное падение моего батата натянуло им нервы. Сцена была подготовлена, самая опасная часть моего предприятия была благополучно завершена, и я почувствовал, что удача и благосклонное Провидение были со мной. Дождавшись, пока индейцы соберутся вокруг костра, я бесшумно достал из кармана патрон, раскрыл нож, зажал его в зубах и с сильно бьющимся сердцем, затаив дыхание и вознося молитву Богу, бросил гильзу в самый центр пламени. При звуке его удара и небольшом снопе искр, которые взлетели вверх, дикари вздрогнули и уставились на пламя. Но они, очевидно, подумали, что это просто упавшее или треснувшее полено, и не предприняли никаких попыток разобраться. В следующее мгновение головни полетели во все стороны, казалось, перед изумленными глазами мьянко извергся вулкан, и рев взрывающегося пороха эхом разнесся по огромному безмолвному лесу. С дикими криками ужаса, их и без того напряженные нервы не выдержали и, совершенно перепуганные до полусмерти, четверо индейцев с криками бросились бежать в джунгли. Едва стихло эхо взрыва, и прежде чем рассеялся густой дым, практически до того, как дикари бросились прочь, я спрыгнул со своего насеста на землю, перепрыгнул через костер, разрезал веревки девушки своим ножом и, подняв ее на руки, бросился с ее к моему каноэ. Хотя она, должно быть, была напугана, несмотря на то, что я, должно быть, казался ей еще одним дикарем со своими длинными волосами, нечесаной бородой и залатанной, рваной одеждой, она не кричала, не сопротивлялась, и так было до тех пор, пока я не уложил ее в свое каноэ и не оттолкнул его от берега, я понял, что она была без сознания.
Я не мог терять времени. Индейцы уже приходили в себя. Я слышал, как их крики приближались, и мне пришлось пройти через свет от остатков разбросанного костра и на виду, если они вернулись на место происшествия.
Я отчаянно налегал на весло, держась как можно дальше от противоположного берега, и, подгоняемый течением, пронесся мимо опасного места. Когда мое каноэ исчезло в темноте, сзади донесся дикий вопль, и длинная стрела с отравленным наконечником просвистела в воздухе и шлепнулась в воду в ярде от нас. Но следующая стрела упала далеко за кормой, крики стали тише, и вскоре, почувствовав, что опасность миновала, я прекратил свои безумные усилия и, тяжело дыша, позволил каноэ тихо скользить вниз по реке.
Теперь девушка зашевелилась, и вскоре она села и огляделась. Увидев меня на корме каноэ, она некоторое время пристально смотрела на меня, а затем заговорила на странном диалекте. Я ожидал услышать, как она произносит слова по-испански. Я бы не был чрезмерно удивлен, если бы она говорила по-французски или по-английски, но для меня было неожиданностью услышать, что она использует язык, который, очевидно, был индейским. Но, несомненно, она приняла меня за индейца. Я говорил с ней по-английски и по-испански и даже произнес несколько слов на французском, но, очевидно, они были так же непонятны для нее, как и ее язык для меня. Затем я попробовал португальский и несколько голландских слов, которые знал, но безрезультатно. Она снова заговорила, и на этот раз я понял, потому что она говорила на диалекте тукумари, который я знал.
– Кто ты, бородатый? – спросила она. – и почему ты забрал меня у мьянко? И с помощью какой магии огонь поднялся в воздух и наделал много шума, чтобы напугать Мьянко. Ты сделал меня своим пленником, чтобы съесть меня самому?
Я успокоил ее, сказал ей, что я друг, что я не индеец, а принадлежу к ее собственной расе, что я забираю ее, чтобы вернуть ее к ее народу, и что я вызвал взрыв, который отпугнул мьянко. Она слушала и казалась недоверчивой. Очевидно, она либо не до конца поняла мой Тукамари, либо не смогла уловить смысл того, что я сказал.
– Мой народ, – сказала она, когда я замолчал, – это паторади и ты, Бородатый, ты не один из них, и все же ты говоришь, что принадлежишь к моей расе и ведешь меня к моему народу.
Я был поражен. Эта милая светлокожая девушка спокойно и очень искренне сообщила мне, что она индианка, паторади, племя, о котором я никогда не слышал. Был ли это сон или я сошел с ума? Затем я подумал о множестве историй, которые я слышал о так называемых "белых индейцах", историях, которые я всегда считал чистым вымыслом, основанным, возможно, на достаточно распространенных индейцах-альбиносах. Возможно ли, что там все-таки были белые индейцы и что эта девушка была членом такого племени?
– Все ли паторадис белокожие, как ты? – спросил я ее.
– Нет, Бородатый, – ответила она, – не такие, как я, но цвета твоей кожи, Бородатый.
Это покончило с теорией Белого индейца, потому что я хорошо знал, что я должен быть цвета красного дерева и полностью таким же темным, как многие индейцы. Должно быть, тогда, она была альбиносом. Но каждый индеец-альбинос, которого я когда-либо видел, был отталкивающим уродом с бесцветными глазами и прыщавым лицом, а эта девушка была прекрасна. Ее волосы были блестящими и золотисто-каштановыми, глаза большими и по-настоящему голубыми, а кожа, хотя и слегка оливковая, имела розовый оттенок и совсем не была альбиносной. Тем не менее я решил, что она, должно быть, урод, потому что она не могла быть белой – я был уверен, что ни один белый человек никогда не был рядом с Паторадис, и она говорила только на индейских диалектах. Я расспросил ее дальше.
– Кто твой отец? – спросил я. – А как ты говоришь на тукумари, если ты из племени паторадис? И как получилось, что ты оказался в плену у диких мьянкос?
– Мой отец, Бородатый, был Накади, вождь паторадис, а я Мерима, его дочь, – гордо ответила она. – Мы много торгуем с тукумари, которые наши друзья, и поэтому их язык нам известен. Мьянко всегда были нашими врагами, и они разрушили мою деревню, убили моего отца и взяли много пленных. Все были съедены, кроме меня, которую спасли, чтобы отвести к вождю Мьянко на съедение, ибо те, в ком течет кровь вождя, могут быть съедены только вождями. У меня не осталось людей, Бородатый, и ты не можешь отвести меня к моему народу, как ты говоришь. Но если ты друг, как говорит твой язык, и у тебя нет желания съесть меня, тогда я благодарю тебя за твою храбрость в спасении меня от Мьянко. Но ты владеешь великой магией, и я твоя раба.
Свернувшись калачиком в каноэ, она жестом завершила свой рассказ и заснула так спокойно и мирно, как будто несколько мгновений назад она не была предназначена для пиршества каннибалов или бездомной сиротой в шкуре незнакомого существа в сердце джунглей.
Пока я плыл час за часом и смотрел на девушку, лежащую передо мной без сознания, великая тоска наполнила мое сердце, и слезы навернулись на глаза, когда я вспомнил давние годы, те времена, когда моя дочь была потеряна для меня. Теперь Судьба привела эту безотцовщину ко мне. Я решил, что, если мы когда-нибудь доберемся до цивилизации, я удочерю ее как свою дочь, чтобы она заняла место моего давно умершего ребенка.
Что, если бы она была индианкой, частично альбиносом, как я и предполагал? Она была такой же белокурой, как многие белые женщины, она была красива, ее глаза, каждое выражение лица и поступок свидетельствовали о высоком интеллекте. Обучение и образование позволили бы ей занять свое место и сделать мне честь. И если бы мы спаслись, она была бы богата, потому что разве у меня не было состояния в изумрудах и золоте? Утешенный такими мыслями, безмолвно благодаря Бога, который направил меня, я плыл дальше, пока хриплые крики попугаев и туканов и крики бесчисленных птиц не предупредили меня, что приближается рассвет, и бархатное черное небо стало синим, и звезды погасли, и тенистый лес стал чистым и свежим в свете восхода солнца.
Глава VII
Мерима проснулась, когда первые лучи солнца пробились через реку и рассеяли ночной туман. На мгновение она выглядела озадаченной, но затем ее лицо прояснилось, она улыбнулась и произнесла утреннее приветствие тукумари:
– Мануйда (пусть этот день принесет счастье), о, Бородатый.
– И тебе того же, Мануэйда, – ответил я.
Вытащив каноэ на берег, я вскоре развел костер, и выражение удивления и восторга Меримы, когда я высек огонь с помощью кремня и стали, было таким же большим, как и у людей-обезьян, когда они впервые стали свидетелями кажущегося чуда.
Но она не хотела, чтобы я готовил еду. Это была ее работа, настаивала она, работа женщины, а не великого вождя, и, добавила она, я действительно был могущественным вождем, потому что разве я не один спас ее от Мьянко? Разве я не вызвал гром с неба, чтобы уничтожить и напугать их? И разве у меня не было короны вождя из пурпурных перьев?
Она была веселой и беззаботной, как ребенок, и я удивлялся, что она смогла так быстро оправиться от недавнего тяжелого опыта и тяжелой утраты. Но индейцы, как вы, несомненно, знаете, относятся к своим горестям и неприятностям легкомысленно и не делают свою жизнь несчастной, думая о прошлом, как это делают белые люди; и у них тоже очень разумная привычка. Пока она возилась у костра, я достал самый большой кусок ткани из коры, который у меня был, и, хорошенько выстирав его, повесил сушиться на солнце, так как собирался попросить Мериму использовать его для какой-нибудь одежды. Как ни странно, хотя я давно привык видеть индийских женщин обнаженными или почти обнаженными, все же вид Меримы, лишь очень небольшая часть ее прекрасного тела и светлой кожи, прикрытая скудной, похожей на юбку полоской ткани из коры, обеспокоил меня и показался мне нескромным.

